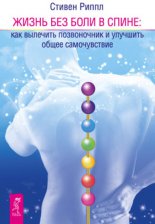Пушкинский том (сборник) Албитов Андрей

– Изволите говорить по-русски? не О-пушкин, а А-пушкин, – сказал человек оскорбленно. – Сходно-с с известным нашим сочинителем.
Игорь вскочил. Бред продолжался!.. он все еще в полосе анекдотической перегрузки, связанной с посадкой… он все еще в полете!
– Спасибо-с, не извольте беспокоиться-с, – лепетал он, вызволяясь из очередной петли времени, некстати вставляя, на всякий случай, это дикое «с» повсюду-с… – Но позвольте хотя бы узнать, который сейчас-с год?
– Что-сс?? – Свеча выпала, хозяйка упала, хозяин подносил ей к носу ту же ватку, а Игорь устремлялся к выходу.
– Извольте-с ваш сундучок-с и тросточку-с… – холодно сказал Апушкин, подавая Игорю его аппаратуру.
Игорь грубо выхватил их и скатился по лестнице…
И только тут, выскочив из двора на набережную – Фонтанка? Мойка? – и понял он, что уже СЕЛ. В Санкт-Петербурге. Но – когда?
Доказательством его прибытия больше, чем вид перед глазами, служила эта тросточка. Она была сложена! Это была такая старинная трость с откидывающимся плетеным сиденьицем для пожилых или больных грудной жабой. Это и был времелет. Верхом на палочке он и прилетел. А теперь она была сложена, и он стоял, на нее опираясь, чтобы не упасть. В сундучке-с находились аппаратура, валюта, смена белья и подложный паспорт на свое собственное имя.
– Пишу, читаю без лампады… – бормотал он, потрясенный.
И шагнул в белую ночь.
Но и на следующий день его адресок оказался неточен. И сложенность его стульчика не показалась ему столь доказательной. Беседуя с коллежским асессором Непушкиным (как на будущей картине Федотова «Утро майора» – в халате, колпаке и с чубуком…), Игорь совсем перестал себе верить.
– Да, да, – гордо сказал майор. – Не Пушкин. К сочинителям, по своему достоинству, никакого отношения не имею. И не только Не Пушкин, а Непушкин, фамилия совершенно отличная. И извольте-с выйти вон.
Но одно майор, не разобравшись поначалу, Игорю таки выдал, а именно: нос к носу оказались как раз 23 мая 1836 года.
Игорь не мог быть на него в обиде, хоть и спущенный с лестницы.
Он вышел в белую ночь. И это была та самая белая ночь. В конце Невского была «светла адмиралтейская игла». И опять та самая.
Кто знал сейчас, что будут Лермонтов, Толстой, Достоевский? Левочке было восемь, Федору – пятнадцать, Михаилу Юрьевичу – двадцать два. Игорь был их старше. И Пушкин еще жив! И никто не знал. Он, он один! Он чувствовал себя на вершине времени. И он радостно шагнул с нее, чувствуя себя Онегиным, Башмачкиным и Макаром Девушкиным одновременно.
Зато в третий раз его спустил с лестницы сам Александр Сергеевич.
«Никифор! Что ты там грохочешь? Наталью Николаевну разбудите!..» Он таращил Игорю вслед наигранного гнева веселые глаза. Роженица спала, и новорожденная спала. Он их только покинул и крался в кабинет, спокойный! С такой точностью Игорь как раз и не угадал момент приземления…
«Сделайте одолжение, умоляю, – писал Игорь в своем хлестаковском чердачном нумере, ровно два месяца спустя, – Александр Сергеевич, почтите хоть ответом. Я уж не знаю, как и просить вас. Зачем вы не генерал, не граф, не князь? поверите ли, сто раз не употребишь: Ваше превосходительство! Ваше высокопревосходительство!! Ваше сиятельство!!! Сиятельнейший князь!!!! и выше… то, кажется, и просьба слаба, никуда не годна и вовсе слаба…»
Теперь он подделывался под графомана (прилагая, впрочем, не менее как блоковские стихи…), пытаясь (в который раз!) «выйти» на самого Александра Сергеевича. Как незадачливый любовник, вычислял он часы и маршруты, подкрадывался – хоть краешком глаза… мысленно подсаживал под локоток, подавал трость, садился рядом в карету… так он оставался, глядя вслед экипажу, обрызганный грязью из-под колес. Пушкин оборачивался и смеялся. Сколько раз настигал зато его Игорь на Невском, проталкиваясь за ним по книжным лавкам. Старался незаметно, обрел бездну неведомых ему навыков, чем окончательно убедил поэта в том, что он шпион. И впрямь, лучше всего изучил он пушкинскую спину и плешь. Сюртучок у поэта был поношен, и пуговица на хлястике болталась, вот-вот оборвется. Доведенный до отчаяния, Игорь как-то притиснулся к нему у книжного лотка и пуговку-то оборвал – тот и не заметил. Единственный и был у него трофей! Игорь пришил пуговку внутрь нагрудного кармана, и сердце его стучало в пушкинскую пуговицу при каждой встрече. А Пушкин продолжал ходить с одной пуговицей. «И пришить некому…» – чуть не плакал Игорь. (Наталью Николаевну он видел уже четырежды: дважды она показалась ему совсем не такой красавицей, один раз ослепила, а в четвертый, самый невзрачный, – он уже влюбился без памяти, но все ж меньше, чем в самого…)
Письмо он отправил, но ответа не получил (да и не ожидал, признаться).
Многому он научился за эти два месяца, много познал!
Во-превых, что бы он ни думал о своем времени (втайне от других и втайне от себя), как бы ни любовался избранными эпохами в прошлом, он автоматически предполагал свое время опережающим времена предшествующие. Он спустился сверху, с форой в три века. Он был на триста лет старше, он знал, находясь среди этих слепых котят, что с ними будет. Верховное звание наблюдателя подготовило в нем заведомые чувства – силы и снисхождения.
Какой там наблюдатель! Вовсе не он смотрел, а на него. Поначалу он всё ловил себя на ошибках, своих и подготовки. Их было пропасть, он прибегал для успокоения к ядовитому смешку в адрес знатоков со «Спецкурсов вживания». Как приблизительно оказалось всё, что они преподавали! И прежде всего суточные, выданные ему в твердой валюте 30-х годов XIX века (буквально твердой: монеты эти были еще и тяжестью, золотые десятирублевки), – из какого соображения о ценах отсчитаны они были под столь строгую отчетность и расписку? что знали они о соотношении обеда, гостиницы и извозчика?… Какая каша! Кашу он в основном и ел в трактирах, никак не соответствовавших его костюму и претензиям на знакомство с Александром Сергеевичем. На кашу эту хватило бы ему и на десять лет, но на то, чтобы попытаться сойти хотя бы раз за человека… не хватало и на неделю. Понял он пушкинские затруднения! но в долг ему бы никто не поверил, вот что.
Итак, он снял самую дешевую комнату, ел кашу, хлебал щи, как Хлестаков, и ходил пешком не потому, что у него не было денег, а потому, что они могли всерьез понадобиться, а взять… Откуда взять-то! – вскипал он на лектора по финансам, рассуждавшего о дешевизне ТОЙ жизни. И деньги – они здесь такими новенькими не бывали… на них косились, а на него и так косились, но на зуб – сходило: золото! А эта профессорская убежденность в точности отдельных деталей костюма, произношения, манер!.. как раз чем точнее оказывалась угаданная в прошлом деталь, тем и подозрительнее. Шов был не тот! На Игоре застревал взгляд так, что первое время он беспрестанно себя осматривал: застегнут ли, не измазался ли… Но взгляд этот недоуменный ничего, кроме недоумения, не выражал: всё так, но что же не так? Ей-богу, спустись он в чем был, меньше бы привлекал внимание. Голос его не так звучал, слова… профессор фонетики преподал ему произношение по церковным службам, а он выдавал себя за дворянина! В общем, проколов была бездна, но губили, как он с удивлением потом понял, не проколы, а как раз совпадения, как раз точность. Точность торчала. Точным бывает лишь всё, а не кое-что. Ах, если бы все было кое-как и равно приблизительно! он бы и беды не знал. Выныривал бы чудаком, иностранцем, сумасшедшим… провинциалом. Провинциал! – вот было откровение и спасение. Он был провинциалом в эпохе, а не в пространстве и наконец научился, пообносившись, носить именно эту маску. Ее на него надели и отвели взор.
Нет, это не он смотрел, а его показывали XIX веку.
Во-вторых… Достаточно и во-превых.
Странное чувство (даже закон!) – он ожидал зрительного, слухового шока от встречи с прошлым – нет, ничего такого не было. Он видел лишь цитаты из того, что знал, остальное (всё!) складывалось в сплошной и опасный бред совершенно иной и недоступной реальности, будто он посетил не прошлое, а другую планету. Другую цивилизацию… «А что, ведь это так и есть…» – догадывался он. Реальность, сплошная, как забор с кое-где вывалившимися сучочками. Прикинешь – а там картинка, еще из школьного учебника, ее-то ты и знал. Разве что можешь сказать: своими глазами видел… Что от того Кремлю или Пизанской башне? Прошлое, в которое он попал, было сплошное и неведомое, как и для прошлого тот его настоящий день, из которого он вылетел. Оно казалось для него и более неведомым. Прошлое было НАСТОЯЩИМ со всеми его закономерностями. Пришелец его не предопределял.
И он начал жить в этом времени, хуже других, одиноко, неумело и неуютно, но – жить. И с этого момента он становился обладателем бесценного и уникального опыта, который был ни к чему ни здесь, ни там. Там от него требовались пленки и слайды, но не этот опыт – здесь и пленки были ни к чему. Здесь от него НИЧЕГО не было нужно. Он понял, что отсутствует в этом веке, так же как отсутствовал в нем и до прилета. Удивительное это чувство абсолютного одиночества и заброшенности одарило его (впрочем, не сейчас – одарит еще однажды…) и удивительным счастьем, равным отчаянию: никому не ведомым на земле ни в какие времена чувством ПОЛНОЙ свободы. Его, Игоря, не стало.
Пушкин и Петербург заполнили его, и – хватило. Он лежал целыми днями на унылой своей койке и мысленно проживал пушкинский день в точь так, как и Пушкин (он вспомнил, что в каких-то поздних воспоминаниях о нем читал его признание, что когда он влюблен, то не расстается с предметом своей любви ни на секунду: садясь в экипаж, мысленно подсаживает свою даму и садится рядом; гуляя, срывает ей цветок, подает упавший платок…): ехал с ним во дворец, забывал треуголку, возвращался за треуголкой… возвращался за полночь, проиграв или выиграв, целовал Наталью Николаевну в лоб, она с ног валилась… Проходил в кабинет, звал Никифора, а тот уже знал, нес ему полный графин лимонаду… начинал Пушкин как бы нехотя рыться в рукописях: не за эту и не за ту не брался… Ведь Игорь всё это ЗНАЛ, он всё это изучил и любил, и теперь – каким же смыслом наполнялось всё это, отрывочное, о параллельности (полчаса пешком) пушкинского живого существования! Он слышал за стенкой своего нумера пушкинские вздохи и шаги.
Или бродил целыми днями по Петербургу, отыскивая НЕ-пушкинские места, где он НЕ ходил, НЕ бывал, где еще что-нибудь построят ПОСЛЕ него, – и тогда, соскучившись, возвращался в Петербург ПУШКИНСКИЙ, как будто вновь прилетел. Вневременность его, как, впрочем, и самого Петербурга (вот город-пришелец!), будто проступила в чертах Игоря, на него вновь стали оглядываться, но – иначе: кто-то здесь только что был? – никого. Он стал тенью Петербурга, слился. Тут и ожидал его успех, там, где не ждал и не надеялся. Успех ведь тоже хочет дождаться…
Он решительно поразил одно воображение. Павел Петрович Вяземский… да, да! тот самый… сын друга… «Душа моя Павел»… как много про него знал Игорь, пока тот про него – ничего! Именно тот, кого Пушкин учил в карты, с кем гулял…
У Игоря зашевелились волосы, когда ему САМ представился, со множеством извинений, этот милый молодой человек. У меня шевелятся и ползают листки рукописи от множества бабочек, налетевших на мой свет. Когда кончается страница и удовлетворенно переворачиваю ее текстом вниз, чтобы, не дай бог, не ужаснуться написанному и мочь продолжить… то кладу я ее на предыдущую, уже усиженную полдюжиной бабочек, они спят, но, покрытые страницей, начинают ползать, и рукописи мои шевелятся, к моему ужасу и восторгу. Три изумрудных вроде комарика ползают, таращась хоть и микроскопически, но на редкость отчетливыми глазками, по черновику; кромешный жук в ядовитую, как мухомор, крапинку упал на лист с устрашающим стуком… кто скажет, из какого времени они? Вы сами ничего не найдете в ушедшей эпохе, кроме того что она вам сама оставила. Вы из этого-то найдете не всё. Человечество тоже живет своей частной жизнью, скрытой от глаз посторонних, – это и есть история. Она недоступна. Поглядывать в эпоху – опоздали-с. Иначе зачем же так тщательно писать дневники и письма, забывать их пыльные связки на чердаках и в чуланчиках, как не в расчете на Игоря? И Павел Вяземский напишет свои дневники, и в них – ни слова об Игоре.
Он прямо-таки неприлично для светского человека вцепился в Игоря, по-юношески влюбился как в старшего, в его воплощение, в его петербургскую тень. Всюду таскал с собой… Всем представлял. Муханову, тому самому, кому Пушкин первому свой «Памятник» прочтет… и Муханов не заподозрил, расположился… И впрямь Игорь стал знаток. Именно утаивая свое знание будущего, он как-то особенно умел прикоснуться к настоящему. Он стал то, что называлось поэт, как говорилось про человека, который необязательно стихи пишет. Поэты ведь тоже зрят в будущее. Но вперед – не назад. Игорь был непишущий поэт. И в этом качестве – был значительным, внушал большое… Павлуша охотно исповедовался Игорю: как тот умел слушать, выжидая в своем ухе, как в засаде, что-нибудь про Пушкина, но никогда уже не задавая вопросов… Павлуша доверял ему свои сердечные и фамильные, и про университет, и про научные планы… ни слова о Пушкине!
И вот свершилось! Он сидел на квартире Муханова, ждал Пашу; лакей доложил о Пушкине.
– Опять! – сказал Муханов с мягкой досадой.
Александр Сергеевич не ожидал постороннего. Взгляд его скользнул по Игорю косо. Игорь был представлен и от многости того, что хотел бы вложить в первую же фразу, что-то лепетнул почти односложное. Александр Сергеевич зацепил его взглядом чуть более пристально, приколол, как бабочку. Однако, показалось, Игоря не признал (тот давно уже его не преследовал по пятам и изменился, как мы говорили). Тут же уселся около вазы с виноградом и стал быстро-быстро его щипать, виноградину за виноградиной, цепляя своими огромными ногтями, более походившими на когти. Игорь второй раз видел, как он ест, и второй раз он ел фрукты. «Нет, он не похож на обезьяну…» – тупо подумал Игорь, сердце которого почему-то сжималось от некоего чувства непоправимости. Между виноградинами поэт поинтересовался, о чем прервал беседу. Узнав, что речь у них шла о недавнем открытии обитаемости Луны, он очень развеселился.
– И вы в это верите? – спросил он именно Игоря, напирая на это «вы» и до странности пристально вглядываясь ему в глаза.
– Я – нет, – сдавленно ответил Игорь.
– Еще бы! – непонятно сказал Александр Сергеевич и стал по-своему доказывать, почему она не может быть обитаема. Человеку из XXI века особенно восхитительно было это слушать. – Дерзкий пуф, – заключил он. – Отважная выдумка. А не сыграть ли? Ведь нас трое.
Игорь замямлил, что плохо играет, но не мог сопротивляться уговорам кумира. Муханов вышел распорядиться: свечи, карты, кофий…
Возникло неловкое молчание.
– Лет через двести она, наверно, будет заселена… – как мог уклончиво отвечал Игорь.
– Что, на Земле уже не хватит места?
– Не будет, – сказал Игорь и испугался.
– Так, значит, у вас уже есть бальзам от любой раны? – спросил он внезапно, как выстрелил.
– Бальзам? Какой бальзам… – лепетал Игорь, тут же догадываясь, что писал в самом первом письме о пенициллине, который может спасти от воспаления брюшины.
– Ведь это вы мне писали, что вы из будущего?
«Вот он, момент! Гений…» – устало подумал Игорь.
– Нет, – сказал Игорь. – Я не писал.
– Ах да, простите… – Александр Сергеевич заскучал и снова принялся за виноград. Виноградины напоминали его ногти, а ногти – виноградины… – Но вы мне писали про свои стихи? Ведь так?
Отступать было некуда.
– Так, я писал, – согласился Игорь. У него вспыхнула надежда на Блока, не мог же Он не оценить…
– Весьма любопытные грамматические ошибки, – одобрительно сказал поэт.
– А стихи?
– Там были стихи? – искренне удивился Александр Сергеевич. – Жаль. Кто же посылает стихи вместе с письмом?
Игорю опять показалось все в глубоком уменьшении и удалении. В бесконечной дали веков поглощал гений свой виноград… А Игорь опять будто раскатывал блестящий шарик по ладони, как собственную голову…
– А что в ваш век думают про рога?
Александр Сергеевич снова будто вовсе не ел винограда, а всё время пристально смотрел на Игоря и был будто в белом халате, так серебрилось всё перед взглядом, в дымке, кроме его глаз…
Боже мой! он же ВСЁ знает!.. УЖЕ знает. И про меня, и про себя… Рога!
Оказывается, последнее слово он уже произнес вслух:
– Рога… – и, зная наперед всю эту историю, пытаясь уйти в сторону, обогнуть, он уже говорил и каждый раз слышал, что сказал, ровно на фразу позже произнесения, словно, как репродуктор, был сам от себя отнесен на расстояние стадиона. – Как сказать… Во всяком случае, биологи не в состоянии объяснить их одной лишь природной целесообразностью, как одно лишь средство защиты и нападения. Они избыточны и неудобны. Они чересчур разнообразны и витиеваты, без какой-либо надобности, кроме как украшения…
Александр Сергеевич внимательно рассматривал свой бесконечный ноготь. Игорь смешался еще больше.
– Вот и ваш знаменитый ноготь, и кольца… – лепетал он, зажмуриваясь и прыгая в бездну. – Это тоже можно отчасти отнести… Ноготь и рог имеют одно строение. Это вторичные мужские признаки… Хвост павлина, фазана…
Он смолк.
– Забавно. Продолжайте.
Игорь открыл глаза и увидел Александра Сергеевича неожиданно близко – лицо к лицу. На него смотрел негр.
– Я, впрочем, филолог. Я не в курсе, – вдавливаясь в кресло, отодвигался Игорь. – Мне даже ближе точка зрения не вполне научная… – и дальше продолжал, захлебываясь, засасываемый трясиной собственной речи: – Что избыток этот – рога – в его разнообразии, есть еще одно опровержение теории естественного отбора в пользу сотворенности мира, в пользу Творца. Это Он, как художник, любуясь своим творением, нарушил скучную целесообразность и украсил… прекрасными рогами…
Он ждал пощечины, и ее не последовало. Над ним стоял Муханов со свечой и колодой…
– Вы что-то сказали?
– Ушел, – сказал Муханов. – Добрый малый. Но часто весьма.
…И Павлуша прекратился, как обрезали. Несколько раз не заставал его Игорь, хотя до того он всегда сам Игоря находил. При встрече на улице Муханов едва раскланялся и явно уклонился от разговора. Игорь понял. Он не мог сердиться на Александра Сергеевича за то, что тот наговорил Павлуше, оберегая младшенького… А ЧТО Муханов?! Господи, пыль его сапог… Дышать одним воздухом… видеть издали… Шпион, сумасшедший, графоман… Что такого?
Игорь дожил с ним до конца. Не так много уже оставалось. Он еще пытался вмешаться – преградил дорогу Наталье Николаевне, пытаясь предотвратить роковое свидание у Идалии Полетики… И только напугал бедную, она не разобрала его горячечной речи, тут же вынырнул как из-под земли спортивный, поджарый полковник и смело и обеспеченно дал продрогшему и обношенному Игорю в челюсть. И когда Игорь пришел в себя, то и признал в прохаживающемся на страже у подъезда полковнике – будущего ее мужа… Как же он ненавидел Ланского! Сторожить свидание с Дантесом, своим подчиненным, чтобы через двенадцать лет просить руки Натальи Николаевны…
Не агент ли сам Муханов из еще более далекой эпохи? Игорь уже бредил. Ланской – не агент ли?… уже из XXII.
Игорь очнулся через две недели, провалявшись на своем чердаке в тяжелейшей лихорадке и беспамятстве. Выжил. Всё было кончено. Не он бросился под сани, мчавшиеся на дуэль, не он выбил пистолет из руки Дантеса, не он толпился с народом у квартиры у Конюшенной церкви, не он… тройка с А.И. Тургеневым и гробом умчала без него… только снег завился. Игорь было погнался… но – видно, еще в бреду – почему-то закружил вокруг Лицея и чуть не попал под первый паровоз, выехавший на него прямо из пушкинской смерти.
Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина и его самого больше не было. И, задолжав бесконечно хозяину и докторам, он расставил свой стульчик, то есть сел верхом на свою палочку…
Он здраво рассудил, что Пушкин тогда еще его не знал.
И там он был всё еще жив!
И он пустился вспять, в ТУДА, в ТОГДА.
Вооруженный опытом тридцать шестого года, подкрадывался он теперь наверняка, нацелив объектив и микрофон к высшему, как он исчислил, мгновению… а там – будь что будет! Он шел напролом, как лось сквозь осеннюю рощу. С печальным шумом обнажалась… Ложился… на поля… туман. Всё было так. Он шел напрямик, шурша по строчкам, как по листьям. Ничего не видел. Длинная его фигура выныривала из тумана, меж стогов, и пропадала в нем. Он олицетворял себя с этими клочьями, листьями, кочками… Впереди слабо светилось окно. Там, за ним, писался сейчас «Медный всадник»!
Отвыкнув от себя, от своего тела, которого давно не чувствовал, он не боялся быть замеченным. От нетерпения он прямо приник к окну: вот оно!..
Да, горела свеча… да, лежал в крошечной коечке человек и что-то так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией, как младенец… Как причудливо он был одет! В женской кофте, ночном колпаке, обмотанный шарфом… Но это был не Пушкин! Младенец был бородат и время от времени свою бородку оглаживал и охаживал, а потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге.
Теряя рассудок, Игорь постучал в окно прежде, чем понял, что делает.
В исподнем, накинув тулуп, бородач вышел на крыльцо, прикрывая свечу ладонью. Вот это был портрет! Это был бородатый Пушкин! Странно колебались по лицу снизу вверх от свечи тени.
– Кто здесь?
– Это я, – по-детски сказал Игорь.
Свеча описала полукруг, Пушкин пропал в ночи, Игорь зажмурился от света.
Оба молчали.
– Бедный… – с невыразимой болью и состраданием сказал из тьмы бородач. – Бедный… Не дай мне Бог… – И вдруг что-то сильное и легкое прикоснулось одновременно к его голове и руке. Ладонь скользнула по лицу. Какая она была горячая и сухая! Мокрая… Пушкин утер ему слезы, которых он – не чувствовал, стремительно повернулся так, что свеча погасла, и хлопнул дверью. Игорь разжал ладонь – в ней лежала золотая монета.
Утром Игорь проснулся в стогу. Вышел к озеру, умылся. Прикосновение к щетине не понравилось ему, и он извлек из сундучка свой несессер. Внимательно разглядывал он свое лицо, которое ночью погладил Пушкин… Всего три года, а как он постарел! Эти седые патлы… И эта безумная бледность, и глаза… «Вот и точная датировка: „Не дай мне Бог сойти с ума…“» – ухмыльнулся Игорь.
Так он втянулся в эту погоню. У него была ни с чем не сравнимая возможность поправлять предыдущие ошибки. Он гнался за Пушкиным в глубь его жизни, где тот его не встречал. Странное дело! Чем больше становился его опыт, чем моложе Пушкин и старше он сам (год спустя, то есть на год раньше «Медного всадника», они были уже сверстники!), тем быстрее и ловчее (будто и он становился опытнее) отделывался от него Александр Сергеевич.
Последняя встреча удалась Игорю в 1829 году на будущем Пушкинском перевале. Он хотел улучить момент, когда Пушкин встретит арбу с Грибоедом. Его иногда охватывало сомнение, так ли оно было на самом деле: слишком уж историческое стечение. Игорь много теперь знал про историю, какая она не такая.
Он долго решал, когда лучше попытаться заговорить с Александром Сергеевичем: до арбы или после? Решил – до. Потому что если арба и впрямь была, то вряд ли удастся «войти в контакт» после такого потрясения. А если не было, то не всё ли равно когда?… Опытный, он точно всё синхронизировал и сложил свой стульчик ровно в тот день и час и на той дороге…
Пушкин ехал на маленькой мохнатой лошадке в сопровождении казака с винтовкой. Игорь опять не сразу признал его – в плаще и широкополой шляпе. Игорь, на этот раз тщательно выбритый и причесанный, подновивший платье, с тросточкой и сундучком – странный странник! – вышел навстречу из-за поворота, спускаясь с перевала в то время, как Александр Сергеевич ехал в гору, то есть медленно. В дороге легче разговориться; его странный и европейский вид расположил Александра Сергеевича; Игорь выдал себя за путешественника-ботаника из Вены… Всё шло как по маслу. Александр Сергеевич поинтересовался ночлегом на пути к Эривани. Ганс Эбель (так назвал себя Игорь) поинтересовался погодой в Тифлисе… Игорь-Ганс стал рассказывать про возраст этих гор, задумав именно так переметнуться к убедительной для Александра Сергеевича версии о возможности временных смещений (сброс, соседство пород)… Он ничем, казалось, не выдал свое знание, что перед ним поэт, что перед ним Пушкин, но взгляд из-под шляпы неожиданно удлинился, будто устремляясь поверх и вдаль; привычный испуг предыдущих провалов морозом прошелся по спине Игоря, и та самая монета, которую в октябре 33-го подал ему поэт, навела его на судорожную мысль. Он извлек из кармана эту монету 33-го года чеканки и протянул Александру Сергеевичу.
– Что это? – рассеянно сказал поэт, по-прежнему вглядываясь вдаль и поверх.
Пушкин посмотрел с досадою на монету.
– Так ведь сейчас двадцать девятый! – с отчаянием воскликнул Игорь.
– Конечно. Постойте… – и он пустил коня вскачь. Навстречу арбе.
Арба – была.
И это он спугнул зайца с лежки так, что тот перебежал поэту дорогу в декабре 1825 года…
Странная мысль закралась вдруг в голову нашему времелетчику… А что, если… Нет, быть не может! Однако…
Почти двенадцать лет длится эта погоня. И я уже не собираюсь ее прекратить… Так, значит, так, может… так он меня УЖЕ видел! Вот отчего он всё лучше распознает меня… Тогда, в 36-м, у меня было больше шансов… Я был моложе, неузнаваемей… И здесь, на сугробе, в виду цепочки треугольных следочков, в конце которых, по выражению поэта XX века, «обязательно будет заяц», он разрыдался.
И здесь, на сугробе, отрыдав свое отчаяние, принял он спокойное и окончательное решение так и не вернуться в свой век. «Ну что ж. Дам ему время, пусть подзабудет, – рассуждал он, отважно путая времена. – Не буду тревожить его в ссылке, скоро уж он и вернется. Отправлюсь вспять, в Петербург, поживу там годика три и дождусь его возвращения…»
И мы, всем сердцем сочувствуя герою, не заставим его еще раз признать поэта в картузе – молодого, хорошенького, в красной рубашоночке… Он шагает по сельской дороге и зашвыривает вперед себя знаменитую железную трость: закинет, догонит, подымет. Тренируется, чтобы рука не дрогнула, когда стрелять придется… Сорвался, ах, черт, в кусты… Поэт ползает по траве. В кустах не дышит Игорь, держа палку эту пресловутую, ах, черт, чуть не прямо в голову попал… Где же она… Господи прости! – ползает в траве, как жук, никем, кроме Игоря, не наблюдаемый, то есть не наблюдаемый уже никем… как жук в траве ползает гений, только что отписавший «Цыган».
Так Игорь оказался в Петербурге 1824 года. По дороге, то есть пока он сидел на своей палочке, случился с ним очередной вневременной казус: одежда его распалась и деньги исчезли – они были моложе 1824 года. Так его грабило время, как вор на большой дороге, и оказался он голый, с сундучком и тросточкой, и что было ему делать?
Ничего не оставалось, как версии ограбления и придерживаться. В участке обнаружат много несоответствий в показаниях, передадут выше, вплоть до III отделения. Там несоответствиями пренебрегут, зато предложат дружбу.
«Как они, однако, логичны! – думал Игорь. – Обнаружить себя на службе именно в III отделении! Провинциал, на возрасте, без состояния, без определенного места жительства…» Ему вдруг стало скучно, он отнесся к предложению вяло и безучастно, почти согласный с ним, как с приговором.
И тут будто ветер, будто вспышка, будто ласточка, будто фалдочка знакомого фрака… «Гений! – восхитился Игорь. – Как он был прав с самого начала! Сразу распознал, что шпион…» Он вспомнил свои первые шаги в 1836 году, и вдруг оттуда, из той неудачи, Пушкин наконец протянул ему руку.
Игорь руку ту ухватил, подтянулся и из ямы выбрался… А Пушкина и след простыл. «Как хорошо! – радостно вышагивал на воле Игорь. – Как бы я ему в глаза посмотрел, когда он вернется в 1826-м!..» Диву давался, что его пронесло. Да и мы, признаться, диву даемся.
Представьте себе не то что конца XXI… современного интеллигента… Как беззащитен!.. Что он может, что он умеет, что он даже знает вне круга столько же о том же знающих? Вычтите его из этого круга заслуженной карьеры и опоры, что останется? Ни ремесла, ни состояния.
А он уже совсем по тем временам старичок лет сорока, седой почти. Двенадцать лет! И каких! Так или иначе разделенных с Пушкиным. Дома, в XXI, назначили бы ему инвалидность или какой-нибудь пенсион, как балерине, шахтеру или подводнику, а здесь…
Приобрел-таки трудовую биографию в масштабах нашего начинающего литератора.
Разносчик, конторщик, репортер, переводчик в порту… Ему, столь образованному, почти на три века вперед пришлось наконец-то чему-то поучиться. Как он был горд, когда освоил счеты! А делить и умножать в столбик… Считать ведь приходилось не себе, а хозяину. «Откуда цифра?» – спросит хозяин. Как ему объяснишь, что компьютер не делает ошибок?… хозяин хочет сам убедиться. Как музыку, слушал Игорь собственное щелканье костяшками, всё более артистичное, и про компьютер забыл с удовольствием. И русский язык его был не лучшим, но и тут он преуспел: говорить на всё более и более русском языке было медленным, мучительным удовольствием. И писал он уже почти без ошибок, особое наслаждение испытывая, когда вовремя вспоминал про «ять».
По пушкинским следам он прижился в Коломне, поближе к его прошлому, к его первым квартирам, к его будущей поэме. Такой же домик – «светелку, три окна, крыльцо и дверь» – нашел он, хоть и до службы далеко, зато ближе к хозяйской дочке Наташе, о которой он как бы и не помышлял, но всё же домой было возвращаться приятней. Она была угловата и мила – она краснела, он смеялся, и она обязательно спотыкалась, споткнувшись же, непременно выбегала куда-то за печку, за занавеску, на кухню, и Игорь еще долго улыбался, довольный. Он брякнул как-то ей комплимент, что она похожа на свою тезку Ростову, и долго не мог простить себе этот анахронизм: Наташа впала в мучительную ревность к своей предшественнице. Строгая мамаша не обольщалась в той же степени достоинствами дочки и прежде всего ее приданым, а потому при всей подозрительности, а может, и благодаря ей довольно стремительно склоняясь к тому, что лучшей партии дочери и не сыскать. Что ж, что не молод и со странностями… Странность была – долгие прогулки по городу и бормотанье: не то напевает, не то сам с собою разговаривает – для песни мало, для речи много. Однако счастье дочери мамаша не так легко вверяла в чужие руки – проследила, куда ходит, к кому. Проследила и успокоилась: никуда и ни к кому. Не пьет, не курит, не посещает… что ж еще? И он бродил, бормоча будущие строки: например, всё те же:
- И щей горшок, и сам большой…
И усмехался, довольный.
Так он обрел свое скромное, эмигрантское счастье.
И еще вот что: он начал писать.
Нет, не стихи… Стихами при Пушкине не побалуешься.
Прозою он писал. То экспедиционный отчет, то мемуары из XXI века, то даже пробовал из современной жизни 20-х годов ХIХ. Не хуже уже получалось: вся русская проза была еще в будущем.
Две его заметки были даже в газете напечатаны. Они могли попасться на глаза Пушкину!
Но и тут досадный анахронизм: рассуждая о современном градостроительстве, Михайловский манеж назвал он Зимним стадионом, а Петровскую площадь – даже не Сенатской, а – площадью Декабристов…
Так он жил и ждал. Между тем еще ни наводнения, ни восстания.
«Странен без Пушкина Петербург! Будто при нем и был построен. Будто сто лет понадобилось для продолжения его строительства, сто лет от Петра до Пушкина – и снова застучали топоры, завизжали пилы, заскрипели лебедки.
Одновременно начали строить всё, что казалось нам потом построенным последовательно: и Биржа с пристанью и набережными, и казармы, и конногвардейский манеж, и перестройка Адмиралтейства, и бульвары, и мосты, и Казанский собор, и Исаакиевский, и Троицкий – росли рощами из колонн, но куда быстрее рощ, а уж жилые трех-четырехэтажные дома – не просто как грибы.
Запомнив Петербург 1836 года, Петербург, из которого Пушкин ушел навсегда, вы бы очень удивились Петербургу в 1824-м, на каких-то двенадцать лет младше: ни здания Сената и Синода, ни Сфинксов, ни Александровской колонны, ни тех, ни других триумфальных ворот, знаменитых львов вдвое меньше… почти ничего из того, что будет когда-нибудь носить его имя: ни Александринки, ни Пушкинского Дома. Будто всё стремилось поспеть в пушкинскую строку, торопилось блеснуть в его взоре.
Нет! Он не мог умереть! Я же вижу его живым, садящимся в поезд в том же 1837-м, вижу, как он пряменько так на скамеечке сидит и в окошко поглядывает, и мальчишеский смех рвется из его глаз. „Ему и больно, и смешно…“ Проклятый господин Облачкин! Это было 7 января. Я сунул червонец Никифору, он не устоял, сказал, что всё сделает. Я стоял у подъезда, сжимал коробку с пенициллином, сердце выпрыгивало у меня из груди, и перед глазами плавали круги, но необъяснимая уверенность, что на этот раз он меня выслушает, была сильнее страха. И тут этот мальчишка-купчик лет четырнадцати со своей слюнявой тетрадкой, и мимо меня, и прямо к той же двери… Повар ему открыл, а тот тетрадку сует. А я уже слышу, что Пушкин спускается, его голос – Никифор меня не подвел… А повар мальчишку выпихивает: Пушкин занят, говорит. И дверь закрыл. Тьфу, черт, думаю, принесла тебя нелегкая – всё запутал. Однако мальчишку жалко: шагнул, понурый, и личико у него как фамилия. Ну, и поделом, однако, думаю, он и блоковских (моих) стихов читать не стал, что ему облачкинские! Тут дверь распахивается, я возликовал: это Никифор, за мной! А это всё тот же Василий… Меня отпихнул, бежит, кричит: „Господин Облачкин! Господин Облачкин! Вернитесь!“ Облачкин взлетел, а перед моим носом Василий опять дверь закрыл. Я уж закоченел совсем, а – ни Пушкина, ни Никифора, ни даже Облачкина. Наконец дверь распахнулась со счастливым Облачкиным в проеме, за ним Никифор, смотрит на меня смущенно, плечами пожимает, руками разводит… „В следующий раз, барин“, – говорит. Что делать? Я – за Облачкиным. Придушить его готов. Так и так, ему говорю, такой-то и такой-то, тоже поэт, тоже Александру Сергеевичу стихи приносил, да вот ему повезло, а не мне… какой он, мол, спрашиваю, очень строг? „Что вы? – отвечает Облачкин. – Душа! Я уж кому ни носил, никто и не разговаривает, а он так сразу и прочитал тут же тетрадку, и похвалил, и еще, если напишу, приносить велел“. Не утерпел я. „Покажите!“ – говорю. Он, окрыленный, охотно мне тетрадку отдал. Смотрю: это же надо! Ну, ничего, ничегошеньки просто в его виршах нет! И чтобы сам Пушкин… „А что же он вам сказал?“ – домогаюсь я. „Спросил, сколько лет, да богат ли батюшка, да своя ли у меня фамилия…“ – „То есть как, своя ли?“ – „Ну, не псевдоним ли я какой выбрал…“ – „Ну?“ – „Ну, я говорю, что своя, совсем своя. А он просто так обрадовался, начал меня щекотать, тискать и хвалить. Молодец! – говорит“. Что поделать, гений! Что ему мой пенициллин, когда по земле мальчики-поэты такие фамилии носить могут…
Нравится мне здесь его поджидать. Всё так медленно, а – быстро! И всё время – что-то. А там, у нас, всё быстро, а – ничего. За двенадцать лет, что я в Петербурге не был, сколько еще предстоит при Пушкине построить! И всё это будет построено. На всё это смотреть можно будет веками и строчки его бормотать! А у нас… И писать-то нечего: ни одной детали, хотя всё одни детали. Вон охтинка идет с бидоном, так она в голландском чепце, а у нас – порошковое из отдельного краника со счетчиком льется, – и краник не из металла, и счетчик электронный. Вон санки проехали, так у них и полозья скрипят, и из-под хвоста лошади конские дымящиеся яблоки сыплются, и у ямщика что кушак, что морда краснее некуда, а у нас залез в прозрачную скорлупу, сложился втрое, как зародыш, телефонный номер набрал, кнопку нажал, и никто тебе даже „алло“ не скажет, а – в ту же секунду сидишь ты напротив абонента за четыреста тысяч километров, и он тебе искусственный аперитив предлагает, который прикрепляется, как клипса, в нос, и балдей, если можешь, вот уж „неалло“ так „неалло“… У них – так я сейчас, от обиды на Облачкина, в трактир зайду, и меня „человек“ обслужит, человек – это у них презрительно почти звучит, потому что не господин, а человек всего лишь, а для меня то, что мне не механическая рука мечет, то, что таракан и муха, только что живые, в тарелке плавать могут, что человек живой и салфетка его грязнее улицы – всё это одно счастье и умиление. И метры здесь не квадратные, а спальные, да гостиные, да столовые. И нет всех этих кишок, трубочек и проводочков, гарантирующих нам жизнеобеспечение: воду, воздух, тепло, свет, связь, информацию… как умирающий в реанимации – отключи проводки, и где ты, человек? А тут: эй, человек! что там у тебя есть? Ну, хотя бы и лимонаду…
Как медленно всё тогда строилось, как быстро! И всё это оставалось вплоть до нас, никуда не девалось. Примитивны орудия, и труд почти рабский. Соображения инженерные будто бы скудны, средства технические безнадежны… Отчего же так хорошо получалось? Лучше, чем потом, со всеми нашими ухищрениями? Рука была умна, и ум был ручной. И не было движения бездумного, и не было мысли незаботливой. Нет, не пойму пока…
Вот кого я еще не прощаю – так это Брюллова! Ну что ему было картинку ту Александру Сергеевичу не подарить… тоже мне, Рубенс, европеец дутый! Ведь Александр Сергеевич даже на колени вставал, пусть в шутку, но искренне, но вставал… а тот: потом, мол, подарю. А ему три дня жизни всего оставалось. Главное, потом еще и домой к нему пришел. Александр Сергеевич ему детушек сонных выносит, хвалится. А тот: ну чего ты, спрашивается, женился? Грустно вдруг стало Александру Сергеевичу, скучно. Да так, говорит, за границу не пустили, вот и женился. А тот из-за границы всю жизнь не вылезал, и женат не был, и детей не имел – ни шутки, ни грусти его не понял.
А ведь правильно не подарил! Потому что откуда же знал, что тот погибнуть может. И ехал бы живой Александр Сергеевич в том первом поезде из Петербурга в Москву и картинку с собою, подаренную Брюлловым, увозил с собою…»
«Так он писал темно и вяло…» Здесь бы и должна начаться повесть о бедном нашем Игоре, коли уж он решил здесь жить… Здесь бы и начать, да уж больно некогда. Срок авторского пребывания в деревне решительно подходит к концу, так неужели опять не допишу ничего до конца? К тому же под рукой никаких источников – не только по Петербургу пушкинского времени, а даже и просто томика самого Пушкина нет. Нет под рукой источников в деревне, но и обычных источников в деревне нет. Ни озера, ни речки, ни колодца, хотя с неба льет не переставая: сена так и не просушить. Источников нет – прудики копаем. В глине вода стоит, никуда не уходит – из прудиков ведрами черпаем, в дом носим. В доме тепло. Если печь протопить. А если не топить, то холодно. И если воды не принести, то ее не будет. И идти за ней – по дождю и глине. Глины по пуду на сапог, и скользко. И свет отключился, а трансформаторная будка – через всё поле. Далеко, и по тому же дождю. Из трех наших домов все в окошки поглядывают: кто пойдет, а никто пока не идет. Свечки зажгли в окошках, и я зажег. Мысли автора и героя начинают пересекаться: прав он про реанимацию… Пусть и не столь совершенна наша техника по сравнению с его будущей, а и я там, в столице, пусть кривыми, ржавыми да грубыми, но кишками к общей жизни, без которой мне и дня не прожить, подключен – к батарее, унитазу, телевизору… о шнуры спотыкаюсь. А если, не дай бог, то, чем Чистяков давеча грозил? По телевизору комментатор грозит – раз грозит, два грозит, привыкаем. Не страшно. Не угроза это, а «обстановка в мире», вроде мебели: там Англия стоит, тут Зимбабве бурлит, здесь бомба висит… А отключи меня… Да что говорить, тут однажды не то чтобы горячую воду отключили временно, тут однажды из обоих кранов кипяток пошел… три дня рук не помоешь, не то что лица не сполоснешь. В городе – страшно, если без телевизора да чистяковские мысли думать. А здесь, в деревне, не так страшно. Потому что отключать не от чего. Потому что здесь война уже будто и была. В соседней деревне Турлыково на днях последний житель погиб. Ехал в кузове, грузовик перевернулся, и на него ящик с гвоздями… Был я в той деревне. Красивая деревня, много красивей нашей, как и название ее. Сама – на холме, вокруг – луга, вокруг лугов лес – высится деревенька над нашей, как храм Божий. И жила она лучше нашей, видимо. Потому что и колодцы есть, и окна резными наличниками украшены. Значит, было время не только на прокорм, а и на удобство, и на красоту – признак крестьянской цивилизации! Дома стоят почти целые, вселяйся и живи, ну, подремонтируй слегка и живи, – а только жить некому. Я в дом один вошел: в буфетике – и стаканы, и ложки не то чтобы ценные, но годные, а в шкафу – даже платье на плечиках висит. Инвентарь подобрать можно: ножовку хорошую, или молоток, или косу… Будто бежали отсюда наспех, будто от проказы или будто нейтронную бомбу именно здесь испытали. Суровый здесь, конечно, край: ни климата, ни почвы – север да глина. Вода всё время с неба, вода и вода. Дорог, конечно, нет. Но ведь жили! Не одно поколение, если уж наличники вырезать стали… В какое время сбежали они? В завтрашнее. Они сбежали, а я чего здесь делаю? А я здесь пытаюсь сделать вещь, хоть какую, хоть такую, потому что там, откуда я, уже никакой вещи не сделаешь из-за связи с миром, не с делом, а со всем миром, с телемиром, – фоном и – визором. Деталь там живая не водится.
Корова мычит сейчас, и трава растет сейчас, и дождь льет сейчас, и делать что-то нужно именно сейчас. Не вчера и не завтра. Если поставить времени запруду, пытаясь задержать прошлое или накопить будущее, то вас затопит через крошечную дырочку под названием «сейчас», и вы захлебнетесь в потопе настоящего.
Игорь, конечно, знал про наводнение. Но к этому историческому отрезку его специально не готовили, планируя его пребывание лишь в 1836 году. Он знал, что осенью, что в этом году, что больше всего пострадают Гавань, Васильевский остров, Петроградская сторона… Зато они жили в Коломне, которая он не помнил, чтоб так уж пострадала. А в Гавани он работал, следовательно, первым встретит наводнение и успеет принять меры для безопасности будущего семейства. К тому же он расписался, у него пошло, повесть из современной петербургской жизни веяла свежестью пришельца и знанием постояльца. Временами ему казалось, что ее и Пушкину будет не стыдно показать. Правда, лишь, временами… Вспоминая про грядущее наводнение, он бормотал бессмертные строки будущего «Медного всадника», словно полагая его чем-то вроде путеводителя в приближающемся испытании.
День 6 ноября был дрянной, хлестал дождь, дул проницательный ветер, вода значительно возвысилась в Неве. Вечером на Адмиралтейской башне зажгли сигнальные огни, предупреждая жителей от наводнения. Однако почивали все мирно, и Игорь уснул, уронив утруженную голову на рукопись. С рассветом он поспешил на службу – полтора часа быстрого ходу не шутка. Стихия разыгралась против вчерашнего, волны разбивались о гранитные набережные, вставая стеной брызг; вода из решеток подземных труб била фонтанами, собирая вокруг себя любопытных. Игорь шел навстречу стихии и не боялся потому, что всё дорогое оставалось в тылу: и Наташа, и рукопись. По Исаакиевскому мосту он перебрался на ту сторону Невы, идти становилось всё труднее, порывы ветра сдували с ног, но Игорь шел настойчиво, будто этим защищал всё то, что оставлял за спиною, и вдруг тою же спиною понял, что это не угроза наводнения и даже не день, ему предшествующий, – а вот оно само и есть. Вдруг необозримое пространство перед ним оказалось кипящей пучиною. Над нею клочьями носился туман из брызг, волны разрывались на острые куски вихрями, как ножами, и так летели острыми, треугольными обломками, будто утрачивая свойства жидкости. Кареты и дрожки плыли по воде, спасаясь на высоких мостках, как на островках. И тут же увидел огромную барку, несшуюся прямо на него; она пронеслась, однако, мимо и врезалась в кирпичный дом, который обрушился от столкновения.
Полузахлебнувшегося Игоря подобрали в волнах. Бот принадлежал английскому торговому судну, на борту которого Игорь побывал накануне по служебному делу. Он узнал шкипера. «Там ад, – сказал ему шкипер по-английски, тыча большим пальцем за спину. – Большие суда носятся между домами, крушат их и сами рассыпаются в щепы». – «Да, одно я видел», – согласился с ним Игорь. Какое-то бесчувствие охватило его. Он теперь так же стремился обратно, как поутру – вперед. Части разорванного Исаакиевского моста неслись навстречу, а один обломок чуть не опрокинул их бот. Разъяренные волны свирепствовали и на Дворцовой площади, и Невский проспект превратился в широкую реку, но бедствие на Адмиралтейской стороне всё же не было столь ужасным, и это слегка успокоило Игоря. В середине дня вода начала сбывать: к вечеру на улицах уже появились первые экипажи, и к полуночи Игорь добрался пешком до своего дома…
На месте своего дома он обнаружил пароход огромной величины. На борту его прилепился листок, вроде объявления. Машинально он отлепил его… все строчки были размыты, но какой же автор не узнает лист своей рукописи в лицо! Волны, ветер, обломки, кумир с занесенным победным копытом… «Он же сейчас в Михайловском! Откуда он всё знал?…» – в ужасе забормотал Игорь, опять внутри пронесся ветерок, и будто завернулась фалдочка чьего-то фрака, и вспышка, вроде молнии, полыхнула перед глазами, в последний раз осветив черную громаду парохода и размытые строки Игоревой рукописи. Игорь захохотал и побежал, обезумев, как Евгений, бормоча строки будущей пушкинской поэмы, как заклинание. За ним гнался автор поэмы, ветер трепал его бронзовую пелерину… Но живого Пушкина здесь быть не могло, тем более и бронзового – ни опекушинского, ни аникушинского… «Да ведь и сам „Памятник“ еще не написан!» История вышла из берегов, как Нева, и захлестнула Игоря с головой… Он прятался от Пушкина за церковью Покрова, мелко и неумело крестясь.
Здесь его и подобрали, израсходовав внеочередной миллиард миллиардов на спасательную экспедицию. Здесь, в центре Коломны, но в наше с вами время: мокрый насквозь, под ясным небом, он топтался около архитектурного сооружения с буквами «М» и «Ж» на месте былой церкви, в отчаянии сжимая обломки своей тросточки…
Там он и сидит, кончая свой XXI…
За окном, в черном космосе, шелестит великое трехсотлетие; спутники развешаны как гирлянды на новогодней елке; праздничные шутихи перелетают от спутника к спутнику, искрами осыпаясь в пропасть остального мироздания.
Палата его тиха и отдельна, но он и так ничего не слышит: времена спутались в его голове, в ней, бедной, не прекращается погоня будущего за прошлым – он гонится за Евгением, Евгений за Пушкиным, Пушкин за Петром. Потом они бегут в обратную сторону – все гонятся за ним, и тогда ему страшно. За окном космические физкультурники в индивидуальных скафандрах с прожекторами во лбу исполняют в акробатическом полете горящую цифру 300. Игорь бормочет, как Германн тройку, семерку, туза, перебирая теперь уже такие древние строки:
- Дар напрасный, дар случайный…
- Посадят на цепь, как зверка…
- Похоронили ради Бога…
Он сжимает и разжимает кулак, в котором пуговица. Он жалобно плачет, бьется и воет, если пытаются ее отнять. Ее ему оставляют, и он спокоен. Его счастье – они не догадываются, что она – подлинная!
Всё большее бессилие овладевает автором на его чердаке. Если бы автор видел, до чего похоже его жилище на его собственную попытку описать будущий мир! Дождь перестал, и небо очистилось. Ночь глуха, и нет путника, чтобы увидеть, как чердак автора висит в ночи, подвешенный на гвоздиках света из щелей и дырочек, будто небо на звездах. Кажется, что занимается там пожар. Или дотлевает.
Слайды Игоря проявили, пленки прослушали… Подтвердили диагноз. Нет, Игоря не в чем было упрекнуть: он не засветил и не стер. Но – только тень, как крыло птицы, вспархивающей перед объективом, и получилась. Поражала, однако, необыкновенная, бессмысленная красота отдельных снимков, особенно в соотнесении с записями безумного времелетчика: буря, предшествовавшая облачку, глядя на которое поэту пришла строчка «Последняя туча рассеянной бури…»; молодой лесок, тот самый, который «Здравствуй, племя, младое, незнакомое…»; портрет повара Василия, захлопывающего дверь; замечательный портрет зайца на снегу: в стойке, уши торчком, передние лапки поджаты; арба, запряженная буйволами, затянутая брезентом, вокруг гарцующие абреки; рука со свечой и кусок чьей-то бороды; волны, несущие гробы… и дальше всё – вода и волны.
И пленки: шорохи, трески, мольбы самого времелетчика, чье-то бормотание, будто голос на другой частоте или магнитофон не на той скорости, и вдруг – отчетливо, визгливо и высоко: «Никифор! Сколько раз тебе говорил: ЭТОГО не пускать!»
И здесь мы ставим точку, как памятник – памятник самой беззаветной и безответной любви.
И обнаруживаем себя, слава богу, в своем, в собственном времени. НАШЕ время (мое и ваше): под утро 25 августа 1985 года.
V. Что надо знать о зайце?
Послесловие к немецкому переводу «Фотографии Пушкина»
Про Пушкина в мире знают, что был такой. И то потому, что все русские очень уж настаивают. Сличая его репутацию с продукцией, существующей в переводе, западный ценитель пожимает плечами. Пушкин – первый наш «невыездной». Как при жизни, так и после смерти. Так случилось, что самый наш всемирный писатель и после гибели полтора века уже погибает на языковом барьере. Тоже своего рода дуэль.
Про дуэль в мире известно больше. Что погиб из-за красавицы жены от руки красавца француза. Если окажетесь в Страсбурге, вас, чтобы сделать приятное, поволокут на могилу Дантеса.
Дуэль между Пушкиным и Дантесом состоялась в Петербурге на Черной речке 27 января 1837 года. 29 января Пушкин скончался от воспаления брюшины. В наш век этот диагноз не составил бы проблемы. Упаковка пенициллина его бы спасла.
К дуэли Пушкина привела целая цепочка обстоятельств, из которых честь бедной Натальи Николаевны лишь достойный и необходимый повод. Долги, литературные заботы, царская опека, светская и придворная суета и склока, которым Пушкин легко поддавался, желание писать, осуществимое лишь в деревне, в которую никак не удается вырваться… Всё это приводило к разлитию желчи, крайней степени невроза.
Он пишет хрестоматийное стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», читает его молодому приятелю Муханову, который воспринимает эти стихи не так торжественно, как мы теперь, не как завещание нам, а как обыкновенную жалобу на упадок внимания публики.
Пушкин подвозит как-то Павлушу, сына своего друга, и по дороге успевает ему сказать, что если в России когда-нибудь наступит свобода слова, то первое, что она должна будет сделать, это напечатать полное собрание сочинений Баркова (непристойного поэта XVIII века, по сей день не опубликованного), что в университет Павлуше поступать не надо, потому что там ничему не научат (Пушкин сам в университете никогда не учился), а следовало бы повнимательнее читать Писание (очень поучительный совет человека, имевшего с юности репутацию безбожника, отчасти заслуженную), и тогда их поколение не наделает ошибок предыдущего (то есть декабристского, пушкинского…). Всё это, накануне дуэли, звучит достаточно реакционно и странно, как завещание. Другой молодой человек наблюдает Пушкина у книжного развала, видит его плешь и болтающуюся пуговицу на хлястике потертого сюртука, и ему становится жаль поэта. «Европеец» живописец Брюллов снисходительно жалеет Пушкина, ни разу в Европе не побывавшего, за то, что тот развел столько детей и так погряз. Графоманы досаждают. Из всего этого видно, что Пушкина мало кто понимает и принимает всерьез.
Пушкин любил лимонад, которого за ночь во время работы, по свидетельствам камердинера Никифора, выдувал графина три. Пушкин дул лимонад, рассматривал свои ногти, которые любил отращивать, и они загибались у него, как когти, рассматривал свои перстни, которых носил сразу два, причем на одном большом пальце, листал свои замершие сочинения, не решаясь взяться ни за то, ни за другое, и тогда возвращался к писанию бесконечной истории Петра Великого, ища в нем пути и не находя. Бороду же Пушкин никогда не носил, только знаменитые бакенбарды. Однажды, впрочем, в 1833 году, когда удалился в свою деревню Болдино и написал там гениальное сочинение «Медный всадник», он запустил бородку и на обратном пути даже в Москве не задержался, чтобы Наташечка, по которой он соскучился, увидела его в бороде первая.
Вообще Пушкин очень простодушен в своем пижонстве. Особенно в одиночестве и на лоне природы. Так, в 1824-м, когда он писал другое свое гениальное сочинение «Цыганы», в котором впервые превзошел лорда Байрона, он носил красную рубашку и широкополую шляпу.
В такие периоды своей жизни он был также спортсмен. Скакал, принимал ледяные ванны, хорошо стрелял. Он носил железную трость, тренировал руку, чтобы при стрельбе не дрогнула. У него были все шансы убить Дантеса. Судьба распорядилась иначе.
Он очень верил в Судьбу: взвешивал на ее весах свой гений. Отсюда и необыкновенная приверженность к суевериям.
Он, если что забывал дома, никогда не возвращался, верил в заговоренную копеечку. В 1825 году, накануне восстания декабристов на Сенатской площади, он совсем было собрался в самоволку из своей ссылки, из Михайловского, в Петербург, но заяц перебежал ему дорогу, и он повернул обратно. Таким образом, он не стал участником восстания и не был сослан в Сибирь. Там бы он, буде сослан, настрадался бы, но зато прожил в кругу друзей, написал бы бездну поэм «разнообразными размерами с рифмами», не женился бы на Наталье Николаевне, не стрелялся бы с Дантесом, а вернулся бы, реабилитированный в 1856 году, крепкий как дуб, с бородою лопатой, в толпе благородных бородатых друзей. Но тогда бы он не написал «Медного всадника»…
Зато и не было бы таких ужасных событий, как коварно подстроенное свидание Натальи Николаевны с Дантесом, которое особенно разозлило Пушкина. Непрочитанное коварство времени заключалось еще и в том, что «сторожил» свидание полковой начальник Дантеса Ланской, за которого впоследствии вдова Пушкина выйдет замуж.
Выбеги или не выбеги заяц тогда в 1825 году… С одной стороны, хорошо: Пушкин остался на свободе, писал на воле почти двенадцать лет, женился, родил детей. С другой… Мчатся тайно ночью сани с его гробом в сопровождении его друга, «русского иностранца» А.И. Тургенева. И будто навстречу им едет первый в России поезд, запущенный, как заводная игрушка истории, ровно в день его смерти.
Впрочем, наводнения 1824 года Пушкин так же не мог наблюдать, как и декабристского восстания – он был в той же ссылке, в том же Михайловском, вдали от Петербурга. Однако как описал эту стихию в «Медном всаднике»! Скорее не было самого наводнения, чем Пушкин его не видел…
Мы гадаем, как выгоднее, но не знаем, как лучше. Так что хотя прошлое навсегда убережено от нашего благожелательного вмешательства, хотя наш герой Игорь был столь незадачлив именно по этой причине… не надо нарочно спугивать зайца с лежки!
Пусть заяц выбежит сам!
Именно по этой причине автор неоднократно обращался к отечественной общественности с проектом памятника Зайцу в том месте, где он перебежал Пушкину дорогу, но до сих пор не был услышан. Считали, что автор неостроумно шутит. Одна надежда на перестройку – проект в ее духе. Автор начинает сбор пожертвований на этот памятник, памятник НОВОМУ КАЧЕСТВУ в русской культуре.
Счет «…Внешторгбанк СССР, с обязательной пометкой „Памятник Зайцу“» (чтобы автор по ошибке не израсходовал конвертируемую валюту на собственные нужды).
Петербург-Петроград-Ленинград
29 января 1990
О лишних именах
Из комментария к комментарию (для немецкого издания книги «Вычитание зайца. 1825»)
Дейл Карнеги, выдавая миру секреты успеха, заметил, что если запомнить в лицо и по имени всех людей, встреченных вами на жизненном пути, то вы обязательно станете президентом Соединенных Штатов. Вопрос, конечно, для чего? чтобы тебя потом в лицо знал каждый и следил, застегнута ли у тебя ширинка?!
На самом деле человека раздражает каждое лишнее имя, застревающее в мозгу, засоряющее его. Что с ним потом делать? Признавать, отвергать? И то и другое утомительно. Поэтому столь тяжело дается признание, поэтому забвение или слава, поэтому так ценны близкие и друзья: те, кто про тебя знает. Память человеческая – общечеловеческий уровень энергии, удерживающий мир в относительной стабильности и равновесии, обеспечивающий нам уровень.
Карьера чужого имени в России не зависит от таланта, хотя им и обеспечивается. Вильям был сначала Шакеспеаре, потом Шейкспиром, прежде чем навсегда остаться Шекспиром. Такова во многом слава Хемингуэя: не выговорить. Но если растянуть самое лучше русское слово с трех букв до девяти… то как приятно произносить имя этого американца вслух! То же – Солженицын. Попробуйте запомнить или выговорить! Тогда уж навсегда. Зачем Пушкин?
Недавно по нашему телевидению передали немецкую рекламу водки «Пушкин» – так это белый медведь.
Благодаря Пушкину русские знают такое количество бесполезных им в практической жизни имен, что знать их немцу всё равно что специалисту по холодильникам – латинские имена из отряда чешуйчатокрылых.
Но любой русский сантехник или энтомолог, не выходя за пределы школьной программы, будет знать имена Арины Родионовны и Натальи Николаевны, Геккерна и Бенкендорфа, Данзаса и Дантеса, Кюхельбекера и Пущина, Булгарина и Чаадаева, Александра и Николая… Специалист же воскресит вокруг Пушкина тысячи имен: всех возлюбленных и влюбленных, друзей и врагов, соучеников и коллег. И если большинство русских не знают даже имени своего дедушки, то как же не запутаться в племянницах соседки по имению? Однако вышло именно так, что ни одного отрезка отечественной истории мы не знаем с такой близостью и подробностью, с какой знаем пушкинские времена. Была война с Наполеоном, пожар Москвы, Бородинское сражение, петербургское наводнение, смена императоров, восстание декабристов – и всё это называется теперь «пушкинская эпоха», по имени одного малоизвестного миру молодого человека, коллежского секретаря, чиновника десятого класса, а потом камер-юнкера, маленького придворного чина.
«Это легкое имя Пушкин», – погибая, выдохнет Блок. Я спрошу специалиста: «Что ж тут легкого в имени Пушкин?» – чем легко поставлю его в тяжелое положение. Действительно, пушки того времени вещь тяжелая, даже ядра чугунные. И никто пока не заметил, что Пушкина можно произвести от слов «пух», «пушок», и тогда действительно слово Пушкин превращается в дуновение, становится нашим дыханием. Понятнее фамилия Пушкина по матери – Ганнибал – данная Петром Первым любимцу и крестнику, прадеду Пушкина, африканцу по происхождению, в честь древнего полководца.
Кто же такие Арина Родионовна, Пущин, Бенкендорф, Осипова и пр.? «друзья и знакомые Кролика», в терминологии Винни-Пуха?
В нашем случае – Зайца? Слава богу, хоть заяц самодостаточен без имени. Хотя это был, безусловно, один-единственный Заяц, исполнивший миссию. (Опасаясь уйти сильно в сторону, отыскивая этимологические связи с более поздним культурным героем – Winnie-The-Pooh – на одном лишь основании созвучия в русской транскрипции: Пух-Пушкин, могу лишь отметить, что широкая популярность этого милого героя в России, возможно подсознательно, поддержана дорогим сердцу созвучием.)
Должен по крайней мере отметить, что все эти люди, затененные великим современником, были люди, личности, им же высвеченные и спасенные от забвения.
25 августа 1998,
Канны
VI. Мефистофель и заяц
Упущенный комментарий
«…Отделять себя от Байрона, подтягиваться к Шекспиру, поглядывая в сторону Гёте… Слух о Грибоедове подразнил было… Можно это проследить, даже чересчур не зарываясь в источники. По письмам» (См. гл. I наст. изд.).
Поможем Боберову… Не чересчур зарываясь…
(См. также гл. II примеч. 5–7.)
Действительно, из упоминаний Байрона, Шекспира, Гёте набегает ряд. Но среди этих мировых колонн, намекающих на мировую же дорогу, куда занятнее петляет тропинка современника и соотечественника, мелькает Грибоедов, как тот же заячий след, фиксируя для нас пушкинский охотничий интерес.
«Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чаадаева; в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны.
Посылаю „Разбойников“» (Вяземскому из Одессы, 1–8 декабря 1823).
«…читая Шекспира и Библию, святый дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. – Ты хочешь знать, что я делаю – пишу пестрые строфы романтической поэмы – и беру уроки чистого афеизма» (Кюхельбекеру из Одессы, апрель – первая половина мая (?) 1824).
«Кстати о стихах: сегодня кончил я поэму „Цыганы“. Не знаю, что об ней сказать. <…> Посылаю тебе маленькое поминаньице за упокой раба Божия Байрона – я было и целую панихиду затеял, да скучно писать про себя…» (Вяземскому из Михайловского, 8 или 10 октября 1824).
«Но умный человек не может быть не плутом!
A propos. Читал я Чацкого – много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек – но Грибоедов очень умен» (Вяземскому из Тригорского, 28 января 1825).
Тогда же письмо Бестужеву с вошедшей во все школьные курсы характеристикой комедии с примечательной припиской: «Покажи это Грибоедову». Любопытно, что письмо начинается с беспокойства за впечатление, производимое «Цыганами».
Чуть позже брату… То же беспокойство с «Цыганами», а затем Пушкин, Шекспир, Байрон, Грибоедов и Баратынский появляются почти в одной компании… «Жду шума от „Онегина“ <…> укради „Записки“ Фуше и давай мне их сюда; за них отдал бы я всего Шекспира; ты не воображаешь, что такое Fouche! Он по мне очаровательнее Байрона. <…> Твое суждение о комедии Грибоедова слишком строго. Бестужеву писал я об ней подробно; он покажет тебе письмо мое. <…> Что Баратынский? <…> как об нем подумаешь, так поневоле постыдишься унывать».
У Никитенко в его «Дневнике» есть такая жестокая запись: «Пушкин, восхищаясь Боратынским, изощрял на нем свое беспристрастие; он знал, что он тут ничего не потерпит». Это запись уже 1863 года. Никитенко ближе к нам. Но факт, что Грибоедов и Баратынский – единственные современники, на которых он если и не оглядывался, то поглядывал с цеховой ревностью. (Замечательна сцена встречи Пушкина и Грибоедова у Тынянова в «Смерти Вазир-Мухтара»: ревность и успокоение… Тынянов – знал.)
И далее, на протяжении года, мы еще не раз наткнемся на Байрона – пляска тональностей!
«Нынче день смерти Байрона – я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности… <…> „Онегина“ переписываю».
«Конечно, он поэт, но всё не Вольтер, не Гёте…»