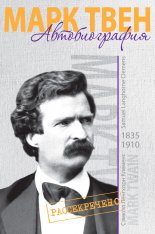Фладд Мантел Хилари
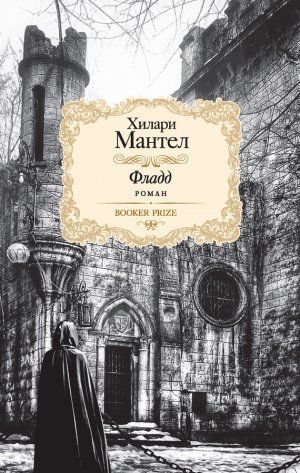
Лучше уж меня, как святую Фелицитату, растерзают дикие звери в цирке.
Наконец сестре Антонии удалось ее одеть. Остановились на темно-синем саржевом костюме, поскольку теплее ничего не нашлось — видимо, за всю историю монастыря никто не пришел сюда в пальто. Юбка доходила почти до щиколоток, широкий пояс болтался на узкой талии. Жакет висел, как на вешалке.
— Жалко, погода плохая, не то ты могла бы надеть мое канотье, — сказала сестра Антония. — Такая красивая синяя лента. Помню, как я его покупала. Летом. За год до того, как прийти сюда.
Мгновение монахиня держала канотье в пухлых, мучнистого цвета пальцах, затем с неожиданной энергией зашвырнула обратно в сундук. Еще откуда-то она извлекла колючий шерстяной платок из малиново-зеленой шотландки.
— Он покроет множество грехов, — заметила сестра Антония.
Такие платки носили федерхотонские женщины; наверное, кто-то из «Дщерей Марии» забыл его на собрании, а старая монахиня прибрала.
Труднее всего оказалось с обувью. Филли кое-как влезла в изящные синие «лодочки», но при попытке сделать шаг качнулась и ойкнула.
— Господи, я никогда не ходила на шпильках! И как же они жмут! — Она помолчала и добавила: — Наверное, мне надо терпеть. Посвятить свои страдания Богу.
— Вовсе нет, — ответила сестра Антония. — Какой теперь в этом смысл?
Филомена вцепилась в спинку стула.
— Я теперь проклята, да?
— Да, наверное, — спокойно ответила монахиня. — Ну-ка пройдись по комнате — глянем, как у тебя получится.
Филомена закусила губу, развела руки, словно канатоходец, и сделала шаг.
— Ужасно смешно, — без улыбки произнесла монахиня. — Так ты скоро окажешься в больнице с переломанными ногами. Вот что, я сбегаю в школу и принесу тебе спортивные тапочки.
Филомена кивнула. Она видела, что решение разумное.
— Только найдите пару. Не две левые.
— А потом ты еще немного подождешь — я зайду на кухню и соберу тебе еды в дорогу.
— Ой, не надо, сестра Антония. Пожалуйста, не надо. Я еду только до Манчестера.
Сестра Антония промолчала, но ее лицо явственно говорило: «Ты не знаешь, докуда едешь, и велика ли беда, если хлеб немного зачерствел? Вспомни фараонов в гробницах, у которых хлеб хранится тысячелетиями».
— Сядь пока, сестра, — произнесла она вслух. — Дай ногам отдохнуть.
Филли послушно села, и тут же из глаз у нее хлынули слезы. До сей минуты она более или менее держалась, но обращение «сестра» стало последней каплей. Быть может, она слышит его последний раз в жизни.
Антония в задумчивости глянула на нее, потом вынула из кармана чистый носовой платок.
— Возьми себе. Я знаю, у тебя никогда не было своего.
Строго говоря, она не имела права раздавать общее монастырское имущество, выданное ей во временное личное пользование.
— Кстати, — сказала она. — Какое у тебя было имя в миру?
Сестра Филомена шмыгнула носом.
— Ройзин. — Она вытерла глаза. — Ройзин О’Халлоран.
Сестра Антония сказала: «Дождись сумерек». Теперь Ройзин О’Халлоран бежала, как лань, по темной земле. В последний душераздирающий миг, когда сестра Антония вот-вот должна была выпустить ее через черный ход, когда она, сжимая саквояж, пригнулась, словно бегун на старте, позади, в коридоре, что-то залязгало. Это спешили Игнатия Лойола, Кирилла и Поликарпа, их четки брякали в унисон, и казалось, что это щелкают зубы.
Она побежала, но, выскочив на тропу к огородам, остановилась перевести дух и глянула через плечо. Часы на церкви пробили четыре раза. Три монахини смотрели на беглянку в открытое окно верхнего этажа, и той захотелось вжаться в кусты. И тут она заметила, что они машут платками: поднимают их и опускают в медленном церемониальном ритме.
Она развернулась полностью, двумя руками стискивая саквояж: тощая и нелепая в одежде с чужого плеча. Взглянула на монастырь, на его крохотные оконца и закопченные камни, на блестящую от сырости черепичную крышу и дальше, на засыпанные прелой листвой уступы, эти темные джунгли севера. Окна федерхотонской фабрики горели; дым из высоких труб терялся в сером небе, но фабричные топки пылали — тусклые желтые топазы на исходе года. Ройзин подняла руку и помахала. Платки снова взметнулись и опали. До слуха долетели голоса.
— Пришли нам письмецо! — крикнула Поликарпа.
— Пришли нам посылочку с чем-нибудь вкусным! — крикнула Кирилла.
— Пришли нам… — крикнула Игнатия Лойола, но Ройзин не узнала, что именно — она повернулась и припустила дальше, к первой лестнице через изгородь. Когда она снова обернулась, монахини по-прежнему стояли у окна, но лиц и платков было уже не различить.
Ройзин О’Халлоран бежала, как лань, по темной земле, а с высокого места на Бэклейн за ней наблюдала мать Перпетуя.
В доме священника зазвонил телефон.
— С вами будет говорить епископ, — прошелестел по проводам голос подхалима.
— Минуточку. — Агнесса Демпси положила трубку на стол, подошла к двери в гостиную и постучала.
— Это он. Позвать вместо вас отца Фладда?
Отец Ангуин поднял руки, на миг задержал их в воздухе, словно пианист над клавишами, затем уронил на подлокотники и резко встал.
— Нет. Вся ответственность лежит на мне.
Он открыл дверь и быстро оглядел прихожую, словно опасался, что епископ прячется где-нибудь в темном уголке.
— Где отец Фладд?
— У себя. Я слышала, как он понимался.
— Я вроде бы слышал, как он спускался. Хотя возможно и то и то.
«Одновременно», — добавил он про себя.
Когда священник взял трубку, Агнесса осталась стоять рядом. Раньше она ушла бы на кухню, но в последнее время осмелела. В уголках ее губ постоянно играла улыбка, как будто она увидела или узнала что-то приятное.
Отец Ангуин держал трубку довольно далеко от уха. Некоторое время он молча слушал, как вещает епископ. Агнесса иногда ловила обрывки фраз: «какие-нибудь досуговые мероприятия по линии молодежи… для алтарников… рок-н-рольные вечера, танцклуб…»
— Он не знает, — одними губами сказал отец Ангуин, глядя на Агнессу. — Пока не знает.
Та отвечала таким же шепотом:
— Перепитура ушла в центр. Наверняка на почту. Сестра Поликарпа сказала, она взяла с собой мелочь. По магазинам она не ходит, так что явно собралась звонить.
— Перпетуя мой смертельный враг, — прошептал отец Ангуин. — Я знал, что она непременно на меня донесет.
Он заговорил в трубку:
— Послушайте, Айдан, тут такое дело. Сложный вопрос от прихожанина. Не могли бы вы мне помочь?
Трубка напряженно молчала. Мисс Демпси не могла взять в толк, почему отец обратился к епископу по имени — прежде такого не случалось. Да и сказано это было странно — вроде бы шутливо и одновременно с каким-то намеком.
— Речь о его друге, враче, — продолжал священник. — У него хранятся человеческие кости; он приобрел их, когда учился в протестантской стране, возможно, в Германии, поскольку у того же прихожанина есть еще друг, немец, который хочет исповедаться, но не знает английского, и вот я думаю — позвать нам переводчика или устроить это как-то иначе?
Мисс Демпси напрягла слух, но епископ то ли не ответил, то ли ответил очень тихо.
— Нет, не спешите, — произнес священник. — Подумайте на досуге, вопрос очень любопытный. Вы не поверите, Айдан, но последнее время на меня один за другим сыплются казусы, с какими я не сталкивался за сорок лет службы. В Федерхотоне волнуются, как толковать некоторые гастрономические правила Великого поста. Может быть, вы с вашим огромным опытом сумеете разрешить наши недоумения?
Последовала долгая пауза, затем епископ без обычного своего напора проговорил:
— Поймите….
Следующие слова мисс Демпси не разобрала, потом до нее донеслось:
— …просто выполнял свою работу… Долг послушания, возложенный старшими на меня… тогда еще совсем молодого человека…
Отец Ангуин обнял телефонную трубку и улыбнулся.
— Времена меняются, — говорил епископ, — …вовсе не повод стыдиться…
— Но вы все равно стыдитесь? — спросил отец Ангуин. — Вот что, любезный, если это всплывет, то там, где двое или трое современных епископов соберутся вместе, вам веры уже не будет.
— Я к вам заеду, Ангуин. Где-нибудь на этой неделе обязательно до вас доберусь.
— А я доберусь до вас, — пробормотал священник, кладя трубку. — Я еще вашей кровушки попью. Агнесса, предупредите отца Фладда.
— Предупредить? — Слово пугало своей внезапной многозначительностью.
— Да. Предупредите, что епископ будет здесь со дня на день.
— Как мне его предупредить? — осторожно спросила Агнесса.
— Подойдите к лестнице и крикните.
— А подниматься не надо?
— Довольно будет крикнуть.
— Да. Не стоит отвлекать его стуком в дверь.
— Быть может, он молится.
— Мне бы не хотелось ему мешать.
Они переглянулись.
— Я не видела, как он поднимался, — заметила мисс Демпси.
— Или спускался.
— Мне остается думать, что он у себя.
— Разумное допущение. Всякий бы его сделал.
— Или всякая. — Мисс Демпси подошла к лестнице. — Отец Фладд! — тихо позвала она. — Отец Фладд!
— Не ждите ответа, — сказал Ангуин.
— Он не хочет прерывать молитву.
— Но мы можем полагать, что он слышал.
И при том оба были уверены, как никогда и ни в чем в жизни: наверху никого нет. Угольки с тихим шуршанием сыпались через каминную решетку, на стене по-прежнему умирал распятый Спаситель, на церковном дворе плыли по воздуху осенние листья, птицы нахохлились на деревьях, в земле извивались червяки.
— Поставить чайник? — спросила Агнесса.
— Нет, я выпью стаканчик виски и почитаю книгу, которую одолжила мне прихожанка.
Он чуть было не сказал «оставила мне в наследство», но вовремя прикусил язык.
Мисс Демпси кивнула. Фладд, конечно, у себя в комнате, молится. Филомена, конечно, в монастыре, метет кухонный коридор под присмотром сестры Антонии. Все там, где им надлежит быть, или по крайней мере мы можем притвориться, будто это так. Бог на небесех, на земли мир, во человецех благоволение? «Черт побери, — подумал отец Ангуин, — а ведь, похоже, и правда…»
Он сидел, вертя книгу в руках. Затертый, в пятнах, желтовато-коричневый переплет. «Вера и мораль для католического быта. Ответы на вопросы мирянина». Отпечатано в Дублине в 1945 году. Nihil obstat: Патриллиус Даган. Дальше стоял имприматур[54] самого архиепископа Дублинского с маленьким крестиком подле имени.
Она всё брала оттуда, думал отец Ангуин, все наши разговоры; какая сокровищница правил, какой кладезь консервативных предписаний. Вот она, старая вера во всей своей полноте; добрая старая вера, где нет места сомнениям и разномыслию. Правила поста и воздержания, и ни слова о рок-н-рольных танцклубах. Диатрибы против нечистых мыслей, и ни слова об актуальности. А вот на потертом корешке имя и фамилия составителя: преподобный (в ту пору) Айдан Рафаэль Краучер, доктор богословия — епископ собственной персоной.
«Я буду хранить ее под подушкой, — решил отец Ангуин, — и черпать из нее все новые издевки. Как я буду изводить епископа его прежними взглядами, вворачивать между делом то один вопрос, то другой. Он у меня постоянно будет жить в страхе. «Допустимо ли замешивать тесто на топленом сале, или оно годится только для жарки рыбы?» Этими вопросами он добыл себе епископскую кафедру. Никто из нас не знает своего будущего, а кое-кто не помнит даже своего прошлого».
Вопрос: «Почему на католических благотворительных базарах разрешают гадания?» Ответ: «Эту практику ни в коем случае не следует поощрять. Существует множество куда более достойных развлечений». Вопрос: «Иногда в католических церквях на воскресных великопостных вечернях прихожан обходят с кружкой для сбора пожертвований. Правильно ли это?» Ответ: «Это всегда правильно, а порой и необходимо».
«Я знал, что она все читает с бумажки, и подозревал, что у нее есть все ответы», — сказал отец Ангуин про себя. На форзаце круглым школьным почерком было выведено: «Димфна О’Халлоран». Это все, что она привезла из Ирландии, подумал он. И эту единственную свою вещь она оставила мне.
Он перелистал несколько страниц назад и начал читать предисловие. «Божественное Откровение и двухтысячелетний опыт сделали Церковь несравненной наставницей во всех областях человеческого существования. Нет такой житейской ситуации, такой сферы личной или общественной деятельности, в которой наша Святая Матерь не могла бы нас научить, ободрить, предостеречь или направить исходя из глубокого знания человеческих умов и сердец, поступков и обыкновений».
«Двухтысячелетний опыт», — повторил про себя отец Ангуин и сам поразился этой мысли. Он, не глядя, взял виски, отхлебнул глоток и тут же удивленно отвел стакан ото рта и оглядел на просвет. По всем внешним признакам это было виски, по вкусу — вода. «Ах, Фладд, — подумал он, — ах ты, ученик чародея. В этот раз ты все перепутал, совершил чудо наоборот. Ты загасил небесный огонь, взял божественное и превратил в обычное человеческое, променял дух на влажную теплую плоть».
А тем временем Перпетуя бежала в темноте, твердя про себя: «Я поймаю ее на станции». Она не задумывалась, как выглядит, когда мчалась, отдуваясь и высоко подобрав рясу; чулок порван, туфли исцарапаны, крест на шнурке бьет по тому месту, где у мирянок бывает грудь. Она бежала, пригнувшись, и время от времени останавливалась, чтобы выпрямиться, помассировать ребра и поискать взглядом жертву. На каждой лестнице через изгородь она прочесывала глазами местность. Беглянка уже исчезла из виду, но Питура думала: «Я поймаю ее на перроне».
Она успела приметить белый вымпел на высокой жердине, который бился и плескал под ветром, и смутно распознала в нем что-то церковное, что-то такое, перед чем захотелось преклонить колени. Однако Перпетуя не поддалась этому желанию. «Я поймаю ее на платформе, — думала она, — и приволоку обратно, я протащу ее по главной улице на виду у всех, я сорву с нее эти тряпки и запру ее в келье до приезда епископа, а там уж мы с нею разберемся, мы разберемся с этой паршивой тварью».
Сердце колотилось, в ушах стучало. Питура была уверена, что успеет: до тропы, ведущей к станции, оставалось совсем немного. Когда она повернула вниз, над огородами у нее за спиной внезапно сомкнулась тьма, тот самый катящийся с пустошей ночной мрак. Между курятниками алела красная точка: наверное, там кто-то стоял и курил.
Она почти выскочила на тропу, ведущую к станции, когда из-за кустов выступила человеческая фигура и преградила ей путь. Настоятельница вытаращила глаза. Она знала этого человека, однако от происшедшей в нем перемены у нее похолодела кровь.
— Какой кошмар! — выговорила мать Питура, замерев на лестнице через последнюю изгородь.
Ройзин О’Халлоран стояла на перроне, двумя руками сжимая саквояж — наизготовку, как будто поезд может появиться в любой миг. Она смотрела на пути. Клетчатый платок шумно хлопал на ветру, пальцы посинели от холода. На одном из них поблескивало бумажное кольцо.
Со стороны пустошей должен был подойти поезд, но что, если в Шеффилде сегодня выпал снег? Что, если Вудхед заблокирован и надвигается метель? Снегоочистители на путях, стрелки обмерзли, в пустошах овцы погребены в сугробах. Замотанные шарфами спасатели с заиндевелыми усами откапывают людей. Она представила, как сидит в зале ожидания, на скамье, на которой недерхотонцы вырезали свои магические руны, и слышит голос из репродуктора: «Сегодня поездов не будет».
Часов у нее не было, и она не знала, когда должен прийти поезд, поэтому чувствовала себя посылкой, подписанной, но не отправленной. Взгляд кассира жег ей спину. Билет она кое-как купила (опустив лицо и говоря чужим голосом), а время отправления спросить не посмела — надеялась прочесть где-нибудь на станции. Однако прочесть было негде. И впрямь, что толку вешать расписание, если ночью недерхотонцы его сорвут?
От робости, от растерянности, от спешки она не спросила отца Фладда: «Во сколько придет поезд и увезет меня отсюда?» Он сказал только: «Я последую за тобой. Когда доберешься до места, иди в багажный зал и жди. Ни с кем не разговаривай». Ей подумалось, что этот человек, этот лжесвященник, этот самозванец, с которым ей скоро предстоит совершить страшное, — загадка, о которой она почти не смеет размышлять. «Ну и что, — мелькнуло у нее в мыслях. — Бога я и вовсе никогда не видела, но всегда Ему доверяла».
Ройзин О’Халлоран поставила саквояж и потерла руки, чтобы немного разогнать кровь. В памяти всплыл вопрос: «Некоторое время назад мне нужно было добраться на поезде до одного города. Я встретил человека, который купил туда билет, но раздумал ехать, и он отдал билет мне. Допустил ли я нечестность по отношению к железнодорожной компании?»
Что там был за ответ? Она нахмурилась, силясь его припомнить, силясь думать о чем угодно, кроме того, что происходит сейчас. «Никакой нечестности вы не допустили. Железнодорожные компании не требуют, чтобы по купленному документу ехало конкретное лицо, главное, чтобы у каждого пассажира был билет до места назначения».
До сей минуты перрон был благословенно пуст, но сейчас Ройзин О’Халлоран краем глаза увидела подошедшего мужчину. Он стоял у нее за спиной, чуть поодаль. Она ссутулилась под темно-синим жакетом и пониже надвинула платок. «Дай Бог, — молилась она, — чтобы это был протестант, кто-нибудь, кто меня не узнает». И тут же в голове мелькнуло: «Какой толк теперь об этом молиться? Да и вообще о чем бы то ни было?»
Мужчина наверняка пялился ей в спину — кто бы не пялился на такое чучело? По коже побежали мурашки, почти как если бы это был Фладд. Она начала поворачивать голову — медленно, но неудержимо, словно ее тянуло магнитом. Их взгляды встретились. Она в ужасе отвела глаза, как будто увидела раздавленного человека на рельсах.
Это был Макэвой. Он наверняка ее узнал, однако не заговорил. Ветер рвал с головы платок, пронизывал до костей, задувал под юбку, наполняя ее, как парус. Ройзин О’Халлоран опустила взгляд и стала смотреть на спортивные тапочки: одну правую, одну левую.
Наконец показался поезд — светлое пятнышко вдали, такое бледное, что она не была уверена, правда ли его видит. Пятнышко надолго застыло — ни взад, ни вперед, — затем начало увеличиваться. Ройзин О’Халлоран подошла к краю платформы и подняла лицо в оранжевом свете перронных фонарей.
Только когда поезд подъехал, мистер Макэвой подошел и встал рядом с нею. Она дрожала всем телом.
— Сестра? — тихо, полувопросительно произнес он и подал ей руку.
Она двумя пальцами оперлась на локоть Макэвоя, думая про себя, не оттолкнуть ли его. Он распахнул перед нею вагонную дверь и сказал:
— Не бойтесь. Я еду только до Динтинга, всего несколько остановок, и сделаю вид, что мы с вами незнакомы. Я буду сама деликатность.
— Тогда отойдите, — прошипела она. — Оставьте меня в покое.
— Я всего лишь хочу вам помочь, — сказал Макэвой. — Кто-то должен положить ваши вещи на полку, проследить, чтобы вам досталось место лицом по ходу поезда. И вы же знаете, сестра, люди говорят: «Не так страшен черт, как его малюют».
С кривой усмешкой Макэвой положил ее саквояж на полку. Лязгнула, закрываясь, вагонная дверь. Дежурный по станции выкрикнул что-то протяжное, невразумительное. Взметнулись флажки. Через мгновение поезд уже мчал ее к Манчестеру, к утрате девственности, к железнодорожной гостинице «Ройял-Нортвестерн».
Глава десятая
Железнодорожную гостиницу «Ройял-Нортвестерн» спроектировал ученик сэра Гильберта Скотта[55] в минуту рассеянности, и, вступив под ее своды, Ройзин О’Халлоран почувствовала себя в неуютно привычном окружении. «Как в церкви», — шепнула она спутнику. От мраморных полов веяло холодом. За огромной регистрационной стойкой красного дерева, украшенной резьбой наподобие алтаря, стоял тощий субъект с вытянутым постным лицом и бескровными губами ватиканского интригана; он протянул им фолиант размером с Библию и бледным плоским пальцем указал Фладду, где расписаться. Когда это было сделано, субъект глянул на свежую подпись, свел брови и улыбнулся скорбной улыбкой, словно мученик в ответ на шутку палача.
— У нас хороший тихий номер, доктор, — сказал он.
«Доктор, — подумала Ройзин О’Халлоран. — Значит, вы снова взялись за старое». Фладд поймал ее взгляд и еле заметно улыбнулся — впрочем, повеселее тощего субъекта. Тот выдвинул ящик стола, словно открыл сундук в ризнице, порылся в ключах, выбрал один и протянул Фладду. Так же, с таким же тщанием, святой Петр ищет ключ от какой-нибудь невзрачной райской двери и вручает его счастливцу, удостоенному вечного спасения.
— Не очень-то здесь дружелюбны, — прошептала она по пути к лифту и тут же подумала: дело не в нас, в гостиницах все такие. Ей вспомнилась миссис Моноган, и как та ворчала, пуская коммивояжера в самый плохонький номер. Тетя Димфна стирала в отеле Моноганов, а по вечерам, как рассказывали, ошивалась в баре среди мужчин.
При воспоминании о Димфне щеки у Ройзин О’Халлоран вспыхнули, и в то же мгновение ее настигла другая, более очевидная мысль.
— Это из-за меня? — одними губами спросила она у Фладда. — Из-за того, как я выгляжу?
Железная решетка лифта с лязгом захлопнулась за ними. Фладд отыскал рукой холодные девичьи пальцы. Кабина дернулась и пошла вверх, засасывая их в утробу здания. Когда они вползали в междуэтажную темноту, перед Ройзин на миг мелькнуло перекошенное злобой лицо матери Перпетуи. Пыхтя от злобы и ревности, видение выпустило сквозь прутья клетки длинные когтистые пальцы.
Ройзин О’Халлоран с интересом разглядывала платяной шкаф. Дома у них был только комод, да еще старая посудная полка в стене. А в монастыре ничего такого не нужно.
— Ты не хочешь разобрать сумку? — спросил Фладд. — Повесить одежду?
— Я могу повесить костюм, если его сниму. — Она с детской радостью огляделась по сторонам. — И еще я могу повесить платье. Я привезла с собой платье сестры Поликарпы. У него матросский воротник. Вы таких никогда не видели.
Фладд отвернулся. Она была горьким, угловатым, мучительным искушением; сейчас, в теплой комнате, среди мебели, в ней пробудились надежда и мягкость. Девушка не входила в его планы, он вообще не думал связывать себя узами плоти. Некоторые говорили о soror mystica[56], помощнице в трудах, но он всегда считал, что женщины иссушают мудрость, высасывают знания, словно пиявки. Что ж, другие времена, другие обычаи.
Другие времена, другие обычаи. Филомена сняла жакет и аккуратно сложила его на кровати, застланной белым крахмальным бельем и накрытой малиновым пуховым одеялом — такие, наверное, бывают у папских легатов. В комнате было жарко, душно: какой-то исполинский механизм, спрятанный под полом, нагнетал сюда тепло. На обоях цвели махровые голубые розы, белое пространство между ними пожелтело от табачного дыма. В углу, за ширмой, стояла раковина, на ней лежал холодный брусок зеленого мыла, рядом висело полотенце с вышитой на углу красной монограммой гостиницы.
— Мне остальную одежду тоже снимать? — спросила девушка.
Когда Ройзин О’Халлоран забралась наконец в постель, чувствуя голым телом цепенящее объятие белых крахмальных простынь, ее мысли были заняты собственной неприспособленностью к жизни и тем, как легко все могло пойти наперекосяк. Она не заметила Фладда среди пассажиров, сошедших с федерхотонского поезда, поскольку искала глазами черный клерикальный костюм, а тот приехал в обычном твидовом. Только когда он подошел, поцеловал ее в щеку и забрал из рук саквояж, у нее отлегло от сердца. Ройзин не рассказала ему о своей панике, однако нелепый эпизод лишний раз подчеркнул безумие всей затеи: кем надо быть, чтобы бежать с мужчиной, которого не можешь узнать в лицо?
Фладд раздевался, скромно повернувшись к ней спиной. Он вытащил из кармана носовой платок, положил его на ночной столик, словно чистое белое гнездышко, и ссыпал туда мелочь. Ройзин думала: «Я вижу то, что другие женщины наблюдают каждый день». Затем Фладд повернулся к ней — торс был призрачно-бел, словно одеяния святого, — и жестом показал, чтобы она отогнула край одеяла и погасила свет. Теперь, едва различимый в полутьме, он сбросил остальную одежду на пол и, беззвучно ступая по аксминстерскому ковру, подошел к постели.
Когда Ройзин подняла руки его обнять, ей показалось, что они обхватили пустой воздух. Сжав губы в ожидании боли, она упала щекой на подушку и широко открытыми глазами уставилась на стену, где по нарисованным розам ходили тени от занавески. «Всякое приобретение — утрата», — сказал как-то Фладд. Но и каждая утрата — приобретение.
Позже, когда она уже спала, зарывшись стриженой головой в пуховую подушку, Фладд вылез из-под одеяла на пол. Некоторое время он стоял, глядя на спящую и вслушиваясь в ночные шумы. До него долетали скорбные трамвайные гудки, шаги ночных портье на лестнице, пьяное пение на Сент-Питерс-сквер, прерывистое дыхание множества людей в множестве комнат, морзяночные разговоры кораблей в море, скрип оси, на которой ангелы вращают Землю. Потом он улегся обратно в постель, и его веки смежились под тяжестью навалившихся снов.
На следующий день Ройзин О’Халлоран не захотела выходить из номера. Она стеснялась своей одежды и стриженой головы без клетчатого платка. Фладд предложил пойти в магазин и купить что-нибудь модное, но Ройзин боялась, что продавщицы выманят деньги и вырядят ее всем на посмешище.
Много лет она не думала о своем теле; упрятанное под рясой, оно словно жило собственной жизнью. Ты переставляешь ноги и таким образом идешь. Ты шаркаешь — ряса прячет твою походку. Теперь надо было учиться ходить. Вчера вечером она мельком видела женщин в гостиничных коридорах, как они изящно семенили на птичьих ногах. В них чувствовалась живая сила, их глаза под нарисованными бровями улыбались; в гулком церковном нефе вестибюля они резким движением натягивали перчатки, раскрывали сумочки и рылись внутри, вытаскивали платочки и пудреницы.
— Мне надо будет завести это все, — сказала она, не веря собственным словам. — Губную помаду.
— И духи, — подхватил Фладд.
— Пудру.
— Меха, — добавил Фладд.
Он пытался вытащить ее из постели, из номера, но она сидела, натянув под самый подбородок белую простыню, вчера крахмально-хрустящую, сейчас мятую и чуть сырую на ощупь. У нее не было слов, чтобы объяснить: она чувствует себя одетой по-новому, как будто с утратой девственности обрела дополнительный слой кожи. Люди говорят «утрата невинности», но они не знают, что такое невинность: неперевязанная кровоточащая рана, которая открывается от каждого случайного толчка случайных прохожих. Опыт — это доспехи, и Ройзин О’Халлоран ощущала себя закованной в броню.
Она проснулась в пять, как в монастыре, и поняла, что зверски хочет есть. Пришлось перебарывать голод, лежа рядом со спящим Фладдом. Она не слышала его дыхания, поэтому временами приподнималась на локте и заглядывала ему в лицо — убедиться, что он не умер.
В семь Фладд проснулся и заказал завтрак в номер. Когда в дверь постучали, Ройзин накрылась с головой и пролежала так еще несколько минут на случай, если служащий гостиницы что-нибудь забыл и вернется. Фладд разлил чай из мельхиорового чайника; Ройзин слышала, как звякает фарфоровая чашечка на фарфоровом блюдце.
— Садись, — сказал он, — вот тебе яйцо.
Она никогда не завтракала в постели, но читала о таком в книгах. Страшновато было держать поднос на коленях, уперев его между ребрами и пупком, стараясь не вдохнуть слишком глубоко и не двинуть ногой. Фладд щипчиками положил ей сахар и размешал; у каждой чашки с блюдцем была своя ложечка.
— Ну, попробуй же, — убеждал Фладд. — Давай я намажу тебе поджаренный хлеб маслом. И еще можно положить на него мармелад. Съешь яйцо, тебе надо набираться сил.
Она с сомнением взяла ложечку.
— Как вы думаете, с какого конца надо разбивать яйца?
— Это вопрос личных предпочтений.
— А как считаете вы? — настаивала она.
— Не важно, что считаю я. Делай, как тебе нравится. Никаких правил нет.
— В монастыре мы не ели на завтрак яиц. Только овсянку.
— Наверняка у тебя дома были яйца. В Ирландии. Ты вроде говорила, что выросла на ферме.
— Да, яйца на ферме были, но не для еды. На продажу. Хотя, — добавила она, немного подумав, — иногда мы их все-таки ели, но не так часто, чтобы решить, с какой стороны их лучше разбивать.
Яйцо Фладда уже исчезло. Она не видела, как он его разбивает, а уж тем более ест, хотя могла бы поклясться, что последние пять минут, не отрываясь, смотрела ему в рот.
Потом им снова захотелось есть. В саквояже, в складках матросского платья сестры Поликарпы, обнаружились черствые булочки, упрятанные туда сестрой Антонией. Ройзин считала, что можно обойтись ими, но Фладд рассудил иначе.
Он вновь заказал еду в номер. На сей раз принесли овальное блюдо, накрытое салфеткой, на которой лежали крохотные бутербродики из хлеба с отрезанной коркой, и еще одно блюдо с булочками, украшенными листиками ангелики и мелкими засахаренными цветами поверх розовой и белой глазури.
Время шло. Ройзин чувствовала себя усталой, непомерно усталой. Фладд убрал подносы, и она вновь откинулась на подушку. Все утомление монастырских лет и детства, когда ее каждый день будили до света, вернулось разом, словно толпа внезапно нагрянувших родственников.
— Я могла бы пить сон, — сказала она. — Могла бы его есть, валяться в нем, как свинья в грязи.
Когда она просыпалась, они разговаривали: Ройзин рассказывала про свое детство, но Фладд не рассказывал ей про свое. Позже Фладд по телефону заказал в номер вино. Судя по всему, денег у него было не считано.
Вино — сладкое, желтое, первое вино в жизни — ударило ей в голову. Она на мгновение закрыла глаза и позволила себе задуматься о завтрашнем дне. Фладд сказал, что с ее волосами все будет хорошо, что он может сходить в «Полденс» на Маркет-стрит и купить шелковый платок, который они как-нибудь художественно намотают ей на голову, или, если она предпочитает, шляпку-ток. Однако Ройзин не знала, что это за шляпка такая, и оттого промолчала.
Когда она вновь открыла глаза, Фладд стоял и смотрел на улицу. Он сказал, люди спешат с работы на станцию. И еще он сказал, идет дождь, и пешеходы под раскрытыми зонтами похожи на колонны черных жуков.
Фладд смотрел на них, упершись в стену раскрытой ладонью. Он склонил голову и потерся о свою руку лбом и щекой, словно кот о диван.
— Комната на меня давит, — произнес он. — Завтра нам обязательно надо отсюда выйти.
Но прошли всего сутки, хотелось возразить ей. Тридцать семь часов назад она была в монастыре, одевалась под руководством сестры Антонии. Двадцать четыре часа назад — может быть, чуть меньше — они вошли в этот номер. В остальных местах все шло своим чередом: колокола звонили, монастырь жил по обычному распорядку. Интересно, что сказала Питура, когда вернулась из поселка и увидела, что Филомены нет? Обнаружила она это сразу, или в часовне за вечерней молитвой, или позже, когда все трапезничали супом? Придумывали ли другие сестры отговорки, чтобы как можно дольше скрыть ее побег? Лгали ли они ради нее, рискуя спасением души?
Она вновь и вновь крутила на пальце бумажное колечко мисс Демпси. Оно и впрямь было сделано замечательно. Лицо матери Питуры в воспоминаниях уже утратило былую четкость, поблекло, словно время и опыт уничтожили его, сожгли, как восковую куклу.
Фладд устал смотреть на конторских служащих и вернулся в постель.
Мисс Демпси все с той же блуждающей улыбкой внесла чай на подносе. Погода в Недерхотоне была, разумеется, еще хуже, чем в городе. Епископ сидел, загораживая спиной камин, продрогший и несчастный, тень самого себя.
В церковь он еще не заглядывал: его набожность пробуждалась только по необходимости. Когда он туда все же придет, то решит, что приказом убрать статуи пренебрегли. Они стояли на прежних местах, каждая в своем стальном кольце свеч, и выглядели как новенькие. «Дщери Марии» отмыли их и тщательно отполировали, а все мелкие дефекты замазали краской.
Отец Ангуин вертел в руках печеньку. Что ты скажешь, Айдан Рафаэль Краучер, когда придешь к выводу, что тебя не послушались? Если ты не хочешь, чтобы о твоих прежних взглядах узнала вся епархия, ты вежливо улыбнешься мне и промолчишь, а впредь будешь держаться со мной более уважительно.
— Сбежала, — глухо проговорил епископ. — Ох уж эти мне современные нравы.
— Возможно, сбежала, а возможно, убита.
— О Господи! Что вы говорите!
Он уже видел все возможные последствия.
— Завтра с утра полиция начнет раскопки. У нас только что побывал инспектор. Он ходил за гаражом и обнаружил там свежевскопанную землю.
— Неужто такое возможно? — Рука у епископа дрожала, чай из чашки плескал на блюдце. — Кто и зачем мог бы убить монахиню?
— Подозрение падет на недерхотонцев, — сказал отец Ангуин, — которым потребовалась девственница для их ритуалов.
Он вспомнил прихожанина, который после ранней мессы трясущимися руками вручил ему бумажный пакет. Там лежала стола отца Фладда — ее нашли привязанной к шесту на огородах. Приход уже бурно обсуждал исчезновение молодого священника. Когда над курятниками занялся рассвет и с Бэклейн заметили струящийся на ветру белый вымпел, возникла гипотеза, будто Фладд привязал там свою столу как знак бедствия. Другие, привыкшие во всем обвинять соседей, считали, что пьяные каннибалы из «Старого дуба» и «Ягненка» под покровом ночи выкрали молодого человека из неукрепленного дома при церкви, а деталь облачения вывесили как стяг победы.
Отец Ангуин был совершенно уверен, что ничего дурного с Фладдом не произошло, но сказать этого не мог, потому что в таком случае должен был предъявить его живым и здоровым. Утром он всячески успокаивал прихожан, поддерживая наиболее здравые гипотезы и стараясь свалить вину за возможные злодеяния в поселке на некоего чужака, который, по словам железнодорожных служащих, объявился на станции вчера в шесть вечера и купил один билет до города. Служащие запомнили его твидовый костюм, но не могли даже приблизительно описать внешность.
По счастью, епископ, занятый монастырскими делами, до сих пор не упомянул Фладда.
— Лишь бы она нашлась целой и невредимой, — сказал он. — Если она сыщется, мы вернем ее в монастырь и что-нибудь сочиним про потерю памяти. Тогда скандал удастся замять.
— Протестанты обязательно раззвонят на весь свет, — заметил отец Ангуин.
— Вы так легко об этом говорите! — взорвался епископ. Он грохнул блюдце с чашкой на стол, плеснув чаем на красную плюшевую скатерть Агнессы. — Вы преспокойно рассказываете мне, что из монастыря сбежала монахиня, а мать Перпетуя, обходя прихожан, вспыхнула пламенем. Что она говорила? Должна же она была что-нибудь объяснить? Не может же монахиня, да еще и настоятельница монастыря, просто так вспыхнуть сама по себе!
Отец Ангуин, не спеша отвечать, стряхнул с колен крошку от печенья. Ему вспомнилось, как сестра Антония вбежала с известием: «Мать Питура сгорела! Вместе с бородавкой!»
Епископ нервно потирал руки, сперва правую левой, потом наоборот.
— По словам людей, которые тащили ее на носилках, она что-то бормотала про синий огонь, ползущий к ней по траве. Они ничего не поняли.
— Надо побеседовать с нею в больнице.
— Агнесса звонила туда утром, и ей ответили, что ночь прошла спокойно. Агнесса утверждает, что в больницах так говорят, когда человек одной ногой в могиле. Я сам поговорил с дежурной медсестрой. По ее уверениям, там не столько ожоги, сколько шок. Врачи не думают, что она сумеет что-нибудь связно объяснить. Вы, Айдан, недооцениваете всю тяжесть происшедшего. Счастье, что мимо случайно проходил табачник — как вы знаете, он-то ее и потушил, иначе все бы закончилось еще хуже.
— Надо расспросить табачника. Вы говорите, он добрый католик?
— Ревностный прихожанин. Деятельный член Церковного братства.
— Охохонюшки, — снова вздохнул епископ. — Хорошо, что он там оказался. А вообще ужасная история, Ангуин, ужасная. Чем больше я о ней размышляю, тем меньше она мне нравится.
— Выдумаете, это происки дьявола? — спросил Ангуин.
— Чепуха! — с жаром ответил епископ.
Ангуин глянул на него предостерегающе.
— Монахини частенько страдают от происков лукавого. Святую Екатерину Сиенскую бесы много раз бросали в огонь. Они стащили ее с лошади и швырнули в ледяную реку вниз головой. Сестру Марию-Анжелику, монахиню из Эврё, два года преследовал нечистый в обличье зеленой шелудивой собаки. — Он ненадолго умолк, наслаждаясь произведенным впечатлением. — На мать Агнессу, доминиканку, напал дьявол, принявший вид стаи волков. Из-под блаженной Маргариты-Марии, когда та садилась у монастырского камина, бесы неоднократно выдергивали стул. Три другие монахини письменно засвидетельствовали, что святая у них на глазах в силу сверхъестественных причин трижды ударялась о пол копчиком.
— Наверняка есть какое-то другое объяснение, — жалобно проговорил епископ.
— Вы хотите сказать, более современное? Более актуальное? Какое-то экуменическое объяснение, как все это произошло?
— Не мучьте меня, Ангуин, — простонал епископ. — Мне очень тяжело. Думаю, все это было вызвано какой-то химической реакцией.