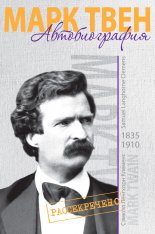Фладд Мантел Хилари
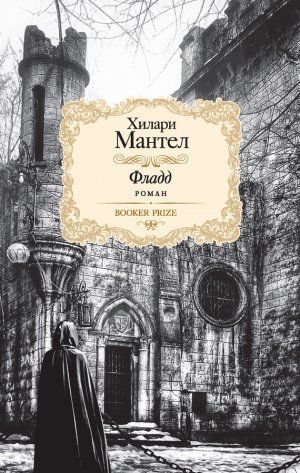
— Дьявол искушен в химии, — заметил отец Ангуин.
— И раньше бывало, что люди внезапно вспыхивали огнем, хотя я не слыхал, чтобы такое происходило с монахинями. Один такой случай описан в романе Диккенса[57]. А у этого, как же его фамилия, ну, с охотничьей кепкой и скрипкой, есть даже целое исследование.
— Вероятно, вы имеете в виду мистера Артура Конан Дойла, — сказал отец Ангуин. — Не знал, что вы читаете подобную литературу.
— Это называется самопроизвольное воспламенение, — проговорил епископ, ошалело глядя на собеседника.
— Воспламенение, безусловно, — согласился отец Ангуин. Насчет самопроизвольности он очень сильно сомневался с тех самых пор, как узнал, что на месте происшествия был Макэвой. Не всякий отличит пожарного от поджигателя.
В номере гостиницы «Ройял-Нортвестерн», когда женщины в платьях для коктейля спускались в мрачную крипту бара пропустить стаканчик джина, Фладд повернулся на другой бок, и Ройзин О’Халлоран пробудилась от полудремы. Она протянула руку, скользнув пальцами по его груди, и зажгла лампу на ночном столике. Было восемь вечера. Шторы они не задернули, и в номер светил фонарь, придавая всему подлунную бледность. Шелковая бахрома на абажуре отбрасывала длинные тени на стенку гардероба.
Ройзин О’Халлоран села. Бедра ныли, особенно с внутренней стороны. Фладд еще раньше объяснил: болят те мышцы, которые раньше не работали. Он сказал, ей надо пройти по коридору и принять горячую ванну с ароматическим маслом, понежиться средь пара, тепла и белоснежного кафеля.
Он перекатился на спину; его глаза были открыты и смотрели в темноту.
— Наверное, уже обеденное время, — сказал он. — Можно пойти в ресторан.
— Да.
Внезапно — возможно, это произошло за время сна — она перестала стесняться своей одежды, волос, неумения вести себя, как другие женщины, и сейчас легко отбросила простыню. Тонкая кожа на шее и возле ключиц была розовая и теплая. Груди немного болели. Он взяла их горстями — какие же тяжелые!
— Мне надо купить бюстгальтер, — сказала она. — Завтра.
— Сегодня тебе придется обойтись без него, — ответил Фладд. — Более пылкий любовник предложил бы остаться в постели, но я слышал, в здешнем ресторане французская кухня, и мне бы хотелось ее попробовать. Ты ведь пойдешь со мной?
— Да. — Она села на смятых простынях и прижала колени к подбородку. — Пока мы не ушли, погадайте мне снова по руке. Там ведь была звезда? Глянете на нее еще раз?
— Здесь слишком темно, — сказал Фладд.
— Тогда попозже?
— Может быть. В ресторане.
Епископа словно парализовало. Он сидел, молча глядя в камин, как будто размышлял о природе огня. Отец Ангуин не знал, надо ли просить Агнессу что-нибудь приготовить на ужин. Неизвестно, что она купила, когда ходила по магазинам, и вообще вспомнила ли о продуктах за бурным обсуждением новостей.
— Надо бы перекусить, — сказал он. — Я могу попросить экономку, чтобы она этим занялась. Не знаю, что она приготовила, но нам обоим точно хватит. Отец Фладд сегодня, к сожалению, обедает в другом месте.
Он заранее приготовил отговорки, чтобы скрыть отсутствие священника. Фладда пригласил к себе член Церковного братства, которому сестра привезла из деревни кролика на пирог. Или даже лучше: отец Фладд на поминках, утешает скорбящих родственников, там его накормят холодной телятиной.
Епископ вскинул голову.
— Фладд? Что за Фладд? Я такого не знаю.
Отец Ангуин слышал эти слова, но не ответил.
Наконец-то все намеки сошлись, и общая картина обрела ясность. Он внезапно понял, что нисколько не удивлен.
Что там ангел сказал Товиту? «Все дни я был видим вами; но я не ел и не пил, — только взорам вашим представлялось это»[58].
Официант положил ей на колени полотняную салфетку размером с небольшую скатерть. Ройзин была в белом муслиновом платьице с матросским воротником; Фладд помог ей застегнуться и сказал, что она прекрасно выглядит. И пусть оно было старомодное, но сейчас легкая юбка приятно щекотала ей ноги. И вырез вполне приличный, подумала Ройзин. Впрочем, какая теперь разница…
Второй официант поставил на стол свечу, остальные скользили в полутьме, катя столики на колесах. Все они были в белых пиджаках, узкогрудые, с худыми старческими лицами малолетних преступников.
— В прежней жизни, — сказал Фладд, — я не имел дела с женщинами и теперь вижу, как много потерял.
— В прежней жизни — это когда вы притворялись врачом?
Фладд замер с вилкой в руке, не донеся до рта кусок фрукта, про который объяснил Ройзин, что это называется «дыня».
— Кто тебе такое обо мне рассказал?
— Вы сами и рассказали.
— Так ты не поняла аналогии?
— Не поняла. — Она пристыженно опустила глаза. Вкус у дыни оказался совершенно никакой, будто сосешь свои пальцы, будто тело, растворенное в воде. — Я предпочитаю, чтобы все было таким, какое оно есть. Вот почему я так ненавидела свои стигматы. Откуда они взялись? Меня же не распяли. Я не понимала, отчего они появились.
— Не надо о них вспоминать, — сказал Фладд. — Теперь все это позади, у тебя начнется новая жизнь.
Подошел официант и забрал пустые тарелки.
— Моя ладонь, — напомнила девушка. — Вы обещали мне погадать, когда придем в ресторан.
Она протянула раскрытую руку к свече.
— Довольно и прошлого раза, — ответил Фладд.
— Нет, расскажите снова. Тогда я плохо слушала. Я хочу знать свою судьбу.
— Я не могу ее предсказать.
— Вы говорили, что она написана у меня на ладони и что вы в такое верите.
— Рисунок линий непостоянен, — сказал Фладд. — Душа постоянно меняется. Нет одной непреложной судьбы. Твоя воля свободна. — Он постучал пальцем по ее раскрытой ладони. — Ройзин О’Халлоран, слушай меня внимательно. Да, в некотором смысле я могу предсказывать будущее, но не так, как ты думаешь. Я могу нарисовать тебе карту, отметить развилки и повороты. Однако я не могу пройти за тебя твой путь.
Она опустила голову.
— Тебе страшно? — спросил Фладд.
— Да.
— Вот и хорошо. Так и должно быть. Без настоящего страха ничего не достигнешь.
У нее задрожали губы.
— Ты не понимаешь, — устало проговорил он.
— Так помогите мне. — Ее глаза смотрели с мольбой, глаза напуганного животного. — Я не знаю, кто вы. Не знаю, откуда вы пришли и куда можете меня завести.
Из-за других столиков вставали сытые посетители, бросая мятые салфетки на красные плюшевые сиденья. Бизнесмены пили за успешно заключенную сделку. Хрусталь звенел о хрусталь, вино текло, темное, как кровь нашего Спасителя. Фладд открыл было рот, чтобы заговорить, и тут же осекся. Жалость перехватила горло.
— Я хотел бы тебе сказать, — произнес он наконец, — но по собственным причинам не могу.
— А что за причины?
— Можно сказать, профессиональные.
Искусство трансформации диктует свои условия. Оно требует всего человека: помимо колб и реторт, для него нужны вера и знания, ласковые речи и добрые дела. А когда все это есть, необходимо последнее, без чего все остальное не сработает: молчание.
Фладд отыскал взглядом официанта и дал понять, что пора нести следующее блюдо. Официант принес чистые тарелки, затем поставил на стол спиртовку и театрально протер ее белой салфеткой, которую затем перебросил через руку, искоса поглядывая по сторонам, словно проверяя, видят ли его коллеги.
Прибыло мясо в соусе. Официант поставил его на спиртовку, чтобы подогреть, чем-то полил. В следующий миг все занялось огнем. Щеки у Ройзин О’Халлоран вспыхнули от стыда за официанта: такого конфуза не случалось даже с сестрой Антонией. Сжечь еду на плите — да, бывало частенько, на столе — никогда.
Однако Фладд ничуть не рассердился. Он прямо и твердо смотрел на нее сквозь пламя. Она решила, что мясо вряд ли подгорело сильно; надо будет съесть свою порцию, чтобы никого не огорчать.
В тот миг, когда между ними взметнулось синее пламя, озарив белую скатерть и темное лицо Фладда, из глаз Ройзин О’Халлоран брызнули слезы. Все так чудесно, подумала она, пока длится, но оно не будет длиться всегда, потому что даже ад не вечен, и даже рай…
— Шампанское, — сказал Фладд официанту. — Давай, любезный, поживее, ты же слышал: шампанское.
* * *
Когда она проснулась на следующее утро и не увидела его в постели, то в первый миг заплакала, словно испуганный ребенок в незнакомой квартире. Ее не удивило, что она проспала его уход: сон был беспробудный, тяжелый — наверное, так спят преступники перед казнью.
Она встала, голая, и охлопала ладонью ночной столик. Солнце пробивалось в щель между плотными шторами. Ройзин О’Халлоран оглядела комнату: она что-то искала, хотя и не знала толком, что именно.
Однако довольно скоро это что-то сыскалось. Ее взгляд упал на листок бумаги. Судя по всему, Фладд оставил ей записку.
Пуховое одеяло валялось на полу. Ройзин сдернула с кровати простыню и завернулась. Ей не хотелось раздвигать шторы, и она включила лампу.
Потом развернула записку. Почерку Фладда был странный, мелкий, старообразный, похожий на тайнопись, сама записка — короткая.
Золото твое. Ты найдешь его в ящике.
И ни словечка, ни единого словечка о любви. Быть может, подумала она, он любит не так, как другие. В конце концов, Бог нас любит и оттого посылает нам рак, холеру, сиамских близнецов. Не все формы любви понятны, а некоторые убивают всё, к чему прикасаются.
Она сидела на кровати, держа листок двумя руками, словно важный государственный документ, и возя босыми ногами по ковру. Ей подумалось, что слово «золото» — описка.
Наконец она положила письмо на подушку и встала. Открыла верхний ящик тумбочки, где Фладд держал свои вещи. Ящик, разумеется, был почти пуст.
Однако Фладд оставил ей косынку железнодорожника, которую сорвал с шеста на огородах по пути к станции.
— Взамен я привязал там кое-что свое, — объяснил он позже. — Не хотелось исчезнуть из прихода совсем уж без следа.
Ройзин О’Халлоран взяла косынку, встряхнула и прижала к лицу. От старой ткани пахло торфом, угольным дымом, туманом, целым прошедшим годом. Ройзин аккуратно свернула косынку и положила на полированный верх тумбочки.
Еще в ящике лежал ситцевый мешочек с завязками, вроде тех, в каких дети хранят мраморные шарики, только гораздо больше. Ройзин взяла его и ощупала: он был тяжелый и чем-то плотно набит. Она растянула завязки. Внутри лежали банкноты.
Господи, подумала она, он ограбил банк? Это игрушечные деньги, или их примут в магазине? Она вытащила одну бумажку и как будто взвесила в руке. Банкнота выглядела настоящей. Казалось, мелочь, которую он высыпал в носовой платок, умножилась. Такую крупную купюру ей еще видеть не доводилось.
Ройзин О’Халлоран вытащила всю пачку, повертела ее в руках, потрогала пальцем край. Она не знала, сколько тут денег. Считать замучаешься. По ощущению — хватит на любую покупку, какая может прийти ей в голову.
Итак… Некоторое время она сидела в задумчивости. Да, ей хотелось его вернуть; она представляла часы, дни, месяцы и годы, когда будет о нем тосковать. Однако если оставить это в стороне, разве она не вполне утешена? В конце концов, ей не придется обивать фермерские пороги или стучаться в монастырскую дверь. Никто не должен будет кормить ее из милости, по крайней мере пока не закончатся эти деньги, а при ее скромных привычках их хватит надолго. «А к тому времени как они кончатся, — подумала она, — я буду где-нибудь далеко: жизнь дает мне второй шанс».
«А почему они вообще должны закончиться?» — была ее следующая мысль. Это не обычные деньги, не простое золото. Они как любовь. Если она возникла, то будет умножаться и умножаться, удваиваться снова и снова, словно клетки зародыша.
Ройзин глянула на бумажное обручальное кольцо, подумала: «Я смогу купить себе настоящее», — и сразу повеселела. Она прижала пачку к щеке. А еще говорят, будто деньги — корень всех зол. Впрочем, это протестанты так говорят. Католики умнее.
Она уложила деньги обратно в мешочек, бумажка к бумажке, затянула завязки и убрала его на дно саквояжа. Затем взяла с подушки письмо, сложила и сунула туда же на случай, если кто-нибудь начнет доискиваться, откуда такая сумма. Тут ясно сказано: «Золото — твое».
Она наполнила раковину, глядя, как бежит из кранов вода, взяла мягкую тряпочку и с ног до головы вымылась ароматным мылом, затем наполнила раковину еще раз, чистой, почти холодной водой, и снова обтерлась тряпочкой, думая про себя: «Люди живут так всегда, они могут мыться хоть каждое утро».
Из уличной одежды у нее был только костюм. Привычный, он уже не казался таким ужасным, и, надевая его, Ройзин О’Халлоран думала, что есть заботы поважнее чужого мнения.
Она заправила постель, затем села и проплакала пять минут, по часам, чувствуя, что на слезы ей отпущено ровно столько и ни секундой больше. В конце концов, она всегда знала, что Фладд уйдет; у нее и мысли не возникало, что будет иначе.
Когда ее пять минут истекли, Ройзин О’Халлоран вновь подошла к раковине, намочила уголок тряпочки под холодным краном и промыла глаза, затем выпрямилась, глянула на свое отражение в зеркале и повязала голову клетчатым платком: пусть чужое мнение и не важно, будет обидно, если ее задержат и отправят в сумасшедший дом. Наконец она шагнула к окну и раздвинула шторы. В комнату хлынула волна света, озарив гардероб, тумбочку и свежезастеленную кровать. Ройзин О’Халлоран отступила на шаг и в изумлении оглядела номер.
Потом она робко прошла по коридору, мимо огромных, мутных от копоти окон, завешенных алыми бархатными шторами с золотыми кистями, словно у кардинальской шапки на гербе, спустилась по широкой мраморной лестнице и приблизилась к алтарю красного дерева. Давешний субъект вежливо пожелал ей доброго утра. Она предложила заплатить по счету, и субъект удивленно ответил, что доктор уже заплатил. А где сам доктор, полюбопытствовал субъект. Уже уехал, сказала Ройзин.
А, ясно, тогда и вам лучше уйти прямо сейчас, миссис Фладд, проговорил субъект совсем другим тоном, на что она заметила кротко, что уже уходит, вот и сумка при ней, разве он не видит? Вы могли бы позвать портье, мадам, произнес субъект, незачем было утруждаться самой, а когда она отдала ключи и двинулась к выходу через мраморный вестибюль, похожий на заледенелое озеро, до нее долетели его слова, обращенные к товарищу: «Знаешь, Томми, я двадцать лет тут работаю и уж думал, любую из них отличу за милю, но такую чудную шлюху мне еще видеть не доводилось».
То был редкий на севере Англии день, когда бледное солнце играет на каждом черном сучке зимнего дерева, когда иней позолотой искрится на тротуарах, а высокие дома, эти храмы коммерции, сияют, будто сделанные из дыма и воздуха. Тогда город отбрасывает арктическую суровость, а его жители всегдашнее обиженное недовольство. На злобных лицах проступает дружелюбие, как будто бледное солнце согрело черты и растопило сердца. Конторским служащим хочется слушать Моцарта, есть венские пирожные и пить кофе с ароматом инжира. Уборщицы напевают, возя по полу швабрами, и щелкают низкими широкими каблуками, словно танцовщицы фламенко. Каналетто останавливается на мосту Блекфрайарз сделать набросок, по Манчестерскому каналу снуют гондолы.
Ройзин О’Халлоран быстро шагала в сторону станции. Она прошла под рекламными щитами на Лондон-роуд, и если кто-нибудь приметил ее саржевый костюм и черные парусиновые туфли на резиновой подошве, то счел их милой оригинальностью. Глаза щипало, щеки горели, но то был бодрящий холод, и все вокруг — искрящиеся золотом тротуары, лица манчестерцев, цветные картинки над головой — казалось созданным за одну ночь в ходе какого-то хитроумного процесса: чистые лица, дивные рекламные щиты, тротуары без единого пятнышка. «Я могу поехать куда угодно, — думала она. — Например, в Ирландию. На корабле. Если захочу. Или в другое место».
Вступив в гулкую темноту Лондонского вокзала, полную дыма и паровозных гудков, Ройзин О’Халлоран аккуратно поставила саквояж между ног, прочла табло отправления и выбрала поезд, который приглянулся ей больше других.
* * *
Отец Ангуин проснулся поздно. Мисс Демпси принесла ему чай в постель — впервые за все время, что они прожили под одной крышей. «Дщери Марии» возмутились бы, — подумала она, — если бы узнали, что я вошла в комнату священника, когда тот в постели. Наверное, с позором выгнали бы меня из сестринства».
По крайней мере чай придаст ему силы для предстоящего дня, когда надо будет отвечать на трудные вопросы и придумывать ловкие объяснения. Когда-нибудь мы вспомним недавнее время и назовем его эпохой чудес. Мисс Демпси тронула то место на губе, где раньше была бородавка; всякий раз, проходя мимо зеркала («Надо будет повесить их еще, в каждой комнате!»), она смотрела на свое отражение и улыбалась.
Пока же предстояло разобраться с полицией. В девять прибыл главный констебль собственной персоной. Это был современный полицейский, с гладким лицом и холодными глазами, и больше всего на свете ему нравилось раскатывать по округе в большом черном автомобиле.
На картинах ангелы благовещенья предстают в разных обличьях. У некоторых маленькие ступни, невесомые кости, а крылья переливаются, как оперение зимородка. У других золотые кудри и смиренные лица музыкантш. Иногда ангелы более мужественны. Их горилльи ноги попирают мраморную мостовую, в крыльях чудится влажная тяжесть моржовых туш.
Есть изображение Мадонны с Младенцем, написанное Амброджо Бергоньоне. Лицо матери серебристо-бледное, ребенок — упитанный бутуз, из тех, что уже давно могли бы ходить, но по-прежнему не слезают с рук. Он стоит на зеленом покрывале, мать легонько его придерживает.
По бокам от нее — раскрытые створки окна, выходящего на пыльную улицу. Жизнь идет своим чередом. Вдалеке колокольня. К нам бредет человек с корзиной, еще двое удаляются, о чем-то увлеченно беседуя, за ними бежит белая собачка с пушистым, завитым в колечко хвостом. Младенец играет четками, наверное, коралловыми.
Перед женщиной книга, раскрытая на первом псалме с его оптимистичным финалом: «Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет».
На первый взгляд в лице Мадонны читается безграничная печаль, и лишь всмотревшись пристальнее, можно заметить, что в ямочках на щеках играет улыбка, а длинные желтовато-карие глаза светятся тихой радостью.