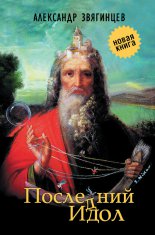Поэтка. Книга о памяти. Наталья Горбаневская Улицкая Людмила

- И вовсе нету ничего – ни страху,
- ни цепененья перед палачом,
- роняю голову на вымытую плаху,
- как на случайного любовника плечо.
- Катись, кудрявая, по скобленым доскам,
- не занози разинутые губы,
- а доски ударяют по вискам,
- гудят в ушах торжественные трубы,
- слепит глаза начищенная медь,
- и гривы лошадиные взлетают,
- в такое утро только умереть!
- …
- В другое утро еле рассветает,
- и в сумраке, спросонья или что,
- иль старый бред, или апокриф новый,
- но всё мне пахнет стружкою сосновой
- случайного любовника плечо.
«Не доезжай, Наталья, до застав»
Об этом нельзя не сказать, этого никак нельзя упустить – Наташины ранние путешествия на попутках то в Ленинград, то в Тарту, то в Апшуциемс. Качество, противоположное клаустрофобии, любовь к разомкнутому пространству, к самому перемещению в пространстве, страсть к движению, также нежная любовь к московским трамваям и парижским автобусам. Она дорожила этим уединением-перемещением, может быть, еще и потому, что большая часть ее стихов рождалась в дороге.
Г. Корниловой
- Господи, все мы ищем спасенья,
- где не ищем – по всем уголкам,
- стану, как свечка, на Нарвском шоссе я,
- голосую грузовикам.
- Знаю ли, знаю ли, где буду завтра —
- в Тарту или на Воркуте,
- «Шкода» с величием бронтозавра
- не прекращает колеса крутить.
- Кто надо мною витает незрим?
- Фары шарахают в лик херувима.
- Не проезжай, родимая, мимо,
- иначе все разлетится в дым.
- Не приводят дороги в Рим,
- но уходят всё дальше от Рима.
С 1968 года, когда стала выходить «Хроника текущих событий», Наташа путешествовала много уже по делу – с рюкзаком. Тогда же она мне и объяснила разницу между рюкзаком и «сидором». Он был довольно тяжелым, этот «сидор», набитый бумагой, с которым она путешествовала.
- Мое любимое шоссе
- в рулон скатаю, в память спрячу,
- как многолетнюю удачу,
- как утро раннее в росе.
- И даже Вышний Волочёк,
- где ноздри только пыль вбирают
- и где радар с холма взирает,
- как глаз, уставленный в волчок.
- Еще и на исходе дня
- Тревожный тяжкий сон в кабине,
- и вздохи в зное и в бензине,
- и берег, милый для меня.
Всем Наташиным друзьям была известна эта ее «автостопная страсть». Однажды, иронизируя, Анна Андреевна Ахматова сказала: «Ну что, Горбаневская опять на встречных путешествует?» В это автостопное десятилетие, казалось, для Наташи действительно была важнее сама дорога, чем цель, к которой она вела.
- …Опять моя отрада мерить мили
- в грохочущих, как театральный гром,
- грузовиках, ободранных кругом,
- и взмахивать рукою, как крылом.
- Одни дороги мне остались милы,
- и только пыльный плавленый асфальт
- из-под колес бормочет: – Не оставь,
- не доезжай, Наталья, до застав.
Наташина легкость, предпочтение движения покою, была, конечно, качеством ее натуры. Тем интереснее наблюдать эту эволюцию – передвижение в пространстве обретает всё новые краски, расширяется диапазон восприятия: мир дороги, взаимодействие глаза и пейзажа, наполняется все более знаками душевного движения.
- О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь
- (и, утираясь, говоришь, что слезы – ложь)
- в бетонной скуке станции Ланская,
- в хлопках автоматических дверей,
- где небо с пылью склеено… – Какая
- тоска и гарь! – Так едем поскорей!
- И вот поехали, и вот последний крик,
- как стронулся, таща тяжелый след, ледник,
- теряя валуны в межребеных канавах,
- в мельканьи пригородов, загородов, дач,
- в желтоволосых придорожных травах
- и в полосах удач и неудач.
- Когда что плоть, что дух, как лед, истаяли,
- куда ж нам плыть, мой друг? Куда и стоит ли?
- На перестуках шпал, на парусах обвислых,
- на карликовых лодочках берез
- куда ж нам плыть? В каких назначить числах
- отход от пристани, не утирая слез…
В более поздние годы и в ее жизни, и в творчестве движение из одной географической точки в другую видоизменяется, приобретая новое качество: география наполняется метафизикой. В 2007 году в Кракове состоялась встреча поэтов Востока и Запада. Наташа подготовила для этой встречи эссе, которое так и осталось непроизнесенным, но было напечатано в «Русской мысли». Ниже – фрагмент из этого эссе.
Л. У.
Наталья Горбаневская
Дорога и путь
…По-русски существует то почти неуловимое различение, которого нет в польском (но есть и в других языках): «дорога» и «путь». В поэзии эти два понятия, пожалуй, впервые так близко встречаются у Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит». По замечанию Георгия Левинтона, этот «кремнистый путь», пройдя через Мандельштама – «кремнистый путь из старой песни», – превращается в слышимый за гранью стиха «тернистый путь».
В начале жизни – а нам долго кажется, что она все еще начинается, – живя легкомысленно и со дня на день, мы обычно знаем лишь дорогу, дороги, передвижение в пространстве. Для меня первой такой дорогой стали многочисленные поездки автостопом в Ленинград, Псков, Таллин, Тарту, Ригу, Вильнюс. Эти дороги я и по сей день вспоминаю ностальгически, они появлялись и появляются во многих моих стихах. Вторая важнейшая дорога – но в большей и более осознанной степени путь – вела меня в эмиграцию. «Перелетая снежную границу» – так называется мой первый парижский сборник стихов, куда вошли две тетради стихов, написанных в России, и три – в Париже.
Но, живя жизнь и где-то к старости наконец взрослея, понимаешь, что главное – не само географическое передвижение, даже если перемещаешься по другую сторону железного занавеса. Не дорога, а путь. И что ни день припоминаешь страшные слова: «Я есмь путь и истина и жизнь». Страшные, потому что страшно и трудно идти этим путем, воистину тернистым, следовать Тому, Кто сказал одному ученику: «Иди за Мною», – но Он же потом сказал другому: «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти». Страшно и трудно: «…широки врата и пространен путь, ведущие в погибель (…) тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь». ПУТЬ – синоним «дороги», но от нас зависит, станет ли он синонимом погибели или ЖИЗНИ. Жизни и истины. Об этом пути все чаще идет речь в моих стихах[15].
Стихотворение, как будто воспоминание юности из гораздо более позднего времени, – стихи про автостоп, но написанные много позже и в другой перспективе. Его вспомнил Георгий Левинтон на вечере памяти Наташи в Фонтанном доме, в Петербурге.
Л. У.
- И только одного – по возрасту, видать,
- а экая была бы благодать
- по нашим милым западным Европам
- проехаться, как прежде, автостопом,
- как прежде: затемно добравшись за кольцо,
- зажмурясь от слепящих фар в лицо
- и вовсе без надежды уповая,
- что вдруг притормозится легковая,
- и, простояв, казалось бы, века,
- внезапно изловить грузовика…
- А прочее я всё здесь испытала:
- как с Курского на юг – с Лионского вокзала
- в Венецию, Флоренцию и Рим,
- но лучше с Северного, где так сладок дым,
- – как прежде в Ленинград ночными поездами
- и просыпаться утром в Амстердаме.
Наташа и ее сыновья
Ясик Горбаневский был первый ребенок, родившийся у моей подруги. Потом подруги нарожали множество детей, и все они называются «наши дети». Они вместе росли, дружили, некоторые переженились, произвели уже «наших внуков». Но Ясик был первым! Совсем недавно, разбирая мемориальный сор, хранящийся в фарфоровой бабушкиной шкатулке, нашла квадратик розово-желтой больничной клеенки, на которой написано химическим карандашом «5 сентября 1961 Горбаневская, мальчик». Это мне Наташа на память подарила. А имени еще не было у мальчика! Мне было всё очень интересно, но я, в сравнении с Наташей, была опытная – у меня был двоюродный брат, на десять лет младше, и моя первая материнская страсть пробудилась на нем, поэтому я умела и купать, и пеленать, и попку мазать. Мне доверяли. Но Наташиным младенцем овладела Евгения Семеновна, оттеснив Наташу. Только грудью Евгения Семеновна кормить не могла – это досталось Наташе.
Оську, когда Наташа сидела, я иногда из яслей забирала. Он ночевал как-то у меня на неудобном диванчике, плакал, спать не давал, а я на него злилась – была еще бездетная, сейчас понимаю, что надо было к себе в постель взять. С ним же был забавный эпизод, уже когда Наташа вышла. Она стоит в раздевалке ясельной группы за шкафчиком, ждет, когда детей выведут, а ее за шкафчиком и не видно. Она слышит, как одна нянька говорит другой: «Так-то он хорошенький, Ося этот, только вот ручки еврейские какие-то». Он и правда был хорошенький, но мы с Наташей над этими «еврейскими ручками» долго смеялись: вот какое чутье у народа – никакой генетик не докопается, а у простой женщины глаз как алмаз, никакого анализа не надо!
Для многих людей это осталось невместимым – как можно было с трехмесячным ребенком идти на демонстрацию, подвергать его опасности. Этот вопрос Наташе потом много раз задавали. Она отвечала всякий раз немного по-разному. Однажды сказала: «глупая была»! Но я думаю, что ситуация сложилась такая, что она действительно уже не могла не выйти на площадь. Перестала бы себя уважать. В стране, где народ потерял самоуважение, бесконечно важно видеть раз в сто лет женщину с коляской на Красной площади, которая говорит «нет» тогда, когда все стыдливо опускают глаза и молчат.
Поступок Наташи вызывал во многих ее друзьях смешанное чувство восхищения и ужаса – это просто безумие!
Психика женщины, имеющей маленького ребенка, настроена на защиту своего малыша. Когда существует угроза его жизни, женщина проявляет чудеса героизма, и героизм этот диктует ее природа. Женщина обычно создает все условия, чтобы ребенку было комфортно… Но что произошло с Наташей? Почему она, вопреки всем тем древним программам, которые работают в женском организме, поставила своего ребенка в положение столь опасное? Ведь в те времена и сомнений быть не могло, что за демонстрацией последуют репрессии… Значит, была какая-то мотивация в ее поведении более сильная, чем материнский инстинкт? Это было ее гражданское чувство. Возник конфликт между инстинктом материнским и социальным, конфликт с собственной совестью… Ее понятие о совести требовало этого самоубийственного действия, и она на него пошла, понимая все последствия.
Наташин поступок нарушал понятие «нормы» – отсюда и это смешанное чувство. Ужас – потому что был нарушен закон сохранения и защиты потомства. Восхищение – потому что она защищала в этот момент свободу других людей, другого народа и другой страны. Это не «нормальное поведение», оно на грани патологии. Именно этим и воспользовался КГБ, который дело Наташи перепоручил психиатрам, а те с готовностью придумали диагноз, которого и на свете нет. Суд в России существует, только правосудия нет. Так и по сей день.
Наташа отсидела свой срок. Вышла, вернулась к своим детям. К своим любимым детям. Да, она была человеком, выходящим за границы нормы. Она была поэтом, и поэтом прекрасным. И уже одно это – за границей средних человеческих способностей. У нее было обостренное чувство справедливости – и это тоже за границами средних человеческих возможностей.
Я ничего не имею против среднего человека, я и сама к этому большинству принадлежу. Но, положа руку на сердце, если какой-то прогресс в нашем мире существует, то идет этот процесс за счет тех «ненормальных», кто умеет переходить границы обыденного… И это – про Наташу. А дети ее всегда любили, гордились ею. И подрастающие внуки тоже.
Л. У.
Ира Максимова
Женщина с коляской
Наталья (в начале шестидесятых) много писала, но почти ничего не удавалось напечатать, денег не было совсем. А еще она вздумала рожать – появился на свет первый ее сын, Ярослав, Ясик. Она всегда заявляла, что рожает детей для себя и ничего не хочет от их отцов. Имя отца Ясика она скрывала от всех, даже от сына. А он был хорошим, порядочным человеком, талантливым переводчиком. Хотел быть отцом своему сыну, приходил к Наталье, предлагал деньги, помощь. Но она всё отвергла. «Это мой сын» – вот и весь разговор. Ясик рос в бедности, в яслях, на пятидневках, не знаю, что бы с ним было, если бы не бабушка Евгения Семеновна, которая всё и всегда брала на себя. Наталье и правда было не до бытовых забот, не до горшков и пеленок.
Она не такая, как все…
В 1968 году Наталья родила второго сына – Иосифа… Оське было неполных четыре месяца, когда разразились чехословацкие события. Наталья сразу заявила: этого нельзя проглотить, надо бороться, возмущаться, кричать на весь мир о своем несогласии с политикой Советского Союза. Каюсь, я была в ужасе – плакала, уговаривала ее промолчать, поберечь себя и детей. Но разве можно было ее остановить? Что было дальше – известно всем. Семеро молодых людей вышли на Красную площадь, среди них женщина с коляской.
…Арестовали всех, кроме Натальи. Ей сказали, что придут за ней, когда ребенку исполнится год. Органы были аккуратны. Наталью арестовали, как и обещали, 29 декабря 1969 года, она год отсидела в Бутырке, а потом – что было гораздо хуже и страшнее – в тюремной «психушке». Детей хотели определить в детдом – на этом настаивали Наташкин брат и его жена Галя, которые ненавидели свою мятежную родственницу и не желали иметь с ней ничего общего. Мы спрятали детей: я забрала Ясика, а Нина Литвинова – Осю, и отдали их только тогда, когда бабушка, Евгения Семеновна, с огромным трудом добилась права на опеку.
…Наталья вернулась, и сразу было ясно, что она, во-первых, не собирается прекращать борьбы, а во-вторых, ей придется уехать из страны. Однако уехала она только в конце 1975 года. Отъезд затянулся из-за Евгении Семеновны: она не хотела уезжать сама и не давала разрешения на выезд дочери и внуков – тогда ведь считалось, что эмиграция – это навсегда, как смерть, и она не могла перенести мысли о вечной разлуке с родными людьми. Она еще успела их увидеть – несколько раз приезжала к Наталье в Париж. Но умереть всё же хотела в Москве.
…В Париже всё складывалось нелегко. Мало работы, мало денег, много проблем. Дети росли, всё более превращаясь в настоящих французов. Ясик сейчас художник, женат на очаровательной француженке, у них сын Пьер, то есть Петя. Ося, талантливый, самобытный, неуправляемый, как мама, всё еще ищет себя, пробуя себя то в кино, то на телевидении. Несколько лет назад, в юбилей пражских событий, Наталью с Осей пригласили в чешское посольство в Париже, где их принимал Вацлав Гавел, он много шутил с Осей – всё спрашивал, сохранилась ли та колясочка, в которой он въехал на Красную площадь.
Наталья Горбаневская
«Мама! Это я тот ребенок?»
– Наталья Евгеньевна, к тому моменту, когда вы в числе семерых смельчаков вышли на Красную площадь «За нашу и вашу свободу», у вас было уже двое детей. Как они тогда пережили повороты вашей судьбы и как сейчас относятся к своему своеобразному детству?
– Старшему сыну Ясику я после демонстрации всё рассказала. Он у меня был такой, с ним можно было говорить. Я ему, помню, как-то сказала: «Ясик, только, ты знаешь, в школе ты об этом ничего не говори». А он ответил: «В школе я обо всём этом забываю».
Ося у нас был другой. Когда я вышла из психушки, ему уже было четыре года. Я что-то такое неосторожное произнесла, он сразу передал бабушке. Ну, правильно, он и вырос-то с бабушкой. И мама мне говорит: «Знаешь, что? Когда ты была маленькая, я тебя ни в пионеры, ни в комсомол не гнала, ты сама всюду рвалась. И дети пусть вырастут, сами разберутся». Больше я с Осей ни о чем не говорила, и он ничего не знал вплоть до города Вены, куда мы приехали на нашем пути в эмиграцию. Там у меня взяли огромное интервью для радио «Свобода».
Когда это интервью передавали, мы все его вместе слушали. Вдруг Ося раскрыл глаза: «Мама! Это я тот ребенок? Который был в коляске с тобой на площади?» И с тех пор по сей день необычайно этим гордится.
А совсем недавно произошла история, которую я никому не успела рассказать. Ясика у меня дома долго ждал один приятель, а он опоздал и говорит: «Я должен был сначала Петю покормить». А его сыну Пете скоро пятнадцать, то есть здоровый парень, они должны были поужинать. «Ну да. Ты-то, небось, не потащил бы ребенка за собой на Красную площадь?» – говорю я иронически. Ясик так обиделся! «Ты понимаешь, что ты говоришь? Я вырос на этом, на том, что ты пошла на Красную площадь, я на этом взращен, а ты мне такое говоришь!» Так что для детей это… я думаю, оказалось очень важным[16].
Иосиф (Ося) Горбаневский, сын
Младший участник
Моя мать была человеком сдержанным, иногда молчаливым, даже скрытным. Может быть, я унаследовал от нее эту черту характера. Поэтому сейчас, может быть, как раз из-за того, что она нас покинула, какое-то чувство целомудрия мешает мне слишком много о ней писать.
Последний раз я видел маму в июне 2013 года. Летом. Она специально приехала посмотреть мой последний фильм на его единственный показ в кинотеатре в Дордони, регионе на юго-западе Франции, где я уже больше десяти лет живу с моей спутницей Эльзой и нашими двумя дочерьми, Ливией и Миленой.
Мама любила приезжать к нам, часто предупреждая в последний момент по телефону. В тот раз ее приезд был предусмотрен задолго, потому что я ее заранее предупредил о показе.
Я поехал за ней на вокзал в Брив, и на обратном пути мы как обычно провели время за курением. Время от времени молчание прерывалось разговорами о моем профессиональном будущем, о том, как у меня с работой сейчас и чего ожидать дальше. Еще было светло, и я повел машину по самой красивой дороге, она чуть длиннее, но зато перед матерью пробегали прекраснейшие пейзажи Перигора. Мы проехали Террасон и въехали в Монтиньяк, городок, в котором я живу, известный пещерой Ласко.
В машине мать прикорнула, но, как только мы приехали, оживилась – она была рада снова быть со своей перигорской семьей, которая нетерпеливо ее ждала. Для моих детей приезды «бабушки» (по-русски в тексте. – Примеч. И. Горбаневского) всегда были радостью, она всегда привозила им подарки, иногда она привозила какую-нибудь одежку, старательно выбранную в парижском магазине. Привозила она и шоколадные конфеты, детские книжки, русские карамельки и, конечно же, «сушки», множество «сушек» (маленькое русское печенье в форме кольца. – Примеч. И. Горбаневского).
Глаза у нее загорались, когда она видела бегущих к ней радостных проказниц-внучек. Девочки принимали ее как равную, показывали ей новые игрушки, таская ее туда и сюда и показывая всё сделанное ими новое. Она участвовала в их счастье, строила им рожицы, размахивала руками, вместе с ними смеялась.
Эльза приготовила ей чаю, мы немного поболтали и потом показали приготовленную для нее комнату. Моей матери было нужно немного: кровать, лампа для чтения, пепельница, стул и стол для ее лэптопа. У нас ей было хорошо. В тот день она сказала, что приезд к нам – это и немного отдыха.
В те дни она показалась нам с Эльзой усталой. Она много работала над переводами, летала в Польшу, в Москву и в другие места, много времени проводила в Интернете, писала в своем ЖЖ, беседовала с друзьями по «Фейсбуку» или по мейлам. Всё это отнимало у нее много энергии. Но она была счастлива. Счастлива отдавать свое время другим, а у нас – побыть на время с семьею.
В последние годы из-за этой усталости она забывалась сном днем, и это происходило всё чаще и чаще. Поспав, она садилась в нашем садике, когда бывало солнечно, – в тени и читала час или два. Она держала свою электронную книжку левой рукой, а правой рукой подносила ко рту сигарету, которую курила маленькими резкими затяжками.
Мы все вместе сходили на показ моего фильма. Зал был полон – около сотни зрителей. Мне кажется, что под конец показа я заметил у мамы некоторую гордость. Это была такая внутренняя гордость, которую мог увидеть только я, близко ее знавший. Когда я задумываюсь над этим теперь, я думаю, что она была счастлива и горда «успехом» своих детей. Счастлива тому, что произвела на свет семью, за которую не стыдно. Только подумайте: старший сын – талантливый художник, владеющий разными приемами живописной техники, наследник традиции великих фигуративных художников. Младший (я сам) – вечно за компьютером, создающий образы с помощью многочисленных программ. Внуки: Пьер, родившийся у Ярослава и Мари-Анж, красивый парень-подросток, он был с ней особенно близок. Милена и Ливия, наши с Эльзой две дочери, их веселые души наполняли ее радостью. Артур, старший сын Ярослава, он работает на производстве музыкальных дорожек для видеоигр в Польше. Моя старшая дочь Аня, живущая в Москве, как и ее бабушка, с детства проглатывала книги и успешно выучилась на театрального и кинокостюмера.
Да, моя мать гордилась, она была счастлива и прежде всего рада тому, что произвела такое потомство, живое наследство – восприимчивое и умное – в Польше, России, Франции.
Ее «политическое наследие», несомненно, наложило печать на людей, любящих свободу. Демонстрация на Красной площади в 1968 году против оккупации Чехословакии Советской армией, в которой она приняла участие, и сегодня остается символом и примером того, что, даже когда их немного, люди могут восстать против несправедливости. Ее поддержка движения «Солидарность» в Польше в восьмидесятые годы сделала ее позднее польской гражданкой.
И тем не менее, моя мать оставалась скромным и бескорыстным человеком. Хотя и была рада признанию, когда ей вручали разнообразные медали и дипломы. О том, что она сделала, она всегда говорила: «Это нормально». Но и сегодня она и другие демонстранты с Красной площади 1968 года остаются примером для старых и новых поколений. На одной из демонстраций протеста против аннексии Крыма Россией в Москве на эстраде, с которой читались речи, на фоне российского и украинского флагов была надпись – та же самая, которую моя мать написала своими руками на случайной тряпке-плакате, который был развернут на Красной площади в то знаменитое 25 августа. Мне тогда было три месяца, и я (как мне кажется) спал в коляске в двух шагах от матери и ее друзей-демонстрантов, отважно вышедших против советского тоталитарного строя. Этот момент изменил мою жизнь, жизнь моей семьи, моей матери и тех отважных людей, которые решили выйти в тот день на площадь «за вашу и нашу свободу!». Мне часто рассказывают эту историю про «младшего участника демонстрации на Красной площади». Только теперь я начинаю по-настоящему осмыслять это наследие. Да, мы гордимся нашей мамой, гордимся ее поступком.
В тот июньский месяц 2013 года она оставалась у нас недолго. Как обычно, на несколько дней, не больше. Но успела повидать и родителей Эльзы, которых она очень любила. Азю и Жан-Пьер тепло принимали эту «маленькую бабульку», которая всегда встречала их широкой улыбкой. Им бывало непросто вести долгие беседы, моя мать была глуховатой и не всегда хорошо понимала по-французски. Но они просто любили побыть вместе и выпить чашку чая. Жизни их были совершенно разными, политические взгляды – противоположными, но они любили и глубоко уважали друг друга. Может быть, то, что все они пережили войну, сближало их. Моя мать – Вторую мировую войну ребенком в Москве, Жан-Пьера молодым призвали на алжирскую войну, а Азю, дочь испанских республиканцев, бежала со своей семьей из франкистской Испании и эмигрировала во Францию. У эмигрантов бывает такое, что они чувствуют себя близкими, как бы одной семьей, откуда бы они ни были.
Я расстался с матерью на платформе вокзала в Брив. Отвез ее по большой дороге, чтобы точно не опоздать на поезд. Она всегда предпочитала выехать пораньше, не любила опаздывать на поезд. Заодно оставалось время выпить по чашке кофе в вокзальном кафе. К сожалению, как практически везде, флипперы моего детства исчезли, а как весело мы проводили время когда-то, играя вместе во флиппер. После того как она выпила свой крепкий кофе, я проводил ее на платформу, донес чемодан, уже пустой, без подарков. Мы рассмотрели ее билет, номер вагона и пошли к отметке на платформе. До поезда оставалась добрая четверть часа. Как раз время для ритуальной сигареты. Мы закурили и так вдвоем постояли.
Не помню почему, в тот день я не мог оставаться дольше и решил уехать до прихода поезда. Мы поцеловались, и я оставил ее на платформе. Последний взгляд, прежде чем нырнуть в подземный переход под путями: моя маленькая мама на пустынной платформе ждала поезда, и я не знал, что она поцеловала меня в последний раз.
Я всегда буду помнить, как в возрасте десяти или одиннадцати лет я вместе с ней открывал для себя маленькие парижские улочки. Китайские или греческие ресторанчики, которые она любила. Залы повторного фильма, куда любила ходить – особенно для того, чтобы в очередной раз смотреть свой любимый фильм, «Третьего человека» Кэрола Рида с Орсоном Уэлсом. Когда сегодня я слышу главную мелодию фильма, которую играет Антон Караш, она совершенно особо звучит для меня, напоминает мне ее, возвращает во времена, когда я был беззаботным ребенком и гулял с мамой в приятной летней атмосфере уже не существующего Парижа.
Последний раз я увидел маму, как всегда, лежащей свернувшись в ее кроватке. Во сне она подложила ручку под голову, как ребенок, сжав кулачок, и заснула навсегда[17].
«Мне хочется в любви объясниться стихами…»
- Но нет меня в твоем условном мире,
- и тень моя ушла за мной вослед,
- и падает прямой горячий свет
- на мой коряворукий силуэт…
- Если страсть – это пасть и припасть,
- то любовь – это боль, и любой,
- кто не жил ни вслепую, ни всласть,
- подтвердит, что земная юдоль
- есть то место, какое болит,
- и, влачась вдоль нее, инвалид,
- прихватившись за сердце рукой,
- не рассчитывает на покой.
Где-то там, куда простых людей не допускают, а уж тем более живых, между двумя мифологическими фигурами, одаренными красотой, силой и мощным поэтическим даром, Цветаевой и Ахматовой, стоит полутораметровая девочка, косая, с пальчиками врастопырку, нелепая, уже из другого времени. Их наследница.
С Анной Андреевной Наташа дружила до самой ее смерти, боготворила. Марину Ивановну почти ненавидела, но с обеими находилась в глубоком духовном родстве. Возможно, что литературоведы уже написали первые диссертации, посвященные генетической связи, притяжениям и отталкиваниям, соединяющим эти три фигуры. Если нет, об этом, несомненно, напишут будущие исследователи. Любовь, со времен Сафо, – важнейшая тема женской поэзии. Загадочный, всегда в ореоле тайны, герой Ахматовой; брутальный, с привкусом преступления, воин и любовник Цветаевой; эфемерный, исчезающий чуть ли не в минуту появления, почти абстрактный юноша, возлюбленный Горбаневской… Да и нужен он скорее как повод для написания стихотворения…
- Любовь, любовь! Какая дичь,
- какая птичья болтовня.
- Когда уже не пощадить,
- не пожалеть меня,
- то промолчи. Да, промолчи,
- не обожги моей щеки
- той песенкой, что, заучив,
- чирикают щеглы.
- Той песенкой, где, вкось и вкривь
- перевирая весь мотив,
- поэт срывается на крик,
- потом на крики птиц,
- потом срывается на хрип,
- на шепот, на движенье губ,
- на темное наречье рыб
- и на подземный гул.
- Любовь из каждого угла,
- всего лишь пища для стихов,
- для глупой песенки щегла,
- для крика петухов.
- Так промолчи. И помолчи.
- Коснись рукой моей щеки.
- Как эти пальцы горячи.
- Как низки потолки.
Марина Ивановна, обращающая даже мимолетное увлечение в мировую трагедию, и каждое ее чувство укрупнено, преувеличено, доведено до космической катастрофы…
- – Любовь, это значит – связь.
- Всё врозь у нас: рты и жизни.
- (Просила ж тебя: не сглазь!
- В тот час, в сокровенный, ближний,
- Тот час на верху горы
- И страсти. Memento – паром:
- Любовь – это все дары
- В костер, – и всегда – задаром!)
Анна Андреевна, в юности светская, богемная, – перчатки, шали, женщина-завоевание, женщина-награда… в более поздние – монументальная и величественная, почти античная:
- А ты думал – я тоже такая,
- Что можно забыть меня,
- И что брошусь, моля и рыдая,
- Под копыта гнедого коня.
- Или стану просить у знахарок
- В наговорной воде корешок
- И пришлю тебе странный подарок —
- Мой заветный душистый платок.
- Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
- Окаянной души не коснусь,
- Но клянусь тебе ангельским садом,
- Чудотворной иконой клянусь,
- И ночей наших пламенным чадом —
- Я к тебе никогда не вернусь.
И бедный наш воробышек Наташка, с мимолетными влюбленностями, вспыхивающими и гаснущими между субботой и понедельником, но порой оборачивающимися в долгую и глубокую дружбу…
- Не потому что ты, не потому что я,
- а просто выгорала из-под ног земля.
- Не потому что я, не потому что ты,
- а просто лето, нас обняв обоих,
- поставило меня перед тобою
- так близко, что уже не отойти.
- Вчерашний жар с железных крыш спадал,
- и духота стихала перед утром,
- но, возносясь над сонным переулком,
- из трех окон не утихал пожар.
- И при разлуке слез не пролилось
- ни из одной глазницы обожженной,
- и до сих пор, как факел обнаженный,
- я вся смолой пропитана насквозь.
Наташа, наверное, сочла бы святотатством такое столкновение текстов. Но я не комментирую. Просто у каждого времени свой голос. Наташин – тихий, смиренный. И такой естественный…
Вот отрывки из двух Наташиных писем из Ленинграда в Москву, полученных мною весной 1963 года.
«У меня нет даже сил писать. Сначала, когда я получила твое письмо, я хотела отвечать на него нечто бравурное. Но было некогда. Надвигался мой день рождения, а с него всё опять переменилось.
Ну, – нет, хотела что-то тебе писать и объяснять, но, действительно, ничего не могу. Я в состоянии крайней выжженности и опустошенности, причем исключительно по собственной вине, только. Четвертый день казнюсь, благодаря отсутствию денег, пытаюсь уморить себя голодом. Но вчера попала в гости и слегка отъелась.
Люби своего итальянца, но чтоб и в голову не пришло замуж. У меня на дне рождения тоже был итальянец, но, кажется, липовый.
Когда приеду, я постараюсь что-нибудь тебе рассказать. Если не позабудется к тому времени. Опять Пушкин: Чего нам ждать? Тоска, тоска. И он же: Куда ж нам плыть?
…Хотела бы я никогда не писать стихов и вообще много не знать и не уметь. И всё то, что я тысячу раз предсказываю себе в стихах, – зачем я тысячу раз пытаюсь это обойти?..»
Письмо от 6/7 июня 1963 года
«Привет, милая! Мое письмо, невеселое и глупое, разошлось с твоим, но теперь я, как ты просишь, напишу хорошее. К моей любовной истории вернемся по приезде. Сейчас скажу тебе одно, она кончилась, я ее кончила, но вины моей нет (что поправка к предыдущему письму). Я, в общем-то, спокойна и даже легко застряла в городе еще. Тем более что приехал Непомнящий, а ты себе не представляешь, какое это удовольствие – мне принимать москвичей в Ленинграде. Вообще, это такой город, Люська, я так им счастлива, что всё перед этим меркнет. Я написала о нем еще стихи.
- Вот моя Александрова слобода – Ленинград,
- Вот опала моя на Москву,
- Вот свобода, награда моя из наград,
- Плесканье волны о скалу.
- Прокричи, моя радость, обо мне прокричи!
- Я твой мученик, царь и герой,
- На канале Круштейна кружатся грачи,
- Расставание не за горой.
- В который раз пред тобой обалдеть,
- Не связать прощальных речей,
- Пора мне княжить и володеть
- В проклятой столице своей.
Я не знаю, хороши ли эти стихи, но это тот случай, когда мне хочется в любви объясниться стихами. Хотя кто напишет о нем что-либо существенное после Мандельштама?
Люська, я уезжаю в Таллин числа 10–11-го. По крайней мере думаю, что уезжаю. Пиши мне, Таллин, Техника, 16, кв. 4. Бондарь Наташе (для меня)».
Такая особая музыка была заложена в Наташину судьбу – тема плоти и страсти, женской любви, у нее постоянно сопряжена с наказанием, точнее, с казнью. Мне кажется, здесь срабатывает христианское сознание, глубоко укорененная мысль, что телесная любовь грешна, наказуема, и мотив этот постоянно звучит в Наташиных стихах. Она как будто изначально не давала себе права любить и быть любимой. Счастье ее почти без остатка умещалось в ее стихах.
Л. У.
- Мой ненаписанный дневник
- похож бы был на кучу книг,
- на кучу не моих историй,
- немых любовных траекторий,
- на выцветающий петит
- давно умолкших разговоров,
- где горничная кипятит
- холодный чай для жарких споров,
- где сам герой похож на тень
- холодную в горячий день,
- а героиня либо в спячке,
- либо в классической горячке,
- и это я была бы ею,
- теряла бы в кустах камею,
- роняла письма и платки…
- Но век не тот, и время сжалось,
- бумага чистая слежалась,
- по ней летящая строка
- не прочертила завитка,
- и, пролистав бумаги десть,
- вы не найдете, что прочесть, —
- бело и пусто. Но оно
- и к лучшему…
- Мой ненаписанный дневник
- убережет мои обманы,
- чтоб любопытный не проник
- в мои небывшие романы.
А я откуда?
О родословной Наташи уже было сказано. Но вопрос происхождения имеет еще одно измерение, нематериальное. Здесь рассматривается уже не кровное родство, а иного рода генетика: вера, идеалы, духовные корни. Словом, материи высокие. И высокие ноты просто сами собой напрашиваются. Но пафос снимает сама Наташа. В 1959 году, еще в самом начале стихотворчества, она пишет еще довольно робкое стихотворение… Но уже пророческое:
- Когда смолкают короли,
- пред занавес выходит шут,
- он вертит пестрой головой,
- и он умнее всех.
- Когда смолкают короли,
- суфлер тетрадку закрывает,
- где их священный бред
- дословно занесен заранее.
- Пред занавес выходит шут,
- и он умнее всех,
- и вы хохочете ужасно,
- чтоб заглушить его.
- Давно умолкли короли,
- и за кулисами короны картонные
- на полочках лежат,
- и шут пошел к себе домой,
- он вертит пестрой головой,
- и он умнее всех.
А в 1965-м Наташа пишет стихотворение, которое можно назвать программным. Почти случайный шут занимает свое важное место, и шутовство автора – не кривлянье и не подделка, не желание рассмешить честную компанию, – а высокое предназначение, собственное видение добра и зла, входящее в конфликт с мировоззрением большинства. Шут всегда переворачивает привычную иерархию, вызывает резкую реакцию – шок, смех.
- А я откуда? Из анекдота,
- из водевиля, из мелодрамы,
- и я не некто, и я не кто-то,
- не из машины, не из программы,
- не из модели. Я из трамвая,
- из подворотни, из-под забора,
- и порастите вы все травою,
- весь этот мир – не моя забота.
- А я откуда? Из анекдота.
- А ты откуда? Из анекдота.
- А все откуда? А всё оттуда,
- из анекдота, из анекдота.
Таким образом, все оказалось расставленным по своим местам: небожители занимают положенный им Олимп, увертливые совписы заседают на Поварской, в Союзе советских писателей, а Наташа занимает вольное, самою ею выбранное пространство анекдота, почти фольклора, принимает роль шута-скомороха:
- …Ты, Боже, Сыне Человечий,
- коли решил на эти плечи
- ярмо с бубенчиком надеть,
- не отпусти меня свободной,
- не попусти в ночи холодной
- душе моей заледенеть.
И логика здесь безупречна – скоморох попадает в конце концов на площадь. Все поэтико-исторические видения поэта Натальи Горбаневской сбываются, хотя и в усеченном, причесанном под XX век виде: сбывается Красная площадь, казнь, суд, сбывается тюрьма, сума, изгнание… И надо всем этим витает тень юродства, особой, странной разновидности святости. Все приметы совпали, картина проясняется: кристаллическая честность, принятие на себя чужой вины, святая бедность в сочетании с абсолютной щедростью, совершенное нестяжательство – никакого, никакого имущества, если не считать книг и словарей, у нее не было. И последнее, удивительное, посмертное уже обстоятельство – даже могила, в которую она легла, была ей подарена. Наташка бы долго смеялась, если бы я произнесла вслух то слово, которое приходит в голову. Я и не произнесу. Да и кто доподлинно знает, как выглядят праведники двадцатого века?
Л. У.
Друзья
Как составлять список друзей Наташи? Хронологически? По степени близости? По длительности дружбы? По алфавиту? По росту? По социальной значимости? Если по хронологии и по длительности – самой первой подругой, наверное, была Нина Багровникова, с третьего класса. По близости – мне кажется, Ира Максимова. С первого курса университета. Иры уже нет… Но нашлась ее маленькая статья о Наташе. По праву ее имя должно было бы стоять первым в перечислении ее друзей.
Хотя все эти измерения близости и давности имеют право на существование, они не определяют главного качества Наташиной дружбы: у нее было редчайшее свойство – способность пребывать в дружбе полностью, стопроцентно. И по этой причине каждый, кто с ней дружил, испытывал минуты предельной человеческой близости. Так проявлялась ее бесконечная искренность и сострадание. Но она умела ссориться, конфликтовать, возмущаться, бывать вздорной и предвзятой. С годами характер ее смягчался, она уже не была столь категорична и даже как будто слегка двоился ее цельный характер: появилась некоторая гибкость… Наташа писала: «Никогда не одна, я всегда среди друзей. Мне эта потребность кажется естественной. Кстати, ни Бродский, ни Ахматова не были мизантропами, и у обоих было множество друзей, которых они любили и ценили. Уединение же, которое отнюдь не признак мизантропии, тоже необходимо. Дружбу оно не прекращает, но позволяет пережить и обдумать то, что не поддается переживанию и обдумыванию на людях».
Этот раздел оказался очень трудным и очень для меня интересным. Писем собралось очень много, часто они до некоторой степени дублируют друг друга. Некоторых близких Наташе людей уже нет в живых, другие по разным причинам не смогли написать. Некоторые – не хотели. Кто-то боялся бросить на Наташу тень, не желая ворошить прошлое. Римская поговорка жива до сих пор – о мертвых ничего, кроме хорошего. Все мы редактируем свои воспоминания, но никто не может отредактировать свою личность. И лицо пишущего очерчивается в этих воспоминаниях не менее, чем облик самой Наташи. У каждого человека есть окружение, у одного маленькое, локальное, у другого огромное. То же можно сказать и о влиянии. Естественно, что Наташина профессия создавала еще огромный круг ее читателей. Но и круг ее друзей был невероятно большим: среди них люди известные, малоизвестные и вовсе скромные. Наташа, особо почитавшая Ахматову, Лотмана, Бродского, Иловайскую-Альберти, очень дорожила всеми своими друзьями, никогда не выстраивала их по ранжиру. И это было замечательное качество. По этой причине я и решила не писать рядом с именем автора воспоминаний о Наташе его титула, ученой степени, профессии. Здесь, в этом разделе, мы все представлены только как Наташины друзья.
Л. У.
Ира Максимова
Она всегда делала что хотела
Моя подруга Наталья – грандиозная личность, людей такого масштаба я больше не встречала. Она совершенно несгибаема и притом капризна, порывиста и очень добра. Умеет дружить, ничего не пожалеет для близкого человека. То, что она большой поэт, я тогда еще не понимала…
Мы подружились сразу и навсегда, и ничто не помешало этому – ни тюрьма, ни психушка, ни эмиграция. Да, сейчас мы живем в разных уголках мира, редко видимся, общаемся в основном по электронной почте – но, право же, это совершенно не важно, когда люди по-настоящему близки. Она сама меня выбрала – подошла первая в садике перед нашим филфаком, где мы сдавали приемные экзамены. Наталья – коренная москвичка, я приехала из маленького города Плавска. У меня, в общем-то, была медаль, но ее долго не давали, потому что в выпускном сочинении по роману «Война и мир» я ляпнула что-то о «бородинской победе французов» – не сама придумала, процитировала Толстого, но разразился громкий скандал, мне вообще не хотели давать медаль, потом вместо золотой дали серебряную – в результате я опоздала на собеседование и сдавала экзамены вместе со всеми. Наталье очень понравилась история про Бородино, она потом часто ее вспоминала, рассказывала друзьям, но мне, как вы понимаете, было не до смеха. Экзамены в университет мы обе сдали на пятерки, и нас приняли.
Наташа жила в центре города, в районе Собачьей площадки, с мамой, братом и бабушкой – отец погиб на фронте. Мама, Евгения Семеновна, была совершенно замечательная женщина. Красивая, остроумная, прекрасно образованная… Дом был небогатый, совсем не богемный, даже несколько церемонный, но не было в нем основательности, стабильности, что ли. Все чувствовали себя совершенно свободными от домашних и семейных обязательств. Делали что хотели. В доме всегда было много книг, но очень мало еды. И они все, даже бабушка, не любили сидеть дома, все время ходили по гостям – с детьми малыми, потом с внуками. Вечер дома считался потерянным вечером. Наташка, верная семейной традиции, постоянно убегала из дома, дневала и ночевала у меня в общежитии на Стромынке. Очень быстро, гораздо быстрее, чем я, она со всеми перезнакомилась, обросла кругом друзей. Как-то так получалось, что среди ее друзей были самые яркие, заметные наши ребята (она дружила преимущественно с мальчиками) – Игорь Мельчук, Саша Байгушев, Валя Непомнящий, Лева Аннинский. И те, кто учился с нами на одном курсе, и другие – это значения не имело. Она выбирала людей, приводила их – и они оставались в нашем «ближнем круге» надолго, часто навсегда. Наталья уже в те годы серьезно занималась поэзией. Охотно читала свои стихи, печатала в курсовой и факультетской «Комсомолиях». Стихи ругали, хвалили, переписывали, заучивали наизусть – скоро Наташка стала весьма популярной персоной на факультете. Училась она прекрасно, как бы играючи, но возникла неожиданная проблема: зачет по физкультуре. Не могла она его сдать, хоть тресни. Даже пойти поговорить с преподавателем – попросить заменить, скажем, бег на что-нибудь полегче – не могла. Она всегда делала только то, что хотела. Это был – и остался поныне – ее главный жизненный принцип. Кончилось тем, что она подала заявление об уходе, а через несколько месяцев снова поступила на филфак, как обычно сдав все экзамены на пятерки и набрав 25 очков. Эти годы – третий, четвертый курс – слились в моей памяти в одну пеструю череду дружеских компаний, застолий, разговоров о самом главном. Мы все учились самостоятельно думать, много читали, обменивались редкими книгами, упивались своими и чужими стихами, по несколько раз в неделю бегали в Консерваторию. И, конечно, делали глупости, много глупостей. Чего стоит хотя бы история моего замужества…
Наталья развивалась быстрее, чем многие из нас, и уже тогда достаточно ясно представляла, в какой стране мы живем и на чьей она стороне. Она поехала в Ленинград, снова, уже в третий раз, на одни пятерки сдала вступительные экзамены и поступила на заочное отделение филфака Ленинградского университета, который закончила в 1964 году. В Ленинграде бывала редко, наездами, но быстро подружилась, как обычно, с самыми яркими поэтами – Найманом, Бобышевым, Рейном. И, конечно, с совсем молодым еще Бродским. Когда после университета, в 1961 году, я собралась первый свой отпуск провести в Ленинграде, она в свойственной ей манере прямо-таки приказала мне встретиться с Бродским. Он тогда только начинал, всё было у него впереди – и ссылка, и слава, а Наталья уже разглядела. И вынесла свой вердикт: он самый сильный из нас, он будет большим поэтом. Мне, кстати, юный Бродский совсем не понравился – показался нелепым, высокомерным и вообще неприятным. И, как всегда, был погружен в очередную несчастную любовь. Когда через много лет я встретилась с ним, уже нобелевским лауреатом, в Париже, в доме Натальи, он не стал симпатичнее, но, как я сейчас понимаю, это ему не очень-то было нужно. А с Наташкой они дружили до самой его смерти…
Надо сказать, что годы перед ее отъездом были не худшими в жизни Натальи. Конечно, как всегда, не хватало денег, на работу ее не брали. Органы не оставляли своим вниманием – постоянная слежка, угрозы, наглое выпихивание из страны. Но у нее было имя, была репутация, ее стихи стали известны многим. Уже тогда за границей появились ее книги «Побережье» и «Три тетради стихотворений». Она много занималась переводами, под чужими именами, разумеется. Как-то предложили перевести с польского объемный многотомный роман; она очень быстро выучила польский язык и, как всегда, блестяще справилась с работой. Заплатили неожиданно много денег, да еще не в рублях, а в сертификатах… Вот тут-то на нас обрушилась лавина подарков. Конечно, была куплена (со значением) самая лучшая пишущая машинка, она мне купила всякие модные вещички, в том числе замечательные, лучшие в моей жизни английские туфли, которые я носила много лет. Ну, и множество всяких мелочей… для друзей, их детей, родственников и так далее. Наталья никогда не умела беречь деньги. Когда она уезжала, она приказала мне перебраться со своей семьей в ее большую квартиру, а маме отдать нашу, маленькую. Так мы и сделали.
Нина Багровникова
С третьего класса
С Наташей мы познакомились в сентябре 1945 года, в третьем классе. Поначалу она мне очень не понравилась, как и большинству наших одноклассниц. К ней относились с некоторой насмешкой из-за ее косоглазия и дефекта дикции. Позже многие ей просто завидовали, так как учеба давалась ей очень легко и она всегда знала больше всех. Наташа же никогда никому не завидовала, всегда была со всеми приветлива. Даже в подростковом периоде она не особо обращала внимание на свою внешность; ей было всегда всё равно, во что она одета, что поела, это же сохранилось у нее на всю жизнь. Мы с ней быстро подружились из-за общей страсти к чтению. Вместе ходили в библиотеки, там и делали уроки. Чтение не оставляли даже на уроках, часто читали вдвоем одну книжку под партой, из-за чего нас постоянно рассаживали, но через какое-то время мы снова садились вместе. В то послевоенное время почти всем жилось очень трудно. Наташина семья (мама, бабушка и старший брат) жила в глубоком, сыром подвале. Поэтому даже строгая Наташина бабушка не возражала, что она почти не бывает дома. Мамы же наши познакомились на родительских собраниях и стали приятельницами. Они делились всеми своими заботами, а Наташка стала совсем своей в нашей семье, много занималась с моими младшими сестрами; вообще она очень любила общаться с малышней.
Кроме чтения, мы любили гулять по городу. Годам к двенадцати Наташе были знакомы все переулки и улочки в пределах Садового кольца, а позже и остальная Москва. Гуляя, мы много болтали, в основном о книгах и просмотренных фильмах; при этом о своих личных переживаниях Наташа говорила очень редко. Даже о смерти ее любимой бабушки мы узнали только от Евгении Семеновны.
В 1947-м, в 5-м классе у нас появилась новая учительница русского языка и литературы – Галина Семеновна Фундылер. На ее уроках никогда не было скучно. Она учила нас всех правильной русской речи; уже в 5-м классе учила писать сочинения, вначале – совсем коротенькие, потом – посерьезней в соответствии с программой. Наташины сочинения она всегда отмечала как самые лучшие. В это же время Наташа всерьез увлеклась поэзией и сама начала писать стихи. К сожалению, ничего из этих ранних опытов не сохранилось, хотя, по-моему, уже в пятнадцать-шестнадцать лет стихи были очень неплохие.
Никакой «общественной работой» в школе она не занималась, хотя и была, как все, пионеркой и комсомолкой. В старших классах мы уже стали понимать разницу между действительной жизнью и тем, о чем нам постоянно твердили в газетах и по радио. На этой почве случались и конфликты с учителями, особенно с историчкой и преподавателем биологии. Не только Наташе, но и другим девчонкам казалась странной теория Лысенко, многие были не согласны порицать «вейсманистов-морганистов». Из-за чего у многих были тройки.
Дмитрий Бобышев
Филомела (продолжение)
Говорят, она умерла во сне, подперев кулачком щеку. Поэтесса, правозащитница, подпольщица, мученица. Друг по жизни и сестра по поэзии, героическая женщина, великая гражданка своей родной страны, и еще – Франции, и еще – любимой ею Польши, и еще города Праги, свободу которого она вышла защитить 25 августа 1968 года на Красную площадь.
Нас познакомил Бродский, с которым мы тогда хорошо дружили. Находясь в Москве, [Бродский] сделал подарок: прислал с дневным поездом девушку. Небольшого росточка, русо-рыжеватую, как он, но кудрявую и с еще более крутой картавинкой, чем у него… Она явилась на ночь глядя, девать ее было некуда. Я предоставил ей мою раскладушку, а себе постелил в комнате брата, потревожив няньку, у которой была там выгородка.
Федосья даже не предложила нам завтрак, я увел девицу от недовольных домочадцев в пирожковую, мы с ней наконец разговорились и стали друзьями, крепко и хорошо, на всю жизнь. То была Наталья Горбаневская…
…Ее освободили в феврале 1972 года. Вместо тюрьмы ее подвергали насильственной психиатрии. Казанская спецбольница считалась особенно мрачным местом.
Наталья стала наезжать в Питер, а после того как у меня образовалось свое жилье, останавливалась у меня. Ночевала в «гостевом» углу, на завтрак я либо варил овсянку, либо жарил яичницу, в обед наше меню тоже не разнообразил. Было у меня лишь два дежурных блюда под условными названиями «варево» и «похлебка». Их рецептов я не разглашаю, ибо тех ингредиентов уже не достать, прошу лишь поверить, что было вкусно и питательно. Запомнился один момент, когда вдруг – чуть не до слез – защемило сердце жалостью. Я подносил тарелку, чтобы поставить перед ней, а она неожиданно цепко ухватилась за ее края еще в воздухе, как, вероятно, хваталась «там» за миску при раздаче. Об этих материях она рассказывала мало, больше говорили такие вот невольные жесты. Всё же я расспросил, почему она оказалась в психушке, в то время как остальные участники протеста – в лагере:
– Из-за того, что кормящая мать? Или – потому что мать двоих детей?
– Нет, из-за этого меня сразу тогда отпустили, но в конце шестьдесят девятого всё-таки арестовали… И академик Снежневский (вот кто точно будет гореть в аду!) поставил мне диагноз «вялотекущая шизофрения».
– А что это такое?
– Это советский вклад в мировую психиатрию, Димочка. Симптомы могут быть любыми. Я, например, не заботилась о состоянии детей, хотя заботилась о состоянии страны, в которой моим детям предстоит расти. А это квалифицируется как «бред правдоискательства».
– Кошмар!
– Да, кошмар. По сравнению с психушкой лагерь – это мечта.
– Почему?
– По двум причинам. В психушке, во-первых, – одуряющие медикаменты, от которых не увильнуть, потому что иначе – карцер или даже хуже. Во-вторых – отсутствие срока. Могут хоть всю жизнь продержать.
В Ленинград Наталья приехала автостопом. Еще ранее мне рассказывал Найман с веселым недоумением:
– Наша Наталья теперь чемпион страны по этому виду спорта!
Такую витальность я объяснял энергией душевного заряда, который вдруг вырвался из зарешеченной принудиловки. Это чувствовалось даже по ее стихам, но угадывалось и другое. За ней, конечно, продолжалась слежка, и автостопы были удобным способом уходить от наблюдения.
К счастью, правозащитник в ней не победил поэта, как я того опасался, – стихи ее, по-прежнему краткие, наполнились трагической сдержанностью. Они внутренне расширились, в них открылись пространство и глубина. Я услышал медитативный диалог с неотмирным и живым собеседником, сходный с тем, что созревал во мне. А мера человеческого доверия к ней была у меня такова, что я решился рассказать о собственных сокровенных думах.
– Вот и прекрасно! Тебя надо крестить, – обрадовалась она. – А я буду твоей крестной матерью.
– Но мы же сверстники…
– Это ничего. Это вполне допускается. Я же крестилась раньше, значит, я старше.
И она изложила план. Сначала мы едем в Псков (разумеется, автостопом) к одному замечательному батюшке, и он подготовит меня к крещению. Затем махнем в Ригу и на взморье в Апшуциемс, где проводит дачные сезоны Толя Найман с семьей, а оттуда – в Москву, и там я приму крещение у еще одного, не менее замечательного, батюшки. План меня устраивал во всех отношениях, я взял отпуск, и мы «ударили дорогу», как неуклюже я бы выразился теперь по-американски.
Сама поездка на попутках оказалась не столь яркой, как я ожидал, из-за суровых правил, которые мне в последнюю минуту изложила Наталья: с водителями зря не болтать, лишь коротко отвечать на вопросы, а расплачиваться – если только сам попросит. А так – «спасибо, счастливого пути» и – из кабины…
Но в Пскове ожидал сюрприз. Батюшка действительно оказался светлый. Это был отец Сергий Желудков, заштатный священник, живущий в домике у своей бывшей прихожанки, богобоязненной, но и бесстрашной женщины, которая приютила человека, одержимого, как и наша Наталья, «бредом правдоискательства».
А сюрприз состоял в том, что у них гостила Надежда Яковлевна Мандельштам, приехавшая из Москвы. Не знаю, чему я так удивился: она ведь раньше жила в Пскове, где, кстати, я с ней и познакомился прежде. Наверное, поразил меня контраст между этой резкой, острой на язык женщиной, сидящей в красном углу комнаты, и тихими намоленными образами, на фоне которых она дымила беломориной. Это уж отец Сергий выказал ей высшую степень почтения, позволив курить перед божницей. С ней мы, понятное дело, заговорили о литературе.
Отец Сергий (Наталья его называла попросту Сергей Алексеевич) располагал к себе моментально: простой, действительно чистый, веселый, открытый – никакой жреческой важности или таинственности… Вот он наставляет меня, неофита, какие молитвы нужно учить для начала. А в то же время и церковные обычаи покритикует беззлобно и по делу – например, утомительное многочасовое стояние в храме. Иностранцы, мол, нас упрекают: «Русские ногами молятся». Высказывает даже совсем спорные мысли: о поэзии, например. Пушкину, мол, и не нужно быть святым или даже благочестивым. Если для вдохновения необходимы ему увлеченья, азарт игры, то пусть увлекается. А мы, священники, уж за него помолимся…
Пошутил, рассказал даже анекдот про святого Петра. Вот этого-то евангельского персонажа он больше всего и напоминал мне – того, кто первым сказал:
– Ты есть Христос, Сын Бога живаго.
И – обликом. И – порывистостью темперамента. Конечно, он был реформатор, ратовал за литургическое творчество, уверял, что теперешний богослужебный канон был вовсе не всегда и существует в таком застывшем виде лишь по инерции, хотел бы позволить в церкви музыку, а не только хоровое пение. Даже сыграл на старенькой фисгармонии, показал, как бы это звучало. Звучало бы здорово.
Какому начальству это могло понравиться? Да и не только начальству. Позднее я наслушался о нем всякого – главным образом от лютых консерваторов.
Но самой необычной идеей о. Сергия была «Церковь людей доброй воли», к которой, по его мнению, принадлежали те, кто даже и не подозревал, что они христиане, творя добро и следуя справедливости. К таким он относил в первую очередь академика Сахарова, почитая его как, быть может, святого и мученика.
Горбаневской он говорил прямо (имея в виду и других участников протеста на Красной площади):
– Вы и сами, возможно, не догадываетесь, какого масштаба поступок вы совершили. Ведь помимо всех очевидных значений, ради которых вы так смело выступили, вы еще сделали необязательными другие, новые жертвы. Выйди еще с вами сто, двести человек, они бы только прибавили себе страданий. А так – протест всё равно выражен, слово сказано!
Однажды на Петроградской стороне в погожий майский день встретились два поэта. Один из них вспомнил, что в этот день родилась их московская сверстница и поэтесса. Другой привел подходящие для нее строчки из Жуковского: «По-еллински филомела, а по-русски соловей». Они чокнулись за ее здоровье, пошли на почту и отправили телеграмму: «ПОЙ ФИЛОМЕЛА ПЕВЧЕЕ ДЕЛО НЕ ПРОМЕНЯЕМ ПЬЕМ ВСПОМИНАЕМ БОБЫШЕВ НАЙМАН».
Тогда она была еще жива. А теперь уже не споет нам филомела.
- Послушай, Барток, что ты сочинил?
- Как будто ржавую кастрюлю починил,
- как будто выстукал на ней: тирим-тарам,
- как будто горы заходили по горам,
- как будто реки закрутились колесом,
- как будто руки удлинились камышом,
- и камышиночка: тири-тири-ли-ли,
- и острыми носами корабли
- царапают по белым пристаням,
- царапают: царап-царам-тарам…
- И позапрошлогодний музыкант,
- тарифной сеткой уважаемый талант,
- сидит и морщится: Тири-тири-терпи,
- но сколько ржавую кастрюлю ни скреби,
- получится одно: тара-тара,
- одна мура, не настоящая игра.
- Послушай, Барток, что ж ты сочинил!
- Как будто вылил им за шиворот чернил,
- как будто будто рам-барам-бамбам
- их ржавою кастрюлей по зубам.
- Еще играет приневоленный оркестр,
- а публика повскакивала с мест
- и в раздевалку, в раздевалку, в раздевал,
- и на ходу она шипит: Каков нахал!
- А ты им вслед поешь: Тири-ли-ли,
- Господь вам просветленье ниспошли.
Концерт для оркестра
Вера Лашкова
Последний привет
Последний привет от Наташи я получила уже после ее кончины. Мне передали конверт, на котором Наташиной рукой было написано: «Вере». В конверте была псковская газета, посвященная трагической гибели отца Павла Адельгейма – его убили 5 августа прошлого года, и Наташа оказалась во Пскове в дни поминовения о. Павла.
Такой знакомый Наташин почерк, я его помню и узнала бы из многих-многих. Помню с той весны 1968 года, когда получила из Наташиных рук школьную тетрадь, в которой был текст 2-го номера «Хроники текущих событий», написанный ее рукой, и я перепечатала его на машинке; потом, кажется, был и третий рукописный, хотя могу и ошибиться. Наташа была постарше меня, но подружились мы сразу, с первой встречи, и я очень полюбила ее стихи. Они во мне так и жили, их не надо было заучивать, они сразу ложились в память.
Наташа жила с мамой и маленьким сыном Ясиком в коммунальной квартире на Новопечаной, я бывала у нее, и она приходила ко мне на «Кропоткинскую», тоже в коммунальную квартиру; помню, однажды она пришла такая радостная, потому что купила польскую пластинку – пели аранжированную классику, только не словами, а звуками «та-та-та» и быстрее. Наташе это очень нравилось, она ставила пластинку по несколько раз. Она тогда «болела» Польшей, уже знала язык, читала и переводила, очень любила польское кино.
Мы много гуляли по Москве, и Наташино умение ориентироваться в иногда совсем незнакомых местах меня поражало – у нее было точное знание, как надо пройти туда, куда было надо, и при этом она шла, казалось бы, наобум, но совершенно уверенно – и всегда выходила правильно.
Когда в мае 1968-го родился второй Наташин сын – Оська, она попросила меня стать его крестной. Тогда это было совсем не просто – окрестить ребенка в церкви, – потому что родителям надо было показывать свои паспорта, их записывали в какую-то особую книгу, а потом уже следовало ожидать неприятностей на работе. И я попросила отца Димитрия Дудко покрестить Осю. Он назначил приехать к нему – в домик недалеко от храма, где он служил: там жила его прихожанка и верная помощница. Ехали мы на такси, потому что путь был неблизкий – от Новопесчаной на Преображенку, и крошечный Оська спал у меня на руках, сладко посапывая. И во время самого крещения он вел себя кротко, но когда мы возвращались обратно, он (уже одетый в крестильную рубашечку и вновь запеленутый) вдруг заголосил так, что можно было оглохнуть. Бедный Оська – у него была причина так кричать: оказалось, что кто-то из нас, пеленая его, заколол пеленку булавкой, а она открылась и колола ему тельце.
В двадцатых числах августа 1968 года я уехала в археологическую экспедицию в Молдавию, и через несколько дней, рано утром, Илюша Габай пришел в нашу палатку и сказал: «Танки вошли в Чехословакию». Почти сразу мы вернулись в Москву, всех демонстрантов на Красной площади арестовали, но Наташу отпустили и оставили на свободе под поручительство матери.
Очень нелегкими были ее отношения с Евгенией Семеновной, хотя они любили друг друга, но молнии так и блистали… Они жили в одной комнате, росли два сына, Наташа была очень нежной и заботливой матерью.
А тучи над нею сгущались. Ее арестовали под Новый год и содержали под следствием в Бутырской тюрьме. Евгения Семеновна осталась одна с двумя малышами, и Наташины друзья старались, как могли, помогать ей в нелегком быту. Но власти предупредили, что лишат ее опекунства, если она не перестанет пускать нас к себе. И мы придумали. Шли в магазин, накупали всего необходимого и приносили к дверям квартиры; потом звонили в звонок и успевали быстро сбежать (молодые ведь были) по лестнице вниз и слышали, как открывалась дверь, и Евгения Семеновна, причитая и даже негодуя, уносила сумки. Конечно, она знала, кто их приносил, и вскоре смирилась с таким «партизанством».
Но надо было носить в тюрьму передачи, это позволяли делать один раз в месяц и всего пять килограммов строго перечисленных в списке продуктов. Это для Евгении Семеновны было уже трудно, и, по счастью, когда я принесла Наташе первую ее тюремную передачу (в Бутырки) и назвалась ее сестрой, тюремное начальство предпочло это «признать». И уже потом мне удавалось носить передачи, а в Наташином тюремном формуляре было записано, что я ее сестра. Я этим очень гордилась и даже надеялась, что когда-нибудь мне разрешат с ней свидание. Но вот этого уже власти «не позволили», на свидание после приговора приходила Евгения Семеновна, кажется, с обоими мальчиками, и в Казанскую психбольницу меня тоже не пустили, я только слышала Наташин голос из-за двери.
Наташин почерк.
Ее адвокатом была Софья Васильевна Каллистратова, добрая и мудрая, совершенно родной человек и к Наташе относилась как к дочери. Ее консультация была на Арбате, рядом с родильным домом им. Грауэрмана, и очень часто я к ней заходила – поговорить и что-то обсудить. Однажды она открыла папку, лежащую на столе, и я увидела написанные Наташиной рукой листочки. Это были стихи – три стихотворения, написанные в тюрьме, и там мое любимое, «Воспоминание о Пярвалке»:
- На черном блюдечке залива
- едва мерцает маячок…
Оно такое щемяще-трогательное и такое Наташино.
Ее осудили и приговорили к принудительному лечению в закрытой психиатрической больнице, при этом срок не назначался. Наташа оказалась в Казани и оттуда писала мне письма – как «сестре». Они бесценны, но их отобрали у меня на обыске, о чем я до сих пор горюю.
Наташу выпустили в 1972 году. Она была совершенно измучена и подавлена, несмотря на радость освобождения; давление и гнет на нее со стороны властей не прекращались, и ужас пребывания в психушке не оставлял Наташу. Я думаю, что невозможно представить себе того, чему она подвергалась в Казани, и, несомненно, это было пострашнее и тюремного, и лагерного заключения.
Наташа вынуждена была эмигрировать, чему власти – слава Богу – не препятствовали. Евгения Семеновна отказалась ехать, и Наташа с двумя сыновьями уехала. Помню прощальный вечер, уже в новой, отдельной квартире на «Войковской». Эти вечера были всегда шумными и хмельными – да и как иначе? Мы все знали, что прощаемся навсегда. Помню, что кто-то принес ящик сухого вина, красного грузинского; но когда стали открывать бутылку, оттуда залпом выстреливало что-то кислое-кислое, и так бутылка за бутылкой – весь ящик. Никто не смеялся, было очень горько.
Мне посчастливилось видеть Наташу в Париже, первый раз – в 88-м году, они жили тогда на улице Гей-Люссака, рядом с Люксембургским садом. У нее была работа в редакции «Русской мысли», она стала совершенной парижанкой – в смысле знания Парижа, и ходить-бродить и ездить с ней по городу было так здорово. Наташа никогда не ездила в метро, а только на автобусах, и особенно любила автобусы с задней площадкой, где можно было стоять и рассматривать всё вокруг; они ходили очень быстро и, кажется, даже по расписанию.
Мальчики выросли. Ясик стал художником, Оська, младший, учился, как он говорил, «на гениального режиссера», и Наташа была, по-моему, абсолютно счастлива. Это она умела – любить жизнь и принимать ее такой, какая она есть, а опыт страданий научил ее быть терпимой к людям: она действительно умела никого не осуждать – и это такая драгоценная и редчайшая добродетель.
В Париже Наташа прожила вторую половину жизни и очень любила этот город, называя его «городом П.». Она писала стихи, много переводила и часто ездила в свою любимую Польшу. Рано утром, проснувшись, она сразу шла в ближайшее кафе и выпивала там чашечку крепчайшего «двойного» кофе, обязательно с сигаретой – тогда в кафе можно было курить.
Еще у нее было любимое занятие – играть во флиппер. Эта игра напоминала наш настольный хоккей или футбол, где надо было двигать фигурки игроков на доске. Флипперы стояли почти в каждом кафе, и Наташа была таким азартным игроком, что я дивилась; она могла играть сколько угодно и сердилась, если я звала ее. Она говорила: «Отойди и не смотри мне под руку»…
Уходя в кафе, Наташа включала автоответчик на телефоне, и он исправно ее голосом сообщал всем звонившим: «Ушла в кафе, скоро буду». А вернувшись, забывала его отключить, и иногда он полдня без устали повторял одно и то же.
В Париже у Наташи никогда не было собственного дома, не было устоявшегося быта, но гостей Наташа очень любила угощать, вернее – кормить. Всегда в холодильнике стояла огромная кастрюля с грибным супом или щами и обязательно котелок с гречневой кашей, хотя гречку приходилось покупать в русских магазинах, что было совсем не дешево.
Однажды мы задумали насолить капусты, чтобы всегда можно было наварить щей. Я долго не могла найти «правильную» капусту, потому что в магазинах, да и на рынках продавали твердые, сухие и зеленые кочаны, которые совсем не давали сока. Наконец у одного араба я увидела два больших кочана хорошей капусты и купила их. Но как правильно солить капусту, я точно не знала, думала, что Наташа умеет; оказалось, что она никогда капусту не солила, но быстро нашла замечательную и подробнейшую инструкцию в Интернете, и капуста получилась на славу и потом пользовалась большим спросом.
Наташа легко перебиралась из одной квартиры в другую, легко обживалась на новом месте, привыкала к новому кафе, вот только флипперы из них постепенно исчезали, и приходилось уже довольно далеко ездить, чтобы поиграть на где-то еще уцелевшем.
Семья с годами увеличивалась: у старшего сына Ясика – два сына, у младшего Оськи – три дочери, и Наташа была замечательной бабушкой для своих внуков, нежно любила и заботилась о них и даже гордилась ими. Всем бы такую бабушку – скажу я. И ДРУГА.
- На черном блюдечке залива
- едва мерцает маячок,
- и сплю на берегу залива
- я, одинокий пешеход.
- Еще заря не озарила
- моих оледенелых щек,
- еще судьба не прозвонила…
- Ореховою шелухой
- еще похрустывает гравий,
- еще мне воля и покой
- прощальных маршей не сыграли,
- и волны сонно льнут к песку,
- как я щекою к рюкзаку
- на смутном берегу залива.
Воспоминание о Пярвалке
Наташа Доброхотова
«Созвала акула рыбок…»
Я и рассказывала уже, и писала, что чуть не всем обязана Наташе Горбаневской. И не я одна могу так сказать. Наташа неслась по жизни от одной сферы к другой, создавая вокруг себя турбуленции, соединяя людей, которые иначе просто не могли встретиться, причем «в режиме наибольшего благоприятствования» – потому что рядом с ней. Когда выяснилось, что Наташа бывает у Ахматовой, мы прямо обалдели: вот, свой человек, сидит запросто – и только что от Анны Андреевны. В то время, в 1962 году, вышла у нас великая индийская книга «Панчатантра», и я рисовала к ней картинки, ни на что не рассчитывая, конечно, но очень красивые (они все потом потерялись). Наташа взяла папку, сказала: «Анна Андреевна сейчас живет… (не помню в какой семье), а Ника Глен работает в восточной редакции “Художественной литературы”» – и унесла.
И произошло чудо. Так мне потом и сказали знакомые книжники: это чудо, такого не бывает, больше не рассчитывай. Издательство затеяло какой-то эксклюзивный проект, искало неизвестного художника, желательно непрофессионала – а тут вот она я. Задумали они книжечку малого формата, богато иллюстрированную, отлично изданную. Корейский автор XVI века Лим Чже, повесть «Мышь под судом», изящная социальная сатира. Может быть, они хотели серию, но это издание так и осталось единственным. Книжку я сделала, на радостях бросила свою химию – работу в НИИ, а дальше пустилась в рискованное свободное плавание. Наташа помогала мне найти работу, и не раз. Например, в энциклопедии для младшего возраста – «Малышовке» – познакомила через третьи руки с худредактором Светланой Мартемьяновой, потом они с Галей Корниловой впихнули меня в «Пионер», это уже была тихая пристань, надолго. Всего и не вспомнишь. И не помню, чтобы я ей когда-нибудь сделала что-то хорошее – вот разве паковаться помогла при переезде на новую квартиру, и в этой квартире пол вымыла, вместе с Верой Лашковой.
Это, может быть, и не надо? Вам не надо рассказывать, какая она была смешная и временами нелепая, и над ней смеялись – за глаза. Например, как она дала пощечину Евтушенке – подпрыгнула или просто на цыпочки встала? Особенно же из-за ее влюбчивости. Один эпизод, даже и не смешной, расскажу.
Это всё те же 1962–1963 годы. Вернулся Алик [Гинзбург], у него в Лаврушинском постоянно клубился народ, мы тоже как-то попали, всё было рядом, мы жили у «Библиотеки Ленина». И с Аликом у Наташи возник бурный стремительный роман. Заходим мы к Алику с кем-то, он просит «не говорить Горбаневской, что я в Москве». В тот же день я встречаюсь с Наташей на углу улицы Фрунзе, она, наверно, с работы, какое-то было дело у нас, – и идем к метро, и она рассказывает, как она счастлива, какая у них любовь – а я-то знаю, что Алик уже вкручивает – и вдруг: а, вон идет Юра Галансков – и машет ему, и бежит навстречу. А Галансков идет от Алика, и мне бы побежать быстрее, схватить его за руку, предупредить, но я стесняюсь, мы почти не знакомы. Ну и вот, позвонила она вечером совсем убитым голосом, что всё кончено…
Не знаю, они же, наверно, потом помирились? А тогда через пару дней Наташа послала в Лаврушинский двух ребят, совсем молодые были у нас приятели, назывались «ковбои» – требовать обратно свои стихи, подборку. Правда, очень переживала.
…Зимой 1969 года Галя Корнилова, лучшая Наташина подруга, и я по командировке журнала «Пионер» отправились в Вильнюс. Кажется, надвигался какой-то ленинский юбилей. Так журнал, измученный календарными датами, придумал поместить школьные сочинения из разных республик, и нам достался Вильнюс, потому что Гале туда нужно было по семейным делам Натальи Трауберг. Кажется, я с ней тогда не была знакома, а потом мы очень дружили. Заодно Горбаневская поручила нам передать конфиденциально письма ее конспиративным друзьям, они там где-то полулегально снимали комнату.
Здесь у меня какая-то путаница. Кажется, мы не сразу вселились в гостиницу, а заехали сначала к Вергилиюсу Чепайтису, мужу Трауберг, они тогда расставались, с этим и была связана Галина поездка, она с Вергилиюсом тоже дружила. А путаница, потому что я не помню, почему мы искали конспиративную квартиру с чемоданом. Адрес был на конверте, Чепайтис нам сказал, где эта улица, мы и решили, видимо, сначала покончить с поручением. Вильнюс – город маленький. Но старинный! Был уже вечер. Эту крошечную улицу мы прошли из конца в конец раз пять, встретили за это время человек шесть, не больше, и каждого спросили, где этот дом. Улица оказалась односторонняя, на каком-то обрыве, а дом нашелся во дворе, уже в полной темноте мы методом тыка обнаружили вход, похожий на дощатую пристройку, высчитали, какой этаж может быть примерно третьим, а номер на двери, к счастью, оказался выпуклым. Так что нам открыл немного испуганный молодой человек – он, наверно, давно прислушивался, кто там шепчется и топчется на лестнице – и спросил, не видел ли нас кто-нибудь на улице.
Дальше мы очень славно прожили несколько дней, ходили в гости, приглашали к себе местную литературную элиту. Да, один вопрос возник: у нас в это время был скандал с Солженицыным, и наши литераторы подписывали письмо. Галя спросила эту самую элиту. «Это ваши русские дела», – надменно ответили нам. Настроения, с которыми потом выставили «балтийскую цепь», вполне были сформированы.
По своим пионерским делам мы посетили школу одаренных детей, для которой педагоги летом ездили по деревням и поселкам, собирали ребят в классы балета, музыки, живописи. Нам страшно понравился директор школы. Он подарил нам по значку – большая редкость, только для особо почетных посетителей. Галя свой приколола к пальто, я – к жакету или кофте. На другой день я ушла в другой кофте. Мы прошлялись весь день, возвращаемся, Галя останавливается в дверях: «У нас был обыск». Я бы не заметила. Но значок с моей одежки пропал. Какой-то коллекционер поживился.
Обратно мы летели на самолете, с нами был Том, сын Трауберг. Сколько ему было? Семь-восемь? А я ужасно боялась летать. Мы приземлились, Галя сказала весело: видишь, и ни разу не упали!
В аэропорту нас встретила Трауберг и сказала, что Горбаневскую взяли…
…Стихи она читала постоянно, в самых разных местах, даже полуофициально. Кажется, в кафе «Молодежное», или еще была похожая площадка. Там она первый раз прочла «Как андерсовской армии солдат…». Кто-то спросил: о чем это? Она сказала: да вот, не печатают меня… Позже, когда она уже вернулась из психушки, до отъезда, мы сами ей устраивали чтения – у Люды Кузнецовой (в Булгаковском доме), у подруги-художницы Гали Лавровской в мастерской.
Много еще можно рассказать – о театрах, например: когда она находила жемчужное зерно, старалась со всеми поделиться. То студенческий театр с «Голым королем», то польский театр с постановкой средневековой мистерии. «Трехгрошовая опера», премьера, после которой толпа зрителей, расходясь, плясала и вдоль Тверской, и по бульвару. Или таскала меня в библиотеку Архитектурного, смотреть журналы про американский авангард. Про книги что и говорить – впрочем, не одна она вбрасывала что-нибудь в этот водоворот.
Печататься ей очень хотелось, пыталась проникнуть хоть в детские издательства. Стишки такие вы знаете? —
- Созвала акула рыбок,
- Червяков, медуз и губок.
- – Слух мой очень-очень гибок,
- Голос очень-очень гулок.
- Я сегодня буду петь,
- приходите посмотреть!
- Ну и что же? И пришли.
- Посмотрели и ушли.
- Посмотреть-то посмотрели,
- А послушать не смогли:
- Из большой акульей пасти
- Выплывали вместо песни
- Пузыри да пескари…
- Как андерсовской армии солдат,
- как андерсеновский солдатик,
- я не при деле. Я стихослагатель,
- печально не умеющий солгать.
- О, в битву я не ради орденов,
- не ординарцем и не командиром —
- разведчиком в болоте комарином,
- что на трясучей тропке одинок.
- О – рядовым! (Атака догорает.
- Раскинувши ладони по траве —
- а на щеке спокойный муравей
- последнюю кровинку догоняет.)
- Но преданы мы. Бой идет без нас.
- Погоны Андерса, как пряжки танцовщицы,
- как туфельки и прочие вещицы,
- и этим заменен боезапас.
- Песок пустыни пляшет на зубах,
- и плачет в типографии наборщик,
- и долго веселится барахольщик
- и белых смертных поставщик рубах.
- О родина!..
- Но вороны следят,
- чтоб мне не вырваться на поле боя,
- чтоб мне остаться травкой полевою
- под уходящими подошвами солдат.
Таня Чудотворцева
«Всех забрали, а я не успела!»
Про Наташку я впервые услышала в 1965 году. Дело было так. Я тогда – тоскующая, вполне бездомная девочка. Только-только школу закончила. Не очень понимала, как, куда и зачем надо тыркаться. Готовилась в художественный институт. И все время проводила у Юры Фрейдина, который мне в то время был чем-то вроде отца. Мне казалось, что он уже такой взрослый, солидный, опытный и очень заботливый. И вот я, как на работу, к нему и ходила. Каждый день! От него в студию или на курсы. Домой возвращалась только ночевать. Это всё – чтобы было понятно, в каком я была виде, когда Юра однажды мне торжественно сказал: Чуда, сейчас придет самая потрясающая женщина, которую я только знаю! Я удивилась и поинтересовалась, чем же она такая замечательная. Он сказал: во-первых, она меньше тебя ростом (потом посмотрел повнимательнее на меня и пробормотал: ну, может, такая же), во-вторых, она поэтесса! В-третьих – у нее есть сын, и зовут его Ярослав. Скажу честно: ни то, ни другое, ни третье меня не вдохновило и не восхитило. Наконец вошла женщина, в черном английском костюме (потом, когда я ей это рассказывала, она всегда почти кричала: Чуда, я никогда не носила такого! Но я прекрасно запомнила ее наряд, так как она напомнила нашу завучиху в школе).
Юра ей говорит: Наташа, это Чуда, моя юная подопечная. Она на меня так строго посмотрела. Я не сразу поняла, в какой глаз ей надо смотреть, чтобы разговаривать, была Наташка, как все помнят, косовата. Тогда я еще не понимала, что в этом ее фантастическое обаяние. Скорее, я ее испугалась. Она переспросила: Чуда? Это с чего бы? Тут Юрка ей всё объяснил про мою фамилию, что это моя кличка и пр. В общем, первое знакомство было невзрачным. Стихи меня не интересовали, я про нее ничего не слышала, а наличие сына Ярослава у достаточно уже взрослой тети меня никак не удивило. Через год я была уже женой Коли Котрелева и про Наташу Горбаневскую ничего не слышала, пока с удивлением не узнала, что эта женщина-герой (как ее назвал Юра Фрейдин), оказывается, довольно близкая подруга моего мужа. Мы несколько раз встречались, в гостях, еще где-то. Но никаких личных отношений у нас не завязывалось еще довольно долго. Правда, было время, когда она прибегала к нам почти каждый день, так как жила в доме с голубыми окнами напротив нашего дома на Сивцевом Вражке. К слову, у меня до сих пор цела моя студенческая акварель этого дома. Писала я ее прямо из окон своей комнаты. Наташа приходила, дарила Коле свои стихи в тоненьких, самодельных машинописных тетрадочках, подписывала их непонятным для меня тогдашней словом: медиевисту и другу. Я же гадала, кто это такой друг-медиевист, пока мой грамотный Коля мне не объяснил. Даже в 1968 году, когда родился второй сын Ося и я в связи с этим собирала для него Катькины шмотки, которые приходила забирать строгая Наташа Светлова к нам на Сивцев Вражек, – даже и тогда никакой особой приязни у нас не было. Не стало ее, как это ни удивительно, и даже тогда, когда после ее выхода на Красную площадь мы так переживали за них всех, а за Наташу особо… Просто она для меня оставалась подругой мужа.
А вот стали мы близкими людьми благодаря исключительному случаю. Щедрость Наташиной души, ее невероятный нрав и характер, а моя отвратительная детскость стали тому причиной.
На дворе шел уже 1973 год, у нас было уже двое детей. И я была вполне взрослой особой, двадцати семи лет от роду. Мы ехали на день рождения к Маше Слоним, куда 6 ноября каждый год съезжалась почти вся Москва; я же – только второй или третий раз. Ехать мне было неохота, я тогда мало кого знала. Приехали. Народ уже вовсю гуляет. Все почти в той или иной степени в подпитии. Я тогда не пила совсем. Стала бродить по огромным, как мне тогда казалось, пространствам (сами мы жили в коммуналке в крошечных комнатушках). Муж мой сразу куда-то исчез в знакомой и дружественной толпе. Я же слонялась и не знала, чем себя занять. И так набрела на кухню, где увидела нарядную и торжественную Наташку в окружении незнакомых молодых людей, которые смотрели на нее с обожанием. Она что-то читала, на столе горела свеча, было темно. Я постояла, послушала. Мне стало скучно. И я подошла к столу и погасила свечку. Наташка мне сказала: не балуйся, Чуда! И свечку снова зажгла. Всё повторилось. Я опять ее погасила. Неудержимая наглая глупость меня просто подталкивала еще раз напакостить. Тут Наташа взвилась и пригрозила мне, что, мол, если я еще раз так сделаю, она мне даст в глаз, и вновь зажгла свечу и продолжала что-то декламировать. Мальчики с опаской поглядывали на меня. А я совсем потеряла всякий страх и погасила в третий раз! И тут Наташка подскочила и в самом деле забабахала мне довольно сильную оплеуху! Я выбежала с кухни и со слезами бросилась разыскивать своего мужа с криком: вон отсюда! Меня оскорбили! Он уже был порядочно пьян и ничего не понял, кто-то суетился, охал. Я держалась за щеку, от обиды у меня непрерывно текли слезы. Он покорно поплелся домой, так ничего и не поняв.
Наутро я ему всё напомнила и, возмущенная таким, как мне казалось, произволом, стала требовать, чтобы он звонил своей Горбаневской и сказал ей, чтобы она никогда больше к нам не приходила! Настолько я была поглощена своей обидой, что свою же наглость даже и не замечала. Коля звонить, конечно, не стал. Я обижалась. Кричала: либо я, либо Горбаневская! Выбирай! Он мне терпеливо объяснял, что я его жена, а Наташа – его старая подруга. И выбирать он не будет. Я постепенно успокоилась, забылась, но слышать про «обидчицу» не хотела. И вот проходит, наверное, недели две. Я как-то возвращаюсь с прогулки со своими маленькими детьми. Было уже начало зимы. Пока я их раздела, разделась сама, дверь в мою комнату стала как-то отворяться сама. Мы часто свои двери в коммуналке не закрывали. Но тут мне показалось что-то странное. Я не без страха заглянула туда и с удивлением обнаружила, что на одном стуле и на кровати сидят трое: Саня Даниэль (я его тогда увидела впервые), некто Лева Лурье из Питера (как потом выяснилось) и… Наташа Горбаневская. И тут произошло что-то, что меня потом всю жизнь не оставляло не только своею неожиданностью, но и фантастичностью. Она встала, как на торжественном собрании, и так же торжественно сказала: Чуда! Я пришла мириться и привела своих друзей, чтобы они были свидетелями!
Надо сказать, что в первую секунду я подумала, что Наташка ще раз пришла как следует мне вмазать. Но услышав ТАКОЕ, я обмякла, дико разволновалась. Наташка, видя мое смущение, подскочила ко мне, обняла, расцеловала… Что было дальше, я толком не помню – то ли мы пили чай, то ли водку. Это уже неважно. Важно то, что величие и щедрость Наташиной души меня потрясли на всю жизнь и оставались со мною до самой ее смерти.
А дальше – сорок (!) лет нежнейшей любви и дружбы. Вспоминаю, как она спросила у меня: Чуда, что тебе подарить на Татьянин день? Я, не задумываясь, сказала – стихи, но первую строчку я тебе расскажу (мы только приехали из Молдавии с детьми. И, подъезжая к Москве, муж мой Коля очень лирично и распевно, глядя в небо, пропел почти что: «Не встретила бы нас Москва дождем!» Я ему говорю: а дальше? – а дальше ничего, сказал он. А мне уже послышались стихи). А Наташка и впрямь подарила и даже посвятила мне стихи, начинающиеся этой строкой.
Вспоминается, как она, не задумываясь, в жару, одевшись слишком тепло, в гостях у Саши Грибанова содрала с окон занавеску, обмоталась и, несмотря на наши уговоры, что она слишком прозрачная, пошла так гулять!
Мы ездили к ней в «Город П.», как всегда она называла Париж, ставший ей родным. И всегда, всегда она с распахнутыми, счастливыми руками, с невиданным для небогатого, мягко выражаясь, человека гостеприимством нас всех потчевала, принимала, гуляла, рассказывала и всегда и всем радовалась. Последний раз мы встретились 21 августа прошлого, 2013 года, когда она приехала на 45-летие событий на Красной площади. Она пришла ко мне на Арбат, мне кажется, прямо оттуда. И была ужасно расстроена. Я спросила ее: Наташ, что такое? – Да обидно, говорит. Я немного опоздала (там были какие-то молодые люди, ее поклонники и последователи, которые развернули транспарант «За нашу и вашу свободу!») – их всех забрали, а я не успела! Я ее утешала, но она так и ушла расстроенная.
Тане Чудотворцевой, задавшей мне первую строчку
- Не встретила бы нас Москва дождем,
- но лучше уж дождем, чем вязким зноем,
- но лучше зноем, чем по ребрам батожьем,
- но лучше батожьем, чем сломленным устоем
- и ненадежной крышею на трех
- от зноя и дождя сгнивающих опорах,
- где выдувает сено из прорех
- пустой сквозняк, чей звук – не звон, а шорох.
- Не встретила бы нас Москва вобще,
- но лучше уж Москва, чем холм безлесный,
- чем тот сквозняк, ползущий из щелей
- зернохранилища развалины бескрестной.
Наталья Горбаневская
Дождь в моей жизни
Просьба о дожде застала меня как бы врасплох. Дождь у меня и в стихах, и еще больше в жизни играет очень большую роль. Скажем, так: плохое настроение – выхожу под дождь – возвращаюсь в полном порядке. Дождь как бы идет всю жизнь, и уже трудно из него что-то выделить. Дождь, дождь и дождь. Иногда дождик. Если учесть парижскую погоду («переменную облачность» или почти постоянную непогодь), то моя жизнь в дожде за последние двадцать пять лет только окрепла. Но через несколько дней вдруг резко и ясно, как одно из самых сильных жизненных впечатлений, вспомнился дождь, совсем не попавший в стихи. Дождь в детстве (но сразу отметаю его яркость и силу за счет детства – у меня детские воспоминания очень скудные), не вспоминавшийся давно-давно. Эта резкость-ясность-яркость-сила отнюдь не означает, что описание хоть в чем-то сравняется со зрительным и чувственным (т. е. формально – осязательным, но всем телом: шеей, спиной, лопатками, ногами, насквозь промокшей одеждой) воспоминанием. Даже наоборот: чувствую, что описание будет сухим и формальным. Это был 44, 45 или 46-й год, т. е. мне было восемь-десять лет (скорее всё-таки 44-й и восемь, т. е. еще война). Лето. Мы жили на улице Чайковского (ныне, слава Богу, снова Новинский бульвар), в подвале не сгоревшего во вторую бомбежку Москвы, когда сгорело всё здание, флигеля Книжной палаты (особняк князей Гагариных архитектора Бове). На этом месте теперь дом Большого театра, дом 16–20 (наш был 20). Естественно, сколько можно времени я проводила на дворе, а не в сыром подвале. И тут хлынул ливень. И я побежала под этим ливнем по Садовому кольцу, посреди улицы. Ливень был такой, что движение остановилось (а оно и было тогда небольшим). Тротуары были более чем залиты. Потоки воды клубились, сталкивались, бурлили (и т. п.). Люди все шли босиком, с туфлями и ботинками в руках, я была тоже босиком (но, видно, и перед тем так во дворе гуляла – во всяком случае, в руках у меня ничего не было; или бросила во дворе?). Добежала я то ли до Зубовской, то ли даже до метро «Парк культуры» (рационально – помню, что до Зубовской; глазами – вижу тетенек, перебирающихся через потоп у метро «Парк культуры»; как это сочетать, не знаю, скорее верю глазам). Конечно, я тогда себе словесного не отдавала отчета, но несла меня жуткая радость. Почему-то ливень вызывал неудержимое желание бежать, нестись (не на месте бегать и носиться, как тоже бывает, а «куда-то», в одном направлении) – и ведь всю дорогу, ведь не шла же. Добежав (куда – см. выше), я, может быть, и дальше бежала бы, но тут вспомнила, что бабушка, наверно, меня уже ищет и что надо скорее домой, «а то попадет» («попадет» у нас дома никогда не было физическим – только нотации, но я их ужасно не любила). Обратно, наверное, не бежала, а шла. Вот и всё[18].
Виктор Дзядко
Как я не стал Наташиным отчимом
Моя история короткая и дурацкая, просто смешная. Она скорее не про Горбаневскую, а про ее мать.
Я познакомился с Наташиными друзьями после ее отъезда (где-то в 1977–1978 годах). Это Арина Гинзбург, Таня и Дима Борисовы, Вера Лашкова. И так или иначе для всех них она была «Столпом и Утверждением». И только единственный, кто ее не мог терпеть, – Володя Гершуни (по легенде, у них был роман по переписке из разных психушек, который ничем не кончился, но в Гершуни страсть не утихала и по прошествии многих лет. Помню кусок какого-то его текста про Наташу: что-то вроде: «…кто на площадь выходит как на панель…»).
А все остальное про нее: да, безбашенная, бесстрашная, но – герой, и я понимал, что никогда ее не увижу, не познакомлюсь. Череда уехавших людей, провожаемых, как в смерть, в «Шереметьево», у меня уже была…
Но произошло то, что произошло, Наташа в Москве, получилось, что и знакомиться было не надо, сразу на «ты», она жила у нас дома, приезжала на дачу в Кратово. Есть у нас там такая маленькая черная книжечка, где все любимые друзья оставляют свои отзывы о Кратове. И Наташа туда написала стихи:
- За всё, за всё благодарю!
- За дождь, за мед, за смех, за лень,
- За Аньки-маленькой победы,
- За Аньки-старшей красоту,
- За Зойки-тоненькой обеды,
- За Витьки-папы доброту!
Абсолютно свой человек, с вечной сигаретой «Честерфилд», сидящий без конца за компьютером, бегущий куда-то, звонящий, спешащий, абсолютно неприхотливый, с редким чувством юмора, безбытный, прекрасный. Не знаю, стоит ли рассказать – лето, я приезжаю с дачи, Наташа за компьютером, в зубах сигарета, и дорожка из пепла от компьютера до туалета. Обидеться на нее или что-то сказать было невозможно.
Вернусь к сюжету: какое-то начало восьмидесятых, я молод и не женат. Друзья мои Борисовы в одну из наших частых встреч говорят: вот, мол, проблема – Наташину маму, Евгению Семеновну могут уплотнить (вот он, совок! кто сейчас это поймет?!). Кто-то ей сказал, что одной занимать трехкомнатную квартиру не по чину, будет подселение. Что делать? Надо ей выходить замуж. Жених – я. Мне двадцать пять с чем-то, я иду знакомиться с невестой. Замечательная, статная, в моем тогдашнем представлении чем-то похожая на Ахматову. Далее встреча с моими родителями (папа – 1909 года, мама – 1920-го, Евгения Семеновна, кажется, постарше).