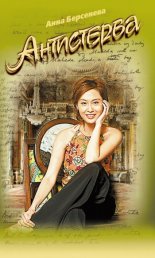Эвакуатор Быков Дмитрий
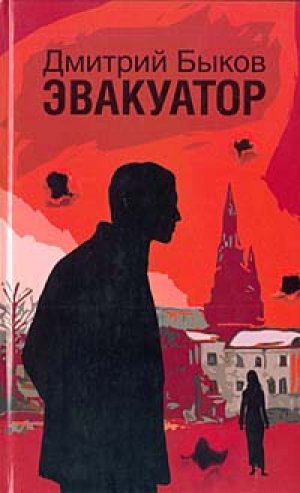
– А в чем они заключаются?
– Я знаю не больше твоего. Ладно, выпускай всех.
Катька пролезла в спальный отсек. Бабушка уже проснулась и терла руками глаза, Сереженька, как всегда, закрывал лицо рукой и не хотел вставать, Подуша хныкала, Майнат сидела неподвижно, обхватив себя за плечи и мрачно уставившись в угол. Беспокойней всех вел себя Лынгун. Он явно понимал в происходящем больше Игоря и Катьки, делал странные жесты – то обозначал как бы высокий купол над головой, то изображал крест, то надувал щеки и хлопал себя по ним.
– Ты все понимаешь? – спросила Катька.
Он яростно закивал.
– Тут – всё? – тихо проговорила она.
Закивал снова.
– Всё как у нас?
Он завыл и замахал руками: хуже, хуже!
– Ну чего? – хрипло спросила бабушка. – Прилетели к Богу в рай?
– Всё нормально, – сказала Катька. – Можно выходить. Нас уже ждут.
Створки раздвинулись, и они вышли в горячий, дрожащий красный воздух, в едкий дым и кирпичную пыль своего нового пристанища.
– Жарко у вас тут, – сказал дядя Боря.
– У нас вообще всегда тепло, – невпопад отвечал Игорь.
Земля была усыпана осколками, обломками, прутьями, похожими на использованные стержни от электросварки; в воздухе висела густая пыль, и земля ощутимо вздрагивала.
– Неудачно сели, да? – понимающе спросил Сереженька. – Сломали чего-то?
– Нормально все, – тихо ответил Игорь.
– А чего… разрушений вокруг столько?
– Пока неизвестно, – ответила Катька. – Ты, Сереж, подожди. Ему надо все узнать, он потом обязательно расскажет.
Игорь бросил на нее быстрый благодарный взгляд.
– Ну и где восьмой путь? – бодро спросила Катька.
– Налево, – сказал Игорь. – Только идите осторожно, видимость плохая.
– Оно и видно, – кивнул дядя Боря. – Там чего, таможня, на восьмом-то?
– Раньше пересадка была, – чуть слышно ответил Игорь. – На Альфу Центавра.
Не успели они сделать пяти шагов, как со всех сторон к ним устремились странные коричневые шары – Катька сначала приняла их за местную растительность вроде перекати-поля, но всмотрелась и узнала зверьков. Крупные, маленькие и самые мелкие, дылыны, тыгыны и еще какие-то, названия которых она не знала, – они ползли к ним, жалобно переваливаясь на коротких ножках, испуганно вытаращив круглые глазки, виляя толстыми хвостами. Зверьков было очень много, они копошились вокруг, насколько хватало глаз; некоторые жалобно пищали. В красноватом тумане виднелись раскиданные повсюду кофры и опрокинутые чемоданы, очень похожие на земные.
Катька нагнулась и взяла на руки одного зверька. Он блаженно зажмурился, прижал короткие ушки-рожки и облизал ей руки.
– Брось, Кать, – тихо сказал Игорь. – Зачем это теперь? Это же деньги.
– Это не деньги, – ласково ответила Катька. – Это не деньги, Игорек. Это ценности.
Она нагибалась, брала новых и новых зверьков – они лизали ей туфли, карабкались вверх по ногам и умильно смотрели снизу вверх.
– Ишь, животные, – радостно сказал дядя Боря. – Это какие, Игорь?
– Так, – сказал Игорь, – грызуны.
– Голодные, что ль?
– Ничего, они могут долго не есть.
До Сереженьки, кажется, начало наконец доходить.
– Тут чего? – спросил он Катьку вполголоса. – Тут тоже, что ли?
– Похоже на то, – сказала Катька.
– Ну да, – согласился он. – Штык впереди – назад осади, но, бога ради, что ж это сзади?!
Такими частушками и прибаутками он был набит под завязку, и прежде Катьку разозлила бы эта невинная хохма, но теперь она испытывала к мужу странную нежность, приступ солидарности. Ничего, он правильно реагировал. С чего она взяла, что Сереженька обязательно будет ныть? Сереженька был невыносим, когда вокруг все было нормально, но, когда у всех все было плохо, он был стопроцентно в своей тарелке.
– Всё в порядке, бабушка, – сказала Катька. – Ты как сама-то?
Бабушка молча кивнула, и по лицу ее Катька догадалась, что она тоже все поняла. Почему-то никого особенно не удивил именно такой оборот событий – все словно были к нему готовы заранее; только дядя Боря до сих пор ничего не понимал, да ему, кажется, было в самом деле без разницы – он был одинаково готов функционировать в любых обстоятельствах. Игорь почти без слов, жестами и невразумительным мычанием о чем-то договаривался с Лынгуном; тот успокоился и вполне разумно кивал.
Далеко впереди, метрах в двухстах, сквозь дымку вырисовывался мощный колонноподобный силуэт: огромная лейка, уходящая в невидимую высоту, стояла в конце платформы, и к ней, толкаясь, теряя вещи, распихивая нерасторопных, бежала монолитная толпа. Катька не могла разглядеть отдельных существ – кажется, они были в самом деле похожи на землян, но попадались среди них и совсем необычные, похожие то на сгустки дыма, то на стоящую вертикально змею, то на чернильную кляксу; все это шло, бежало, катилось, толкалось, прилипало к земле, отдиралось, снова волоклось в общем потоке, и от жалкого шествия шли физически осязаемые волны ужаса. Земля вибрировала от топота, и неслышный, ультразвуковой вой плыл над руинами вокзала – Игорь и Лынгун болезненно морщились, им-то он был внятен.
Неожиданно все тот же мягкий металлический голос донесся из динамика на покореженном столбе – столб погнулся, но динамик уцелел, только в голосе звучали теперь новые, повелительные обертоны.
– Надо спешить, – перевел Игорь. – Эта ракета – последняя, больше рейсов не будет.
– А куда они летят? – спросила Катька. – На Землю?
– Нет, в эвакуацию.
– Куда?! Ты же говорил, что вокруг на двести парсеков нет жилых планет, кроме нас и вас…
– Есть резервная планета, – сказал Игорь. – Да их до черта вообще. Ты что, правда подумала, что их две? Вот центропупизм… Полно их.
– Вы что, просто всех нас взять не можете?
– Не можем, – сказал Игорь, опустив глаза.
– А вас всех, значит, отправить отсюда можете?
– А нас всех можем, – сказал он с вызовом.
– А мы, значит, низший сорт?
Он молчал, но тут к Катьке подскочил Лынгун. Выражение лица у него было неожиданно осмысленное, какого никогда не бывало на Земле, – жалкое, умоляющее, но разумное. Он тоненько выл и указывал на ракету, подпрыгивал, бежал на месте – по всему было видно, что умолял поторопиться.
– Он говорит, что мы не успеем, – перевел Игорь. – Говорит, потом все объяснит. Она правда сейчас стартует, Кать. Эта большая, не то что наша. Сейчас сказали, что она точно последняя. Не успеем ни черта, все тут сдохнем.
– Ну ладно, – сказала вдруг бабушка. – Сяду я, что ли, отдохну.
Она с великолепным спокойствием уселась на свой древний чемодан на колесиках и отерла пот со лба.
– Жарко, – сочувственно сказал дядя Боря.
– Кира Борисовна, – умоляюще произнес Игорь. – Ну еще чуть-чуть, милая моя, тут же двести метров…
– И никуда я не поеду, – бабушка вытащила из кармана сложенную вчетверо газету и теперь невозмутимо обмахивалась ею. – И в сорок первом году никуда не поехала, и сейчас никуда не поеду…
– Да ты ведь уже поехала сюда, – чуть не плача, обняла ее Катька. – Ну чего ты, дойдем…
– И сюда не надо было ехать, это мне Господь знак дает. Я сверху видала, ничего, жить можно. Нечего нам тут. Еще куда поедем, потом еще куда… Где родился, там пригодился. И тебе, Игорь, нечего. И так уж сколько лет родину не видел. Отца хошь повидать, мать…
– Отца у меня нет, – сказал Игорь, – а мать, скорее всего, уже в ракете. Да, действительно, устал я чего-то…
Он сел у ног бабушки и погладил платформу руками, как Штирлиц перед возвращением в Берлин.
– Очень я любил это место, – сказал он и задохнулся. – Много раз возвращался сюда.
Мимо них с трудом, еле отрывая черное, дымное тело от усыпанного крошкой бетона, полз какой-то абориген – видимо, раненый, судя по липкому следу, тянувшемуся за ним. Он никак не поспевал за всеми, но страшно торопился. Может, его затоптали свои же, а может, он был куда-то ранен – по нему никак нельзя было понять куда. Тело его было бесформенным и зыбким, и по нему все время бежала дрожь, словно перекатывались волны; весь он был устремлен к спасительной ракете, но силы покидали его, и наконец он безвольно растекся по перрону, продолжая вздрагивать и мелко зыбиться.
– Кто это? – спросила Катька.
– Метаморф. У нас много таких. Это вторая форма жизни, мы всегда уживались нормально. Они разные могут быть. Любую форму принимают.
– А сейчас что с ним?
– Ранен, наверное. Откуда я знаю.
Бабушка встала, раскрыла чемодан, достала оттуда ночную рубашку, быстро порвала ее на бинты, без тени брезгливости нагнулась к метаморфу и принялась его перевязывать. Она ловко пропустила полосу ткани под его скользкое тело, и еще, и еще раз, – тонкая льняная полоска сразу набухла черной слизью.
– Как вы его бинтуете? – спросил Игорь. – Это же метаморф, я говорю. Вы не знаете, где у него что…
– И-и, милый, – прокряхтела бабушка. – Я в сорок первом году не таких бинтовала.
Метаморф благодарно приподнял что-то и издал нежное урчание.
В эту секунду перрон содрогнулся, из-под огромной лейки вырвались языки пламени, и она медленно, чуть кренясь вправо, словно из нее собирались напоследок полить родную почву, пошла вверх, вверх, вверх – туда, где сквозь красный туман клопом ползло солнце. Солнце ползало по небу двумя клопами, вспомнила Катька. Откуда, собственно, я знаю эти стихи, кто написал их – и откуда знал? Почему оно двоится – не потому ли, что наблюдатель треснулся головой?
Но не успела утихнуть послестартовая вибрация, как на пятый перрон, куда полчаса назад приземлились они, тяжело рухнула бешено вертящаяся лейка поменьше. Взметая пыль, она еще некоторое время крутилась в дыму, потом замерла, и из разверзшегося люка вышел пожилой мужик вполне земного вида, в военной форме, знаков различия на которой в тумане не было видно. Следом за ним на перрон легко выпрыгнула Любовь Сергеевна.
– Мать? – не поверил глазам Сереженька. – Ма-ать! – заорал он и бросился назад, к пятой платформе.
– Маленький мой! – всплеснула руками Любовь Сергеевна и устремилась ему навстречу.
– Вот он, военный летчик-то, – радостно сказал дядя Боря. – Вот оно все и встретились. И хорошо.
Любовь Сергеевна тискала и тормошила сонную Подушу, обнимала нашего мужа и радостно делилась подробностями путешествия.
– Я так боялась! Я взяла только тех, кем могла рискнуть. Но мы долетели без всяких происшествий! И совершенно не укачало! – торжествующе добавила она. – Ты представляешь, в машине всегда укачивало, а тут – совсем ничего! Владимир Иванович замечательно вел. Я не думала даже, что он так умеет.
Тот, кого она называла Владимиром Ивановичем, четким военным шагом приближался к их маленькой компании.
– Честь имею, – сказал он сухо. – Эвакуатор Велехов. Так вам будет проще меня называть.
Он обернулся к Игорю и быстро хлопнул себя левой рукой по сгибу правой. Странное приветствие, подумала Катька. На Земле этот жест имел совершенно другой смысл – какой-то у нас действительно мир наоборот… Игорь так серьезно отдал честь в ответ – то есть опять-таки согнул левую руку и так далее, – что Катька, не удержавшись, прыснула. Эвакуаторы не обратили на нее никакого внимания. Самое удивительное, что Лынгун неумело повторил приветствие, и военный летчик Велехов потрепал его по волосам.
– Ыулун тыгырык, – сказал он снисходительно. – Ыукур тырыдык, ылын ыс?
– Как же, как же, – сквозь зубы ответил Игорь по-русски. – Напишешь ты теперь на него представление. Кому вы хотите писать представление, полковник? Вы тут, кажется, старший по званию, если только не прилетит Кракатук с инспекцией…
– Держите себя в руках, капитан, – с искусственной белогвардейской брезгливостью, всегда столь отвратительной в советских фильмах о гибели белой армии, процедил Велехов. – Чемодан вокзал, ювенес дум сумус!
– Говорите, пожалуйста, по-русски, – бросил Игорь. – Люди кругом.
– Вам угодно по-русски? – язвительно осведомился Велехов. – Не будьте бабой, капитан! Я объявляю вам взыскание!
– Эк вы в России набрались, – усмехнулся Игорь. – Давайте меня, может, сразу того – в расход? Свой в своего всегда попадет? Даешь перенос русских традиций на родную почву! Сделаем самоистребление лозунгом момента – самое время, десять человек осталось!
Велехов помолчал, потом хлопнул Игоря по плечу.
– И то сказать, капитан. Как-то я оскотинился. Простите, ребята, – обратился он персонально к дяде Боре.
– Да чего там, все свои, – пожал плечами дядя Боря.
– Что делать будем, капитан? Я на посадке копулятор помял, на Центавра не долечу.
– Ничего, полковник, починим, – сказал Игорь кисло.
– Ты сам-то как, нормалёк?
– Штатно.
– Ну, ты ас. Про тебя легенды ходили.
– Я вот что хотела уточнить, – сказала Катька, обретя наконец дар речи. – Может, хоть вы объясните, полковник, а то в последнее время Игорь как-то не того… трудности перевода… Вы не объясните, как это вышло, что в России работали три эвакуатора – и все трое прибились, в сущности, к одной семье?
– Ну, почему к одной, – нахмурился полковник. – Во-первых, большинство эвакуированных уже отбыли вместе с нашим коренным населением. От вас все-таки взяли довольно много народу. Это мы все с вами задержались по не зависящим от нас обстоятельствам… Во-вторых, у меня там в анабиозе еще шесть человек, я даже немножко перегрузился…
– Очень милые люди! – воскликнула Любовь Сергеевна. – Моя портниха, мой протезист, мой пациент с мамой… Мой ветеринар с женой… Кстати, эта портниха – милейший человек, я тебе говорила, – Колпашева!
Катька пошатнулась.
– Ты чего? – спросил Игорь.
– Ничего. Тошнит.
Любовь Сергеевна в упор посмотрела на нее и – Катька поклялась бы в этом на Библии – злорадно подмигнула с полным пониманием ситуации, какое всегда отличало тупых и хитрых людей. Ты думала убежать, дорогая моя? Добро пожаловать в рай. Тебя там встретит Колпашева. И кто, собственно, нам внушил, будто нам известны критерии отбора? Допустим, нам нечеловечески повезло и мы угодны Господу. Мы расставляем чемоданы земных впечатлений, раскладываем пачки любимых воспоминаний (отчего-то мне кажется, что этот призрачный багаж сразу же начинает просвечивать, истаивать, разлагаться под пальцами, стоит нам попасть туда, где и без того Есть Всё) – и тут навстречу нам выходит некто смутно знакомый, некто, кого мы сразу узнаем даже после мучительных пертурбаций светлого часа: наш главный мучитель, который у каждого свой, исчадие ада, наш страшный антидвойник, антипод, знающий про нас все-все-все, потому что мы из вещества, а он из антивещества; так что же, его тоже взяли? Ну конечно! Откуда мы знаем, вдруг он святой? Можно было бы перенести, если б мы оказались в аду, а он в раю: это по крайней мере подтверждало бы наличие некоей системы ценностей, в которой мы на одном полюсе, а абсолютное зло на другом. Но перенести факт, что наши столь принципиальные различия до такой степени безразличны Господу, допустить, что внятного нам критерия вообще нет, а потому все наши нравственные принципы и догадки о природе вещей не стоят ломаного гроша, человеку в самом деле нелегко, и оттого происходящее поразило Катьку много сильней, чем разрушенный вокзал и красный туман на месте рая. Если вдуматься, никакого другого рая она и не заслужила, да и вряд ли ей было бы хорошо там, где все слишком хорошо. Наш рай – там, где уже случилось все, что может случиться, где нечего ждать и бояться, не с чем резонировать нашей скрытой внутренней трещиной; Господи, сделай так, чтобы Все Уже Случилось – и я могла не тратить души на засасывающий, воронкообразный страх; душа может мне пригодиться и для иных целей! Да, в таком раю, пожалуй, мне будет уютней, чем под хрустальным куполом; но как же я не учла, что у семейства Колпашевых точно такие же представления о рае, потому что для этих людей нет иного счастья, кроме известия о том, что у соседа сдохла корова, а на Альфе Козерога рухнул мир! О, в этом раю они разгуляются, в разрухе их некому будет остановить; в классе у меня всегда мог найтись нежданный заступник, или учитель вошел бы в критический момент, и все-таки рядом, через улицу, были родители, – кто спасет меня здесь, неужели Игорь, беспомощный ангел-хранитель, чей мир только что разлетелся в клочья? До меня ли ему здесь, господи помилуй! Здесь-то Колпашева натешится надо мной. Катька в ужасе обвела глазами жалкую толпу на перроне, но тут кто-то словно взял ее душу за руку, если такое было возможно. На нее внимательно и доброжелательно смотрели, и источник этого взгляда был ей покамест неясен. Бабушка? Но бабушка сидела рядом, безразличная и уставшая; смотрел кто-то другой, от кого она меньше всего могла ожидать поддержки. Это был Лынгун, чей взгляд был теперь осмыслен и почти осязаем. Этим взглядом он словно гладил ее, и Катька благодарно кивнула.
– А к вашему вопросу об одной семье… – Велехов почесал в затылке. – Что ж, приходится признать, что в нынешнем состоянии страны… приличных людей в самом деле было немного. И все они так или иначе группировались… ммм… в одном кругу…
– Ну! – радостно воскликнул дядя Боря. – Гора с горой не сходится, а человек с человеком запросто!
Лынгун радостно захохотал. Катька никогда еще не видела его смеющимся.
Земля вздрогнула – на пятый перрон, рядом с первыми двумя, плюхнулась еще одна лейка.
– Это последняя, – сказал полковник. – Майор Тылык, из Штатов. Остальные успели. Как же это мы с вами так тормознули, ребята? Я еще понимаю, что россияне задержались – с ними всегда проблем не оберешься. Но этот-то что? Приличная страна же, на самом деле.
– Человека искал, вероятно, – хмуро сказал Сереженька.
Полковник взглянул на него с неудовольствием. Что поделать, надо было привыкать к новому сыну.
И тут Игорь завыл, опустившись на перрон и закрыв лицо руками. Он выл яростно, с надрывом, на одной ноте.
– Господи боже мой! – кричал он. – Господи, какая была планета! Загубили, всё загубили, а чего ради?! Ради мерзкой какой-нибудь ерунды, гнусной глупости, вонючего тщеславия! Сволочи, сволочи, лучших людей разослали спасать других, а сами погубили всё, всё! Господи, как же было не понять – где нам учить других, нам бы с собой справиться! Что же тут такое было, полковник?
Велехов молчал, мрачно покашливая. Игорь раскачивался из стороны в сторону.
– Какие сады, господи! Какие леса! Горы какие! И если бы только горы – сколько всего руками сделано! Какие дома, кинозалы, вокзал какой! Библиотеки, галереи! Кырылык крытый, кырылык открытый, залы для тургынгун, рыскылкун, ойок-кырыл! Бырст, бырст! Оголопуп, колотур, корлокут! Как все любили друг друга, господи, как берегли, как перед всем оказались беззащитны! Все невмешательство, невмешательство… Стырп, утутурс, полный, полный урулус! Кракатук, Аделаида, Тылынгун, аты-баты-эники-клец?!
В этот момент Катька понимала язык. Это значило: «Для чего вы оставили нас?»
Из врезавшейся в перрон третьей лейки смотрели оцепенелые америкосы.
XI
Прозрачные орлы больше не пели, белые вороны не издавали своих нежнейших звуков, длинношеие слоны не забредали на окраины городов. Все здесь было для человека, а человека больше не было. Земляне не в счет.
Здесь птицы не поют, деревья не растут. Перестали звенеть лиловые колокольчики, не плясали у поверхности вод четырехконечные морские звезды. Только фрукты зрели и наливались, потому что не могли свернуть этого процесса. Но и для фруктов, наверное, это был последний сезон.
На второй день Игорь сводил Катьку в церковь. Церковь была высокая, пирамидальной формы, похожая на искусственную елку «Интэко» в районе Курского вокзала. Она была построена из очень дорогого и жаропрочного материала, а потому не пострадала в огне. Было что-то особенно жалкое в том, как бородатый Кракатук, длинноволосая Аделаида и маленький Тылынгун, все очень похожие друг на друга, с глазами навыкате и припухшей нижней губой, смотрели на входящих. Кажется, они смотрели на них с надеждой. Катька постояла у колыбели Тылынгуна, хотела положить ему записку, но вспомнила, что не знает языка. Тылынгун вряд ли понимал по-русски. Впрочем, как выяснилось, по-альфовски он тоже не понимал.
Но что удивительно – все как-то устроилось, и в самом скором времени. Катьке иногда даже казалось, что эвакуаторы все-таки знали друг о друге и находились в тайном сговоре. С помощью Любови Сергеевны они обеспечили себя риэлтором, стоматологом, ветеринаром, бабушка вообще была мастером на все руки, дядя Боря с поразительной легкостью осваивал любую технику, Майнат великолепно взрывала все, что двигалось и не двигалось, и даже у Сереженьки был уникальный талант – представьте себе, пригодился его строительный навык, чудесная способность созидать неожиданные вещи из запчастей, совершенно к тому не предназначенных. Он прекрасно строил жилища из обломков – большая часть домов в столице оказалась категорически непригодна для жилья, альфовцы умудрились как-то уж очень безжалостно расхреначить свою планету, и все это в считаные дни; поистине, они во всем были впереди – в том числе и в разрушительных технологиях. Некоторые дома выглядели вполне целыми, но все перекрытия внутри обратились в труху, так что селиться можно было только в малоэтажных коттеджах с железобетонными перекрытиями, которые риэлтор наметанным взглядом мастерски выцеплял среди остальных строений. В обычные здания лучше было даже не заходить – все могло сложиться карточным домиком от малейшего сотрясения, или все двадцать пять этажей обрушивались на неосторожного посетителя; риэлтор четко определял, где жить, а наш Сереженька подлатывал потолки, заделывал дырки в стенах и при помощи дяди Бори чинил водопровод. Странное дело: он ничего не умел строить просто так, с нуля, но мастерски латал, чинил, ставил заплатки – то есть приводил в порядок то, что уже было сделано до него. На Земле проблема была в том, что всякое дело приходилось делать самому, – а Сереженька умел восстанавливать только то, что было уже разрушено. В его руках сломанные вещи обретали вторую жизнь – пусть они были уже невосстановимы в прежнем виде, зато в новом выглядели презентабельно и даже как-то задорно: вот, мол, на нас поставили крест, а мы еще очень даже ничего! На новой планете задача его облегчалась тем, что предназначения почти всех здешних вещей он не знал, и Игорь только головой качал, глядя, как Сереженька скрепляет провода с помощью щипцов для колки орехов, подпирает стены специальными звукозаписывающими панелями или конопатит щели гигиеническими прокладками.
Полковник Велехов занялся военной подготовкой. На планете в самом деле было это как-то запущенно. Альфа далеко не соответствовала своему гордому названию. Как угодно, а кое-что из земного опыта следовало сюда привнести – может, теперь планета сможет противостоять внешнему натиску или внутреннему кризису, а то и обоим вместе, как было в этот раз. Не зря же он сделал блистательную карьеру в российских войсках. Полковник Велехов устроил для всех обязательную физзарядку – не показушную, как в российской армии, а тщательно продуманную; вместо бега с полной выкладкой и тупой маршировки ввел комплекс упражнений по биомеханике, которую разучил при помощи Любови Сергеевны, а по вечерам писал устав гарнизонной и караульной службы. Он придумал даже элитное подразделение «Альфа», в честь родного солнышка, но пока не мог его укомплектовать, потому что Игорь, пользуясь непременным правом любого эвакуатора, от тренировок наотрез отказался, а дядя Боря не подходил по возрасту, да и других занятий у него хватало. Покамест он отводил душу, по-суворовски воспитывая Лынгуна. Правда, у него имелся резерв – десяток американских тинейджеров, которых привез полковник Тылык на третьей лейке.
Полковник Тылык, не подумайте плохого, очень любил детей. Он честно пытался действовать по науке, отбирая среди американцев образцовых представителей всех земных рас – ведь именно в Штатах, в плавильном котле, можно было встретить их всех на сравнительно обозримом расстоянии; он долго мучился, собирая свою коллекцию, но потом всех оставил на Земле, а спас в полном составе семью Стоунов, воспитывавшую семерых приемных детей и трех своих. Стоуны были евангелистами и много занимались благотворительностью. По основной специальности Пол Стоун был геологом, а его жена – поварихой, так что колония выживших пополнилась знатоком полезных ископаемых и отличной кухаркой. Что до многонационального и пестрого детского коллектива, эти дети могли со временем дать жизнь новому населению планеты – потому что бросать ее просто так было жалко, да и починить копулятор в лейке Велехова оказалось практически невозможно; надо было сваривать новый, а это требовало времени.
Бабушка разбила огородик, договаривалась с цветами и плодами – и пара лиловых колокольчиков нехотя зацвела у нее, сначала выпустив из потрескавшейся почвы зеленый побег, а потом плавно развернув его в лиловую ароматную воронку. Из воронки пахло гарью, но с каждым днем слабей, и даже начинал пробиваться какой-то новый аромат, немного похожий на «Ландыш серебристый». Чтобы окончательно чувствовать себя дома, бабушка выгородила на окраине столицы четырехугольный участок земли, сама сбила крест из двух обломков чего-то непонятного (Игорь утверждал, что это лопасти разбившегося выртылета) и написала на нем: «Кузнецов Кирилл Алексеевич. 1912–1993». Теперь у нее была могила деда, и можно было ухаживать за ней, совершенно как в Брянске.
Даже Подуша нашла себя, сделавшись фактической хозяйкой зверофермы, которую разбили на окраине столицы, на бывшем открытом стадионе для игры в тургынгун. Из былысок для тургынгуна соорудили загончики, туртышки превратили в кормушки, а прушки – в поилки.
– Прушка – такая штука, в общем, тебе не понять.
– Мне не понять? Почему это мне не понять? Может, ты скажешь, что я и в тургынгун не умею играть?
– Конечно, не умеешь. Из-за этого в школе все над тобой издевались.
– Послушай, что ты вечно распространяешь свою биографию на других? Никто никогда надо мной не издевался в школе, ты поняла?
– Конечно, конечно, милый. Но, может, тогда ты все-таки объяснишь мне, как играют в тургынгун?
– Пожалуйста, хотя в седьмом часу утра у меня плохо варит голова. Значит, так. Играют две команды по восемнадцать человек. Площадка разгорожена на две части. Цель игры – загнать тургын в гун, подвешенный к гун-крынке. В левой руке у каждого – туртышка, в правой – прушка. Ни в коем случае нельзя менять их местами. Туртышка обладает гундышными свойствами, а прушка – дордушными. Если правильно гундышить и изобретательно дордушить тургын, он попадает в гун. Важно также защитить свой гун от атаки противника, и этим занимается так называемый гункипер, в качестве которого я обычно и гунил в школе. У меня был номер один, я страшно гордился собой.
– Тебе не кажется, что получился какой-то квиддич?
– Сама ты квиддич, в квиддич играют на метле, а у нас туртышки.
– Хорошо, хорошо, милый, я вся внимание.
Так вот, Подуша отлично вписалась в новый социум, где не надо было ходить в садик. Младший ребенок Стоунов – пятилетний мулат Джимми – стал ей добрым товарищем. С Лынгуном она тоже постепенно находила общий язык, в самом буквальном смысле, ибо стремительно осваивала альфовское наречие.
Но главным ее увлечением стали зверьки – удивительно милые и домашние, чрезвычайно тянувшиеся к людям. Они, казалось, все понимали и даже простили альфовцам их предательство – кто же будет брать с собой деньги на новую, неосвоенную планету, где предстоит долгий период натурального обмена? Только земляне, даже улетая на Марс, непременно взяли бы с собой несколько пачек долларов или рублей, хотя бы на карманные расходы, – просто потому, что в силу своей физиологии они не в силах расстаться с деньгами и, даже отдавая их в магазине, испытывают сильнейший стресс. Зверьки прекрасно прижились на стадионе, Полька ежедневно кормила их харлашем, который в изобилии разросся на улицах покинутого города, и учесывала с ласковым мурлыканьем. Тыгыны и дылыны оказались необычайно смышлеными, приносили ей цветочки, плели веночки и даже убирали за собой, тем более что их навоз, как выяснилось, обладал целебными для землян свойствами и издавал слабый, приятный запах скипидара. Его, оказалось, можно прикладывать к ранам и вообще больным местам, и дядя Боря скоро полностью исцелился от радикулита, а у Любови Сергеевны прошли мигрени. Зато пенициллин оказался очень пользителен для метаморфа, да, а ты как думала, и метаморф скоро полностью выздоровел.
– Нет, нет! Наоборот, от первого же укола земного пенициллина он тут же исчез в страшных судорогах, потому что по природе своей был кишечная палочка.
– Это у вас бывает разумная палочка, а у нас ничего подобного, ему вкатили пять кубиков под металопатку, и он совершенно исцелился и даже размножился, и скоро метаморфов стало можно использовать для строительства новых жилищ.
– В каком смысле? Наш муж затыкал ими щели?
– Нет, они носили кирпичи.
– Нет ли тут физиологической дискриминации?
– Опомнись, какая дискриминация, просто они могут больше на себе таскать. Если хочешь, дядя Боря будет им помогать.
Дядя Боря нашел себя в совершенно другой области. Как известно, он отлично управлялся с любыми механизмами, хотя бы и внеземного происхождения. Он никогда не унывал, не особенно скучал по Земле и даже, кажется, считал, что они никуда не улетали – ведь механизмы были тут устроены совершенно по-земному, да и развалины были такие же. Бардак, одним словом. Иногда, когда он все-таки пытался осмыслить происходящее (а это случалось нечасто, потому что хорошему шоферу и механику абстрактные размышления совершенно ни к чему), он допускал, что это все было какое-то спецзадание и забросили их на самом деле в какую-то дальнюю страну, вроде, может быть, Японии. А мы ее, вероятно, разбомбили из-за островов и вот теперь восстанавливаем в порядке братской помощи. У них есть, конечно, всякая японская техника, очень трудная для российского понимания, а все-таки доступная; есть биороботы, которые исцеляются пенициллином, и даже зеркальные стены для показа удивительных телепрограмм – правда, после того, как дядя Боря починил их, они стали крутить один сплошной «Аншлаг», потому что, я ведь говорил тебе об этом, зеркальная стена транслирует и оформляет именно твои тайные желания. А у дяди Бори были вот такие, ему неоткуда было взять других. Он собрал несколько экскаваторов, отремонтировал выртылет, и в перспективе из трех наших леек вполне мог бы собрать одну очень большую, чтобы улететь туда, к нашим, – но с нашими до сих пор не было связи, и экспедиция откладывалась. Не полетишь же наобум лазаря. Может, там трудности. А может, просто еще не долетели, все-таки это ужасно далеко.
Да и вообще – зачем еще куда-то улетать? Все, что не ладилось у землян на родной планете, здесь стало получаться само собой: может, потому, что начальства не было, а скорее всего, потому, что действительно воздух был другой. Там тоже была чужая планета, но они об этом не знали и старательно делали вид, что своя. А здесь явно чужая, и ни перед кем не надо было притворяться. Чужую не надо было оправдывать, когда на ней обваливался очередной дом; ее не надо было присваивать, потому что она и так принадлежала им, а национальных и территориальных споров между ними быть не могло, как не бывает их на необитаемом острове. И даже чеченка Майнат нашла себе дело – оружия было много, дынымыта тоже, это была такая местная промышленная взрывчатка для горного дела, взрывай не хочу, и дядя Боря приспособил ее для взрывных работ в городе. Надо же было обрушивать старые дома, иначе они сами рухнут и могут придавить деток. Майнат с хищной, мстительной радостью закладывала в подвалы дынымытные шашки, отбегала и любовалась торжественным, медленным осыпанием. Ненависть ее к русским немедленно улетучилась, потому что никаких русских здесь больше не было – вся русскость Катьки, дяди Бори и Любови Сергеевны испарилась, заменившись статусом Робинзонов. У Робинзона национальности нет.
– Да, чтобы не забыть: метаморфа прозвали Пятницей.
Так открылся универсальный рецепт спасения человечества: его оказалось достаточно всего лишь переселить. Дело даже не в том, что Земля – маленькая и тесная планета. Она большая, места всем хватит. Проблема в том, что она слишком давно заселена: переезд – необходимый и приятный стресс, даже квартиру надо менять раз в десять лет, а можно и чаще. Шутка ли – вечно жить в одном доме! Переезд сплачивает, забываются мелкие раздоры, начинается как бы новая жизнь. Главное же – на Земле все подспудно чувствовали, что их сюда сослали. Слишком много было паханов, надсмотрщиков, шутов – всё как в лагере, и здравые социологи давно бы уже заметили это сходство, если бы обладали хоть малой толикой фантазии. Ясно же, что такие отношения могли сложиться только в насильственно созданном коллективе. А земляне всё спорили, откуда на Земле возникла жизнь. Неоткуда ей было возникнуть, кроме как из другого, прекрасного мира, где она зародилась естественным путем, – а потому и отношения на Земле были как во всяком насильственном и замкнутом сообществе. Попытки к бегству периодически предпринимались, но какие-то все малоудачные – в околоземное пространство, максимум на Луну… И правильно: кого надо, и так отправят.
– Постой, постой. Но, выходит, дивный далекий мир тоже ни от чего не застрахован?
– Конечно. Смертны все, просто можно умереть от инфаркта, а можно от сифилиса. Не чувствуешь разницы? Представь на секунду, что было бы, объяви кто-нибудь тотальную эвакуацию у вас. Люди ломились бы в лейку, продавали бы место в очереди, затаптывали слабых… А как у нас? Ты видела, как организованно все прошло у нас?
– Видела, спасибо, Пятницу вон бедного чуть не затоптали.
– Во-первых, это единичный Пятница, а у вас их были бы тысячи. Тысячи! А во-вторых, почем ты знаешь, может быть, он был ранен. Мы могли погибнуть от вторжения чуждой цивилизации, могли пострадать от войны или экономического кризиса, и даже, скорей всего, нас погубила какая-то чуждая сила; позволь, я это объясню. Мы все-таки были слишком хорошими. Мы не были готовы к отражению агрессии. У нас даже не было оружия, кроме дынымыта. Нас погубил проклятый принцип невмешательства, и когда кто-то решил нас истребить – нам нечего оказалось этому противопоставить.
– Кто же решил вас истребить? Где захватчики? Ведь просто так никто никого не истребляет, это же так естественно. Ну так где она, эта чуждая сила?
– Она… она нигде. Они вовсе не ставили себе целью нас захватить. Это только у вас, на тесной Земле, возможны такие глупые, мелко-наивные объяснения. Что, может, вашим террористам нужно ваше метро, ваша земля, ваши женщины? Глупости, ваши женщины даже самим себе не нужны. Есть иррациональное зло, которое само себе причина, и оно вышло наконец из-под земли, вырвалось, потому что созрело. Это вовсе не то зло, которое просто анти-добро. Это нечто третье, нечто из иной парадигмы, зло помимо всех объяснений и мотиваций, – зло, до такой степени брезгующее всем человеческим укладом, что ему не нужно от вас даже дани. Помнишь, как в стишке про черных птиц? Черные птицы кричат всю ночь, черные птицы хотят мою дочь. Он им предлагает все по очереди – свою душу, свой дом, свое лицо… А им ничего не надо.
– Господи, какой ужас.
– Да, именно такой ужас. Это зло может появиться и у нас, и у вас, и согласись – ты же предчувствовала его с самого начала.
– Да, конечно, я даже с ним соприкасалась. У нас в классе была такая девочка.
– Если я правильно понял, ее звали Таня Колпашева?
– Да, ты понял правильно, слишком правильно.
– Ну вот. Так и тут. Только вы сами сделали все возможное, чтобы это зло победило, – помнишь, как Шамиль писал еще в первом письме? «Вы, русские, сами сделаете все, чтобы победили воины Аллаха». А мы просто сбежали, потому что за долгие годы райской жизни утратили навык сопротивления – и тогда они обратили против нас наше оружие, взорвали наши дома и выгнали нас с планеты. И мы, вечные странники, улетели туда, где нас не смогут достать. Это, кстати, причина того, что никто не отвечает на сигналы. Наши улетели далеко, очень далеко, и никто не знает куда. Вокруг полно обитаемых планет, пойди выбери. Но они никогда теперь не ответят на зов, чтобы их не запеленговали. Зло найдет их, конечно, и там, но к тому времени у нас уже будет разработан план эвакуации. Знаешь, ведь в каждой гостинице, в каждой школе прежде всего вешают план эвакуации. Это мы придумали. Вспомни фильм «Звонок».
– Отлично помню, я всегда любила ужастики.
– Но согласись, что это необычный ужастик. Обрати внимание, что у японского были объяснения, сиквелы, приквелы – а в американской версии Гора Вербински нет ни развязки, ни внятного разъяснения. Потому что девочка эта…
– Самара, Самара-городок, успокой ты меня…
– …в американской версии взялась из ниоткуда и творит зло нипочему. Так что Вербински все правильно понял, он все-таки мастер, а не просто ремесленник. Это примета времени – зло без причины, наделенное чудовищной, бесцельной силой. Радикальный ислам тут вообще ни при чем, он тоже станет жертвой, только чуть позже. Я же говорю – первые и вторые уравнялись и взаимно уничтожились, пришли третьи, не желающие ничего присваивать. Ты же не отбираешь соломинку, если давишь двух муравьев? Они и не враги тебе, в сущности. Тебе просто нравится давить. Вот это и вырвалось, и поэтому ты не спишь.
– Еще мне холодно.
– Неправда, у нас тепло. У нас гораздо теплее, чем у вас.
– И что это зло будет делать дальше?
– Пока не знаю. Наверное, появится какая-то четвертая сила, которая его уравновесит, низведет или поднимет до себя, взаимно уничтожит… а победит, как всегда, пятая. И так до бесконечности. Только зло все злее, и культурка, которую оно успевает выстроить в старости, все беспомощнее. Посмотри, каким умирал Серебряный век – и какой гибнет ваша красная империя. Эмигранты грустили по России Блока, а ваши будут вспоминать «Кавказскую пленницу». И уверяю тебя, наша новая цивилизация тоже будет хуже. Там, на этой планетке, куда они улетели. Всякий раз, когда начинаешь с нуля, что-то уходит. По-настоящему прекрасное можно создать, только когда детски веришь, что оно не будет разрушено. А если не верить – зачем и трудиться? Все равно какую-то часть души будешь экономить. Вот и наши, наверное, были настоящими титанами только до первой эвакуации, а потом все искусство было уже так себе.
– А что, была первая эвакуация?
– Ну конечно. Мы же теперь это обосновали. Всю жизнь бегаем от абсолютного зла, каждый раз начинаем с нуля. Если бы не эти бегства, кто бы придумал профессию эвакуатора? Согласись, ее могла создать только цивилизация, которая много эвакуировалась.
– Да, логично. Но скажи, не опасна ли для нас, землян, эта ваша цивилизация абсолютного зла, преследующая вас повсюду?
– О, ничуть не опасна. Не опасней, чем слон для муравья: если и наступит, то по чистой случайности. Наше абсолютное зло – это не ваш уровень. Ваш уровень – чеченцы, извини, пожалуйста, за высокомерие. Ваш уровень – это Майнат. А у нас такие Майнат… что лучше тебе не думать об этом, если честно.
– Подожди, подожди. Но, значит, ваши улетели безвозвратно и навсегда? И догнать их мы никогда не сможем, даже если дядя Боря починит копулятор?
– Да, конечно. Кто не успел, тот опоздал. Но вообще-то, знаешь… На Альфе вполне можно жить. Починим водопровод, расчистим руины, восстановим зеркальные стены. Выучимся играть в тургынгун. Дети вырастут. Подростки размножатся. Любовь Сергеевна посматривает на американца, у летчика нежные чувства к американке, дядя Боря любит чеченку: пока – как дочь, там посмотрим. Да и у нашего мужа что-то такое с рыженькой Стоун, усыновленной из России и почти забывшей русский язык, но ничего, вспомнит. Всем хорошо.
Все уладилось, осела пыль, иссяк дым, горький запах руин и пожарищ сменился весенним духом пробуждающейся земли, – стала видна невинная синева вод и кроткая зелень лесов, мягкие контуры холмов и гибкие петли рек, вся тихая прелесть планеты, выбранной для жизни теми, кто презирал драку и умел только убегать. Мягкость эта волшебно подействовала на ожесточенные земные сердца, и всем нашлось наконец место в общем деле – всем, кроме Игоря и Катьки, которые только и были среди всей этой идиллии по-настоящему несчастны.
Причина была, конечно, не в той вполне объяснимой неловкости, с которой им помог справиться наш бывший теперь уже муж: Сереженька, найдя себя и пользуясь в коммуне заслуженным авторитетом, имел теперь в жизни другую опору, кроме Катьки, и сам сказал на исходе второго дня: ребята, я же все вижу, не стесняйтесь. Я и в лейке все слышал, ты же знаешь, Кать, у меня бессонница. Чего там, я давно тебе в тягость, ты лучше меня и умней, живи как знаешь, а я попробую тебе не мешать. И с Подушей видься сколько хочешь, это на Земле все было проблемой, а здесь – занимайте любую квартиру и живите сколько влезет. Кстати, у Игоря наверняка квартира цела («Не цела», – буркнул Игорь). Ну, найдете, в общем. И вы не думайте, пожалуйста, что я в обиде. Я, Кать, давно тебе хотел сказать, на Земле еще… что, в общем, наверное, мы ошиблись оба. Ничего, поправить не поздно. А Подуше когда-нибудь потом вместе объясним.
Теперь они, не скрываясь особенно, жили в одном из коттеджей на окраине столицы, и наш бывший муж даже зашел к нам починить стену, причем вел себя вполне прилично, великодушно, а Игорь как раз нервничал и не мог, против обыкновения, сладить с проводкой. Беда была в том, что все на них косились, за общими трапезами они никак не могли попасть в тон коллективного разговора, на совместных работах вечно оказывались в паре (таскали носилки, пилили дрова), а с другими никак не могли поладить. Ни полковник, ни Лынгун не заходили к ним в гости – иногда только забредала Майнат, отрывисто рассказывала, как заложила отличную бомбу в подвал тридцатиэтажки, только пыль столбом; особенно ей было интересно, возьмет ли ее Аллах в рай или не зачтет всех нынешних взрывов, поскольку бегство с поля боя способно перевесить множество заслуг и добродетелей. Игорь говорил, что она уже в раю, какого ей еще рая – взрывчатки море, взрывай не хочу…
Тетка-портниха Колпашева, кстати, тоже оказалась не так страшна, как ее малевала брянская племянница. Конечно, брать ее в рай стоило исключительно по протекции, потому что она была прежде всего непроходимой дурой, начисто лишенной той убийственной интуиции, которая делала Таню исчадием ада; при этом она была в самом деле визглива и базарна, так что выносить ее близость даже и Тане было, должно быть, нелегко, – но и самая базарная визгливость, и самая отчаянная пошлость, бытующая в кругах, где ходят к своим портнихам, влюбляются в своих гинекологов и читают Иоанну Хмелевскую, все-таки далеко не так ужасна, как изощренное самоцельное мучительство. Колпашева, к счастью, нашла себе другую жертву – она упорно и тайно ненавидела Пола и Стефани, которые, как ей казалось, привезли на Альфу чуждые ценности и теперь всюду утесняли русских. Катька думала об этой ее маниакальной сосредоточенности со стыдным облегчением, и еще непонятно, что было бы хуже: самозабвенная тяга портнихи Колпашевой к ценностям свободного западного мира – или патриотическая ненависть к нему. Главное, что до Катьки ей не было никакого дела.
Проблема была не в конкретных людях, и не в отсутствии комфорта, и не в мучительной тоске по разрушенному раю, который они обрели так не вовремя. Проблема была в том, что оба чувствовали себя бесконечно чужими на этом празднике жизни, почти все участники которого сдружились и ласково друг друга оберегали от нежелательных случайностей. Только Игорь и Катька никому, кроме друг друга, не были нужны.
Начать с того, что у обоих не было никакой приличной профессии. Катька, конечно, могла кашеварить – но все уже готовили себе сами, да и что было, в сущности, готовить, когда харлаш повсюду рос сам, а барласкун, который в изобилии давали уцелевшие барласкухи, достаточно намазать на дурык? Игоря можно было использовать как тягловую силу, но физической мощью он не отличался, а машину не водил – только ракету. Ракета же им в обозримом будущем понадобиться не могла. Ни у художницы Катьки, ни у эвакуатора и космического пилота Игоря не было никакой сколько-нибудь земной профессии, особенно из числа востребованных в реконструктивный период. Катька, конечно, умела рассказывать сказки – но не по-английски; Игорь мог с закрытыми глазами собрать и разобрать лейку – но ничего не понимал в экскаваторах. У эвакуаторов была слишком узкая специализация. Конечно, он мог чинить проводку – но тока давно не было, а наладить автономную электростанцию –
– …они, наверное, хранились в подвалах на всякий случай?
– Да, конечно.
наладить такую электростанцию мог и ребенок, а провода там саморегенерирующиеся.
С этим, однако, можно было бы мириться. Ужасно было другое – им решительно не о чем было говорить с остальными. Все эти люди – латающий дыры муж, гуляющая с собакой и понемногу обучающая американцев русскому языку Любовь Сергеевна, золоторукий дядя Боря, пиротехническая Майнат и грезящий спецподразделением полковник – были на своем месте, не говоря уж о геологе с кухаркой; все смотрели на Игоря и Катьку с тайной укоризной, потому что после крушения мира людям не до преступной любви – а эти двое полюбили друг друга так не вовремя, да вдобавок так демонстративно. Игорь не очень нравился бабушке – молчалив, нервозен, вечно всем недоволен; Катька вызывала стойкую идиосинкразию у Стоунов. Эти двое не могли участвовать в общих мероприятиях вроде викторины «Вспомним Землю родную»; их не привлекали танцы и коллективные трапезы. Они были отдельно от всех и не могли с этой отдельностью ничего сделать; особенно тоскливо было то, что на них смотрели с тяжелым подозрением, как на виновников всего происшедшего.
– Это ты загнула.
– Ничего подобного, именно так и обстояло дело.
Их считали частью того самого иррационального зла, от которого рухнуло все. И хотя Катька каждый день навещала Подушу, играла с ней, укладывала ее спать, она никогда не оставалась ночевать у Сереженьки в его латаном-перелатаном домишке, сплошь состоявшем из взаимоисключающих вещей и стилей, а Сереженька никогда не отдавал Подушу ночевать к ним с Игорем. Нечего ребенку смотреть на разврат.
Эта неприязнь ни в чем особенном не проявлялась. Наружу она вырывалась крайне редко, да и то почти всегда по Катькиной вине. Со стороны жизнь на планете была почти так же идиллична, как и до катастрофы, – если бы, разумеется, было кому смотреть на нее со стороны. Ветеринар лечил барласкух, геолог разведал много полезных ископаемых, которые и ископал, на радость присутствующим; только Игоря и Катьку кормили из милости, хотя добыча еды –
…повторяю –
и не представляла особенных трудностей. Просто они и здесь были всем чужие, как на Земле, и чем больше своими делались друг для друга – тем больше их ненавидели все остальные.
Теперь им пришло время поменяться ролями: уже не она водила его на экскурсии – «Улица, ряд домов, ее освещает фонарь», – а он объяснял, время от времени переходя на их парольный инфинитивный русский:
– Тут быть коркынбаас, большой количество домов, но не ряд, не улица, как у вас, а такая круговая, спиральная фигура, гораздо интересней. Тут кафе, но каждый быть сам готовить еда из продукт, который покупать здесь же. А вот магазин «Одежда», смотри, почти ничего не забрали. Только теплое, наверное. Выбирай что хочешь: это лырын, надевается через голову, это быдыс, повязывается вокруг шеи, а это сыурчук – в него заворачиваются. Бери, у нас давно бесплатно. По-моему, тебе очень ыдет.
Только на пятый день он решился пойти туда, где стоял когда-то его дом.
– Мне, наверное, лучше одному, – сказал он Катьке.
– Игорь, если можно, я все-таки с тобой. Мало ли.
– Что – мало ли?
– Ну, не сердись. Мы же вместе теперь. Возьми меня, правда.
Он пожал плечами:
– Хочешь – пошли.
Его дом стоял в зеленом когда-то, а теперь начисто выгоревшем районе, около разбомбленного парка с изуродованными и расщепленными старыми деревьями, похожими на тополя. Была весна, из красноватой почвы изо всех сил перла новая трава, от старых стволов стремительно отрастали побеги – гибкие, вьющиеся, ползучие.
– Это такое дерево, – пояснил Игорь. – В первом поколении прямо растет, а во втором, если срубить, – только ползает. Ствол уже никогда не отвердеет, вырождение в чистом виде. Их у нас запрещено было рубить. Кстати, у нас почти все деревья так. Вырубишь – очень быстро дает ползучий побег, весь лес заплетает.