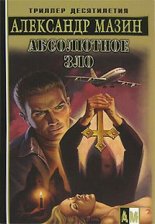Сокол против кречета Елманов Валерий
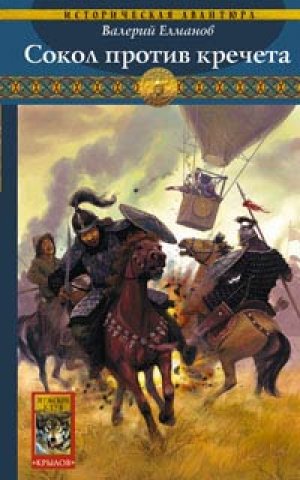
Вторая просьба папы — помочь богоугодному делу войны с монголами хотя бы деньгами — тоже не дала положительного результата. Константин в очередной раз развел руками и заявил, что готов дать им не десять тысяч гривен, что они просят, а гораздо больше, но… только после удовлетворения последнего из интересов жителей самой Руси.
На свою беду, Александр не угомонился и решил немножечко пошантажировать императора тем обстоятельством, что этот титул римский первосвященник ему не присваивал. Так что он получался вроде бы как не совсем законный, а вот если царь русичей поможет своим единоверцам, то глава католической церкви незамедлительно пришлет своего легата, и тот проведет должный обряд по возведению государя Руси в императорское достоинство. Об этом заявили новые послы римского первосвященника.
В ответ Константин немедленно напомнил им, что испокон веков на византийских императоров корону возлагали патриархи Константинополя, а не какие-то там захудалые епископы, уныло сидящие на развалинах Рима. Учитывая, что духовный владыка Константинополя давным-давно возвел в точно такой же сан митрополита всея Руси Мефодия, который и венчал Константина императорской короной, титул его самый что ни на есть законный.
И вообще, император всея Руси считает кощунством и ересью, когда человек провозглашает себя даже не преемником апостола Петра, а наместником Христа[170]. Он, государь, может сквозь пальцы смотреть на заблуждающихся в вере, но с такими страшными еретиками, как римские папы, ему знаться отвратно.
Взашей послов не гнали, но они сами поняли, что еще немного, и их пребывание закончится именно этим, и благополучно ретировались.
Получив такие неутешительные сведения, папа на всякий случай еще раз проклял неуступчивого схизматика, как пособника монголов, служивших дьяволу, и тут же махнул на него рукой, устремив свой взор на Сицилию, бесхозную после смерти императора.
На восточных рубежах Руси теперь тоже царила тишина. После того как Шейбани своими силами учинил бесславный набег на заводы, стоящие на Урале, Константин велел воеводе собирать войско.
Ответный поход оказался успешным во всех отношениях. Константин получил огромные ханские табуны и спокойную — потому что обескровленную — степь от Тобола до Аральского моря. Отпор, который попытался дать хан, закончился не поражением и даже не разгромом, а настоящим побоищем. У Вячеслава Михайловича теперь уже хватало конницы, и он устроил монголам полное окружение.
Изо всего войска Шейбани уцелело не больше нескольких тысяч, которые попали в плен и были по дешевке проданы в Корчеве, благо египетский султан усиленно искал замену погибшим мамлюкам. Сам Шейбани уцелел лишь благодаря инициативе нукеров личной охраны, которые, не долго думая, чуть ли не насильно уволокли хана с поля боя.
Шейбани попытался пожаловаться в Каракорум, но там давно было не до Руси. Вспыхнуло там не сразу после смерти Гуюка. Поначалу чингизиды пытались мирно договориться между собой, но эмиссары Константина не зря совершали неустанные поездки к потомкам сыновей Чингисхана, которые и без того не испытывали друг к дружке особого доверия.
Если бы не русские послы, которые вовремя подкинули детям и внукам Чагатая идею объединения с потомством Угедея, то Менгу и его братья Хулагу и Хубилай взяли бы верх достаточно легко. Но после объединения остальных улусов силы сторон практически уравнялись, и теперь не проходило и двух-трех лет, как огромные полчища, насчитывающие по пять, шесть, а то и десять туменов каждое, сходились в ожесточенной сече и старательно рубили друг друга.
Воистину, самая жестокая вражда всегда бывает именно между родичами. Но что интересно, каждый из противников при этом считал Русь своей союзницей, пусть и пассивной.
Словом, на Шейбани грозно цыкнули, заявив, что он сам виноват, и ткнули пальцем в Орду-ичена, мирно кочующего по Иртышу и его притокам. Мол, бери пример с брата. Он Русь не трогает, и она его тоже. Хочешь — поучись, не хочешь — воюй дальше, но мы тебе не помощники.
А время все так же неслось вскачь, тонко намекая, что век любого человека не беспределен. У Константина эти намеки были связаны с участившимся сердцебиением, тупой болью в правом боку и… Впрочем, перечислять все старческие болячки — дело муторное, да оно нам ни к чему.
Но он еще бодрился и хорохорился, хотя уже пришлось отказаться и от утреннего кофе, и от копченого сала, употребляя вместо них горькие настои и противно пахнущие снадобья. Неравноценная замена, что и говорить, но, когда прижмет, деваться некуда.
«Мне помирать никак нельзя, пока я Русь в надежные руки не передам, — все чаще говорил он своим ближайшим сподвижникам из числа тех, с кем начинал и кого еще не унесло в неизведанные края безжалостное время.
Те согласно кивали, но Константина ни о чем не спрашивали. А зачем, коль все равно не ответит — на распутье государь после внезапной смерти старшего сына Святослава, происшедшей пять лет назад. Так пока и не определился — то ли кого-то из Святославичей властью наделить, то есть внука выбрать, то ли из Николаевичей — старшего правнука.
Первые вроде в самой силе — по тридцати с лишним годков, но характер смущал. И напористые, да излиха, и решительные, но с перебором, а главное — власть не в меру любят. Для хорошего правителя, как Константин считал, она в какой-то степени бременем быть должна, тяготить, а для них, особенно для самого старшего — Вячеслава, она сладостью сплошной виделась.
Константин же, старший покойного внука Николая, вроде бы получше будет, но уж больно молод — и двадцати трех лет нет. Вот и думай, государь, да не промахнись, чтоб потом за твою ошибку людям платить не пришлось.
Тот день выдался обычным, будничным. Таким он и был до самого полудня, а потом государю доложили, что прибыл отец Евлампий, причем не один, а вместе с Иваном, сыном вождя племени кайы.
— Это какой же Иван? — нахмурился Константин.
Велимир, исполнявший обязанности императорского секретаря, помянул про себя недобрым словом рассеянность государя, усилившуюся за последние годы, и тут же уточнил, что имеется в виду Осман, первенец Эрторгула.
— Ого, какой путь проделали, — присвистнул Константин и распорядился: — Зови.
Гости были не на шутку озабочены, оттого рассказ их получился несколько сбивчивым, так что Константину приходилось несколько раз переспрашивать и уточнять.
Наконец он выжал из них все возможное и откинулся назад, прижимая голову к высокой резной спинке своего любимого кресла и вспоминая, как два года назад Истислав засобирался в дальние края, в сторону крепости Яика.
— Меня имя обязывает, государь, — твердо произнес он, поясняя причину отъезда.
— Ищущий истину, — слабо улыбнулся Константин. — Ну что ж, ищи, авось и вправду что-нибудь получится.
Не получилось. Что-либо нового о Святозаре его сын так и не узнал. Но это так думал тогда сам Истислав, а оказывается….
— Стало быть, этот священник засвидетельствовать свои слова не сможет, — произнес он задумчиво.
— Опосля того яко узрел он Истислава, Иоанн, который отец Анастасий, не вмиг все вспомнил. Силился, да не выходило у него никак. Учал он задумываться часто, оттого и тяжкие боли в голове приключились, от коих он и слег. В себя же пришел и вспомнил все лишь в краткий час перед кончиной. Успел лишь позвать Османа Эрторгуловича да меня, опосля чего отец Анастасий покинул земную юдоль, — в очередной раз повторил отец Евлампий. — И окромя нас на оную речь послухов нет. Может, мы…
В голове у Константина тоненько звенел какой-то назойливый комар, перед глазами все плыло в неспешном танце-хороводе, но он нашел в себе силы, чтобы отменить предложение священника.
— Погоди, отче. Вначале огласить о невиновности Святозара, равно как и о его славной кончине, должен я сам, и не с амвона Святой Софии — это как раз сделает патриарх — но на государевом совете. Мне, родному отцу, не поверившему, но смирившемуся с тем, что Святозар — изменник, надлежит сделать это первым. Ну а уж потом… дойдет… черед и… до тебя, а пока… — и Константин закрыл глаза.
Гости поначалу даже не поняли, что с ним, терпеливо дожидаясь продолжения речи. Лишь через несколько минут им стало ясно, что дело неладно.
Уже к вечеру о тяжкой болезни государя судачили все жители стольной Рязани. Заволновались и иноземные послы — им-то что делать? Но дипломатов успокоил Велимир. К вечеру следующего дня он объявил им, что император уже пришел в себя и причин для тревоги нет, а то, что Константин Владимирович и впрямь пошел на поправку, подтверждает его запрет на отмену или перенос государева совета, который пройдет даже ранее назначенного срока. Словом, ждите, гости дорогие, и ни о чем не печальтесь.
— Ныне он даже с бумагами работал и грамотку мне надиктовал, — прибавил секретарь для вящей убедительности.
Тут, правда, Велимир немного загнул. Единственное предложение, надиктованное ему императором, было коротким, хотя выговаривал он его непослушным языком битых полчаса. Заключалось оно всего в пяти словах: «Ты была права! Прости, княгиня».
А куда везти грамотку, государь вымолвить уже не мог. Хорошо, что рядом оказался верховный воевода. Он-то и подсказал. В тот же день нарочный немедля ускакал с посланием в селище под Ряжском. Константин же после того лежал чуть ли не полдня недвижимым, потому что даже этот простой труд, судя по всему, выжал из него все силы до донышка.
Но дни шли, и здоровье императора вроде бы стало налаживаться, а уж надолго ли — бог весть.
Представился Иоанн, прозванием Осман, старец добрый, в старости мастите; жив по закону божью, не хужий бе первых праведник, от него же и аз иные словеса о князи Святозаре слыша и вписах в летописании сем.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 годаИздание Российской академии наук. СПб., 1760
Разумеется, любому человеку, мало-мальски разбирающемуся в истории, понятно, что весь этот рассказ о героическом поступке князя Святозара шит белыми нитками. Какой-то священник, уцелевший после взрыва крепости, но потерявший память, внезапно смотрит на сына Святозара и якобы все вспоминает, но тут же умирает, едва успев рассказать о героизме младшего сына императора.
Здесь столько несуразностей и натянутостей, что только легковерный человек вроде моих белгородских и санкт-петербургских коллег слепо поверит в эту придумку, больше напоминающую плохонький исторический романчик.
Впрочем, отмечу, что с задачей обелить Святозара послушные царю летописцы справились достаточно успешно, а вот высшее духовенство, по всей видимости, воспротивилось этой заведомой лжи, в которую для достоверности попытались включить одного из священников. Не потому ли и слег император, что встретил упорное сопротивление своему замыслу?
Не берусь утверждать это наверняка, однако все подтверждает мой вывод. Даже в своей семье Константин нашел поддержку далеко не у всех. Причем противодействие было столь упорным, что стало причиной затяжного конфликта, если не сказать больше, который в дальнейшем в изрядной степени ослабил Русь.
Албул О. А. Наиболее полная история российской государственности.Т. 3, с. 304. СПб., 1830
Глава 22
Право на «приговор»
Мария Семенова
- Спи, родной, сомкни ресницы,
- Кончен грозный счет.
- Перевернуты страницы,
- Дальше жизнь течет.
- Что-то мы с тобой свершили,
- Что-то — не смогли…
- Спи, родной, раскинув крылья,
- На груди земли.
В главной зале императорского дворца, где за огромным вытянутым столом, размещенным строго по центру, должно было состояться очередное заседание государева совета, постепенно скапливалось напряжение — Константин Владимирович запаздывал.
«Уж не случилось ли чего, — полз по залу опасливый шепот. — Раньше за ним такого никогда не водилось», — и все тревожно поглядывали на часы — последнюю новинку, созданную Михал Юрьичем и неким арапом, прибывшим из далекого Багдада.
Звали арапа Нур-ад-дином, но русичи живенько переиначили это сложное и неудобопроизносимое прозвище. Был Нур-ад-дин, а стал Нуда Дивович. А что? Подходит как нельзя лучше. Нуда ведь неволю означает, а диво тоже в строку. Больно уж ловок чужеземец до всякой чудной невидальщины. Глянешь и подивишься.
Взять хоть те же часы. Вон они, стоят в углу. Огромные, один циферблат в два аршина, с арапской же цифирью по кругу. Хотя какая она там арапская — давно уже русская. А на самом верху небольшая дырка. Каждое утро особый человек, специально обученный и приставленный к ним, вставляет в эту дыру большой ключ и делает ровно двенадцать оборотов — заводит, стало быть.
Диво еще и в том, что и стрелки и цифирь у этих часов светятся. И сам свет какой-то холодный, зеленоватый, бр-р-р. Злые языки поначалу поговаривали, что здесь не обошлось без нечистой силы, что басурманин, кой их сотворил, наверняка с бесами дружбу водит. Свечение же колдовское исходит из глаз черта, который в них вселился, а ныне, после того, как их освятил патриарх Мефодий, не имеет силы вырваться, потому и злобствует, бельмами своими зыркая.
Но ближайшие сподвижники императора, да и весь народ, были твердо уверены в том, что свечение исходит от той святости, кою пролил на них владыка во время свершения обряда. Поэтому часы за все пять лет еще ни разу не останавливались, за исключением одного раза о прошлом годе, когда Мефодий I покинул сей бренный мир. Да и то разбиравшийся с ними Нуда Дивович так и не сыскал поломки, а после того, как качнул маятник, они пошли опять как ни в чем не бывало.
Вот и сейчас, представляя собой разительную противоположность тревожному настроению собравшихся в зале, они невозмутимо и хладнокровно отсчитывали минуту за минутой, неопровержимо свидетельствуя, что опоздание императора затянулось уже на полчаса. Опасения между тем нарастали.
К тому же многие члены совета знали, что вчера у постели государя собрались, почитай, все лучшие лекари. Был там и Арни из Вильно, и Михайло Большой из Галича, и его младший брат Петро Малый из Ростова, словом, все именитые выученики Добро-гневы Будиславовны и Мойши Абрамовича. После осмотра императора лекари уединились в комнате, смежной с опочивальней, где провели часа два — все судили да рядили. Что уж там они после поведали государю — никто из слуг не услыхал, но выходили они из дворца озабоченные и невеселые.
Тревогу усугубляла и непривычная угрюмость левой руки императора Николая Валериановича Панина, который, невзирая на свое прозвище Торопыга, ныне никуда не поспешал, а молча сидел на своем почетном месте и, ни на кого не глядючи, думку думал. Какую? А ты поди да сам спроси. Не желаешь? То-то. Да он все одно не скажет.
На первый взгляд Торопыга вроде был спокоен, но если присмотреться повнимательнее к нервно подрагивающим пальцам, безостановочно скользившим по краю именного серебряного кубка, о-о-о, тут многое можно предположить, в том числе и самое страшное. Нет, о том говорить не будем — известно ведь, стоит вслух о беде сказать, как она мигом на зов заявится.
Ни с кем не заговаривал и его брат Алексий. Если кто к нему и обращался, то он отвечал односложно и таким тоном, что у вопрошавшего мигом отпадала охота продолжать разговор.
К тому же отсутствовал и верховный воевода князь Вячеслав Михайлович — правая рука императора, который поутру был в тереме, как некоторые ревнители старины величали императорский дворец, но потом где-то затерялся.
И ведь не было не только единственного человека, которого властитель Руси — неслыханное раньше дело — за величайшие заслуги одарил княжеским титулом. Отсутствовал в просторной зале и еще один, которого за глаза, а придворные льстецы подчас и в глаза, говоря между собой в его присутствии, да так, чтобы он слышал, называли Константином Вторым. И тут неясно. Было доподлинно известно, что старший правнук императора и наследник его престола находится во дворце, но почему его до сих пор здесь нет — неведомо.
Зато меж собравшимися сидел редкий гость — Осман Эрторгулович, который две недели назад зачем-то прибыл из своих степей, да так и остался гостить у Константина Владимировича. Он не был членом совета, но присутствовал. Очевидно, был приглашен.
Рядом с ним тихо сидел еще один человек, ликом почти мальчишка. О нем и вовсе разговор особый. Хоть он и был внуком императора, но — как бы это повежливее сказать? — с родителями у парня оказия, а ежели впрямую молвить — вовсе худо.
Мать из какого-то селища родом, дочка смерда простого. Но это еще куда ни шло. Таких в зале и без него немало, почитай, поболе половины. Но вот батюшка его хоть и князь, да такой, что… Словом, Святозаров отпрыск это. Да-да, того самого Святозара, о котором и вспоминать-то негоже.
Конечно, сын за отца не в ответе. Об этом и сам государь не раз говорил. Но народная молва по-своему судит. «Яблочко от яблоньки…» — шептали люди. Святозар-то князь тоже и ликом был пригож, и удал, и умишком господь одарил, не обидел, ан вон что учудил. Потому, когда на Истислава указывали, то на вопрос: «А чей сынок-то?» — чаще отвечали, поминая не отца, а мать — Миленин он.
Почто его ныне сам государь сюда призвал — неведомо, а Истислава спросить — так, может, он и сам того не знает. По виду же его и вовсе ничего не поймешь — сидит скромно, глаза долу потуплены, в смущении, стало быть, пребывает. Чай редко ему доводится в тереме у деда бывать. Хотя нет, совсем недавно, когда государь занедужил, встречали его в нем, но одно дело — болезного Константина Воло-димеровича навестить, яко родича своего, и совсем иное — в зале этой очутиться.
Так это что ж получается? Никак снял остуду со своего сердца на непутевого сына наш государь? К чему бы оно? Говорят, что человек перед своим смертным часом… Неужто и впрямь все так худо?! Ох, не дай господь!
Ну да хватит о том, потому как наконец-то появился престолонаследник Константин Николич, да не один, а вместе с патриархом. Вот только вышли они не из тех дверей, через которые обычно сюда проходят, а из других, что с верхних покоев императора в залу ведет. Хорошо, если духовный владыка всея Руси причастил Константина Владимировича, а ну как соборовал?[171] И как тут не тревожиться, скажите на милость?!
Да и ступает патриарх тяжело, точь-в-точь как почивший в бозе владыка Мефодий. Но тому восемь десятков было — годы, а этот молодой еще. Не зря в народе говорят, что иная беда тяжелее прожитых лет к земле давит. Беда же у него ныне только одна может быть. Вот и думай тут, терзайся в догадках.
Да мало того. Вопреки обыкновению, Иоанн занял не свое скромное кресло в середине всех прочих, кое облюбовал себе еще три десятка лет назад владыка Мефодий, а прошел гораздо далее, к тронному. Чуть постояв близ него в нерешительности, он властно поднял руку, призывая всех присутствующих к вниманию. Такого тоже никогда не бывало ранее. Да и жестом этим пользовался только сам император.
В наступившей тишине Иоанн I негромко произнес:
— Государь ныне занемог, однако обещал сойти позднее, повелев начинать без него. Пока же его нет, править делами заповедал своему наследнику Константину Николаичу, — и патриарх указал царевичу на пустующее кресло императора.
Тот несколько помедлил, но затем, словно решившись, как-то неловко, боком, протиснулся и даже не уселся, а скорее плюхнулся в него. В иное время это вызвало бы сдержанные улыбки недоброжелателей, искусно прячущиеся в усах и бороде, но только не теперь. Какая разница, как он сел, гораздо важнее — куда.
И до этого дня в последние годы бывало, что в случаях, когда государь отсутствовал, его правнук, а иногда внук Вячеслав вели совет, но никогда еще они не занимали императорского кресла с высоким подголовником, украшенным причудливой резьбой. Кресло стояло на небольшом возвышении, и сверкающий золотом герб на подголовнике указывал, что сесть на него вправе только сам властитель всея Руси.
Значит, не просто занемог император. Значит — пришло его время. Да и то взять — сколь лет уже он сидит на престоле — как бы не четыре десятка. Хотя точно. Ежели подсчитать, то так оно и выходит — с зимы одна тысяча двести двадцать второго года и по нынешнюю, что уже миновала. Эх, годы, годы. Когда вы успели пролететь белокрылыми птицами и куда?
И чуть ли не все сидящие за длинным дубовым столом посмотрели на царевича совсем другими глазами. Если раньше, когда он вел совет, несогласные в чем-либо успокаивали себя мыслью, что вот вернется государь, выслушает, поймет и переиначит, то теперь надо думать о том, как жить именно с этим, который сейчас так неловко уселся на престол, потому что другого уже не будет.
Страшно-то как, господи…
«С другой стороны взять, — размышляли многие из сидящих, — ежели самим выбирать, так изо всех наследников, пожалуй, лучшего и не сыскать. Возрастом разве что не вышел. Двадцать три годка для правителя такой державы — маловато будет… Не погорячился ли Константин Володимерович со своим выбором? Все-таки в этом царевич своему стрыю Вячеславу уступает, и сильно уступает. Да и не только ему одному, но и прочим Святославичам.
В ином же брать — тут все без изъяна. И ликом пригож, и телом статен, невысок, но кряжист, а что смуглый — не иначе как порода булгарская дала себя знать — так и то не беда. Зато нравом господь не обидел, наделив и вежеством и рассудительностью, коей он еще с младых лет отличался.
Да и отец его не кто иной, как Николай Святославич, погибший двадцать два года назад мученической смертью. То есть и здесь все у него ладно. По матери же он — внук самого хана Абдуллы, верного союзника Руси.
Некоторые пальцем тыкали, мол, неспешен Константин Николаевич на решения. Это и впрямь за ним водится. Но и тут как поглядеть. Такой великой державой править — не семь раз все отмерить надобно, как в народе говорят, а семижды семь. Нет уж, пусть взвешивает да перевешивает по десять раз, нежели наобум поступать, как вожжа под хвост попадет. Чай, за каждым указом живые люди стоят.
Еще говорят, что скуповат правнук. Тут он, пожалуй, и государя переплюнет. Хотя и тут как посмотреть. Эта палка тоже о двух концах. Для державного дела он и своего добра не жалеет. Когда три года назад у степняков падеж скота начался, так он им изрядно подсобил. Вон, того же Османа Эрторгу-ловича спросить, так он расскажет, как Константин целые табуны у соседних кочевых народцев скупал, серебра не жалея.
Понятное дело, что на монастыри да храмы столь щедро, как это его дед Святослав делал, внучок жертвовать не станет. Но от того убыток лишь патриарху да церкви. Так что, может, оно и хорошо, что скуповат, — не пустит добро по ветру.
Опять же до купцов всегда интерес имеет — как, да что, да где, да почем. Вон, даже отдельных писцов завел, дабы они за каждым, кто из дальних стран прибыл, все их байки старательно записывали. И труд их втуне не пропадает — читает царевич эти записи, а иные и не по разу.
Скуповат же он не только на казну, но и на доверие. Сам, всегда и всюду только сам. Совета ни у кого не спросит. Разве что у князя Вячеслава Михайловича, но тут сам бог велел, да еще у Торопыги, Любомира и Евпатия Коловрата, самых ближних из дедова окружения, кои его еще князем Рязанским помнят.
Опять же ровен Николаич к людям, любимчиков у сердца не держит, да и со льстецами суров. Поначалу иные мыслили, что удастся к нему с помощью медоточивых слов в доверие втереться. Слушал-то он их внимательно, не перебивал, не обрывал, пусть не улыбался, но щеки-то розовели. А те и рады стараться — заливались, как соловьи в мае.
Потом же, через полгода-год, раз — и нет их в стольной Рязани. По государеву указу один в глухую крепостцу на западный рубеж подался, второй на север, поближе к вековечным снегам, а третий — то ли в Димитров, то ли в Москву, то ли в Зарайск, но тоже радости мало. Из этакой глухомани навряд когда-нибудь удастся вырваться, если ты не семи пядей во лбу.
Но и тут люди подмечали, что уезжали этаким манером лишь те, кто кроме сладких речей ничего иного и не умел. Тех же, что посмышленее, царевич этой отправкой предупредил — дело делай, а со словесами пустыми не лезь.
Словом, если выбирать из всех прочих, то он, пожалуй, и впрямь получше прочих будет. Если бы не возраст. К тому же у Николаича родных дядьев из-лиха, и все они гораздо постарше. О них тоже забывать не след. Святославичи сызмальства к власти тянутся, и не к малой, которой их дед понемногу наделил. Им большую подавай.
К тому же у них за спиной Болгария. Названия-то созвучны, а места разные. Булгары на Волге, а болгары — на Дунае. Волжане аллаху молятся, а дунайские — православные. И второй корень всех Святославичей, не считая покойного Николая, родителя Константина, именно там. Они ведь тоже, как и покойный болгарский царь Михаил I, на одну половинку Рюриковичи, а на другую — Асени и внуками сразу двум государям доводятся.
Так что есть кому их поддержать. Не войной пойти — где такой безумец сыщется, который длань на Русь поднять осмелится. А вот каверзой какой подсобить или, скажем, серебром — это да.
Опять же прямой резон у болгар имеется. Если Святославичи на великий престол в Рязани не сядут — тогда их собственный непременно в опасности окажется, потому как чтобы дядьев удоволить, сам Константин примется подсоблять им, тем более что и основания к тому есть. Если Святославичи — прямые внуки Иоанна, то Константин Тих, который ныне в Болгарии правит, лишь величает себя Асенем, а разобраться — у него прав-то на престол гораздо меньше, чем у того же Вячеслава.
У самого же Константина таких сильных союзников нет. Его родичи в Волжской Булгарии, ныне сами меж собой перегрызлись. Им самим бы кто помог. Кстати, по слухам, вроде как самый старший из Святославичей — тридцатитрехлетний Вячеслав — год назад и заварил у булгар ту кашу, коя доселе кровавыми пузырями исходит.
Для чего? Да тут и дите разберется. На кого, если что, постарается опереться Константин Николаич? Да на своих братанов[172] по матери. Вот и упредил это старший Святославич. Пусть, мол, они свою силушку промеж себя растратят, чтоб подсобить Константину нечем было. А если сами себе глотки порвут — еще лучше. Тогда можно было бы императору предложить воспользоваться случаем и подсадить на ханское кресло Константина, избавившись таким образом от самого опасного претендента.
Кто знает, может, оно и впрямь лучше стало бы для Руси, если бы Булгария в нее влилась. Но уж больно нехороший способ для этого избрал Вячеслав Святославич. Тот же Константин гораздо умнее бы действовал. Медленнее — это да, но зато продуманнее и расчетливее. Да и крови такой он тоже не допустил бы. Не потому, что родичи там у него, а просто не по нему такие способы. Ему иные любы. Завет прадеда, что люди — не сорная трава в поле, он хорошо усвоил, а вот Вячеслав, видать, его запамятовал.
Но господь с ней, с Булгарией. Невелика птица. Да и Русь опять-таки не дозволит, чтоб раздрай в ней в ужас превратился. Авось подсобит по-суседски. Гораздо хуже, что Вячеслав свой завидущий глаз на дедов престол положил. Ведь что удумал стервец — слух пустил, что если по здравому разумению судить да по божьей правде, то трон за ним должен быть.
Дескать, сам дед Константин не раз повторял — от отца к сыну, и точка. Тогда и впрямь получается, что от сына Святослава к внуку Николаю, а ежели он погиб безвременно, сложив голову за святую Русь, то не к его старшему сынишке, а ко второму Святославичу. Отсюда среди набольших людей и сомнения. Может, и в самом деле так вернее?
Опять-таки ежели лествицу древнюю взять, то они в своем праве — негоже братаничу поперед своих стрыев лезть. Вон, в иных селищах стрыю почет аки отцу родному, а тут. Как-то оно негоже выходит, ведь он для Святославичей сыновец лишь.
Вслух такое, конечно, никто не скажет, но шепоток ходит. Неведомо, кто его распускает — то ли сам Вячеслав, то ли его женушка, не в меру бойкая на язык. Привыкла бабенка у себя на Угорщине ко всяким вольностям, вот и настраивает муженька. Да и не важно, кто именно. Тут за другое опаска. Кто бы ни распускал, а все одно — нехорошо это. В той же Булгарии поначалу люди тоже лишь шептались, а уж потом, когда вовремя не пресекли, за сабли схватились.
Да и у других соседей Руси не все слава богу. У ляхов вообще творится не пойми что, да и в Византии тоже тревожно. Не к добру Палеологи кучкуются близ престола Ласкарисов. Горят от близости к императорскому трону глаза у главы рода — Михаила. Недобро горят, по-волчьи. А на престоле сидит даже не юнец, а вовсе дите. Одно название, что император Византии.
Титул пышный, что и говорить, только если бы не было у него за спиной матушки-регентши Анастасии Константиновны — старшей дочки государя Руси, да не подпирала ее трон двухтысячная уже русская дружина, давно нашлись бы люди, которые спихнули бы с престола внучка славного Иоанна III Ватациса. Ей-ей, спихнули бы.
Опять же и в Великой Орде неладно, а ведь и она рядышком. Вот тоже наделил господь соседями! Видать, сильно осерчал он в тот день на православную державу. Таких, как они, на Руси испокон веков, не мудрствуя лукаво, татями шатучими величали. Да, да, именно так. А как иначе, когда их правители все время норовят собрать урожай там, где не сеяли? Диво еще, что они вообще друг дружку с голодухи не сожрали, после того как подъели награбленное ранее.
Правда, Гуюк вежество к Руси соблюдал. Тать, он ведь как — кто ему с носа кровавую юшку пустил, к тому и он со всем своим почтением, а Гуюку русичи такую трепку учинили, что до конца дней должна помниться. Он и помнил. Жаль только, что конец этот скоро пришел.
Впрочем, его сынам и братьям все едино не до северных соседей — который год наследство делят. Что ни лето, то один осильнеет, то другой, и все лупцуют друг дружку почем зря, а в замирье сойтись не выходит. За это им государя Руси «благодарить» надобно. Его трудами руда там как вода льется.
Может, конечно, он и не по-христиански поступает, но Константин Володимерович не священник, не монах, а в жизни мыслит не о святости, а о том, дабы своему прозвищу соответствовать. Уж больно оно высокое, вот и налагает. Раз тебя народ окрестил Божьим Заступником, стало быть, ты при нужде и согрешить должен, а Русь от раззора уберечь.
И кому тут больше чести и почета? Тому, кто молится в тихой келье, приобщаясь к святости, или тому, кто за родную землю тяжкий грех смертоубийства принять на себя готов? Ведь то, что там творится, — его рук дело.
А не разжигал бы он среди них злобу друг на дружку, и что получилось бы? Вон всего два лета назад потомство Угедея и Чагатая сошлось в схватке с детьми Тули. До десятка туменов с каждой стороны саблями лупцевались, если не поболе. А теперь спроси, на кого бы они эти востры сабельки устремили, если бы не государь? Вот-вот, любому понятно, что на Русь.
Словом, правильно он делает, что стравливает их, как бешеных псов. Может, оно и не по-божески, а все равно правильно. Пока волчья стая своих рвет, овцы целы будут. Авось и Константин Николаич согрешить не побоится, не побрезгует свои длани в басурманской крови изгваздать.
Ага, а вот и подтверждение тому.
— Я так мыслю, что надобно нам два посольства учинить. Того, кто одолел, с победой поздравить, а того, кто раны зализывает, — в печали успокоить. Ни к чему нам от побитого лик воротить, ибо завтрашний день никому не ведом. Лишь господь знает, что он сулит, — неторопливо произнес царевич. — Что же до императрицы Анастасии Константиновны, коей и впрямь несладко приходится, то три тысячи воев, что она просит, мы ей не дадим. И одной хватить должно, да и то на ближайший год, не более. Ромеев, жадных до власти, русскими мечами да копьями все равно долго не сдержать — их отодвигать от престола надобно, чтоб как ни тужились, а все равно не допрыгнули. Посему лучше заместо недостающих тысяч пошлем ей десятка два-три иных. Они хошь и без оружия будут, но пользы ей принесут поболе. У Зворыки много учеников, так что Русь не обеднеет. Ну и бояре Коловрат с Николаем Валериановичем озаботятся. Их люди дочери нашего государя тож сгодятся. И мешкать с этим негоже. Чрез седмицу надо бы всех и отправить.
Тут царевич повернулся к вышеупомянутым, которые немедленно привстали и вежливо склонили головы в знак того, что все поняли.
— Теперь о Волжской Булгарии. Туда тоже надобно посольство снарядить. Негоже, чтоб самая ближняя суседка Руси в межусобьях захлебывалась. К тому же неспокойно ныне в нашем порубежье, так что сопроводить оное посольство надобно достойно, чтоб обидеть его никто и помыслить не мог. Потому придать им не обычную полусотню воев, а пять сотен. Главой же посольства надлежит быть моему стрыю Михаqле Святославичу.
После этих слов некоторые не сдержались — загудели, зашептались одобрительно:
— Истинно решил.
— Мудро, мудро.
— А ведь Вячеславу и крыть нечем, ежели что — чай, брат родной, — донеслось до ушей Константина, и легкая, почти неприметная улыбка скользнула по его губам.
Вот только была она с неприметной горчинкой. Да и как ей не быть, когда это решение лишь наполовину принадлежало ему, а на другую — про главу посольства — государю. Именно с ним он советовался буквально за полчаса до того, как выйти к остальным и сесть в это громоздкое золоченое кресло.
Тут-то и кроется закавыка с той самой горчинкой. Сам царевич решил поначалу все иначе — как с Византией, так и с булгарами, лишь в ходе беседы поменяв свою точку зрения на ту, к которой его подвел государь. Надо отдать ему должное — подводил не спеша и весьма деликатно, хотя и настойчиво.
Более того, даже выходя из императорских покоев, наследник не был до конца уверен в том, что именно так и надо поступить. Если бы не дозволение решать все по-своему, то как знать, что бы он произнес сейчас — свое или… не совсем свое. Но дед этим дозволением не освободил, а напротив — связал ему руки. Когда тебе уступают и в ответ хочется сотворить то же самое. Вот и…
И только теперь, слыша одобрительный шепоток, царевич понял, что государь и тут оказался прав.
Ну а теперь должен выйти и он сам, чтобы сказать о главном, о том, что не иуда его сын Святозар, но — истинный богатырь. Что пал он, положив несметное количество ворогов, смертию смерть поправ.
Не из-за кого-нибудь, а из-за Святозара молчали пушки, кои Бату для острастки позади своих туменов выставил. Благодаря ему не разметали они в клочья дружинников, шедших на решающий удар, отчего он и получился столь могучим. Так что Истислав может только гордиться таким отцом.
Но где же государь?!
Тут поднялся со своего места и Вячеслав Святославич. Хитер стрый. О том, что его брата — опору и подмогу посылают в Булгарию, не сказал ни слова. Об ином речь повел.
— Почто сын израдца за одним столом со мной сидит?! — грянул он. — Кто ты такой, царевич, чтоб собственной волей — ибо гласа государя я не слыхал — Истислава Иудовича вместях с самыми лучшими и именитыми мужами Руси равняти?! Кто как, а я того терпеть не желаю!
Взглядом же, горящим ненавистью к удачливому сопернику и устремленным прямо на своего братанича, он произнес: «А в первую очередь я тебя зрить не могу, да еще в этом кресле!»
Теперь получалось, что и откладывать нельзя, и дождаться государя не получится. Ах, дед, дед! Ну что ж ты занемог так некстати?!
Тут поднялся Осман Эрторгулович. Его рука явно искала саблю на боку, которой, слава богу, у него не было — не дозволено сюда с оружием заходить.
— Святозар Константинович — мой крестный отец, — негромко, чтобы не сорваться в крик, процедил Осман сквозь зубы. — Стало быть, его сын — мой брат от бога. У нас в роду не принято прощать оскорбления, наносимые братьям.
— Даже если у них такие отцы?! — насмешливо выкрикнул Вячеслав.
Трудно сказать, что, а главное, как ответил бы Осман. Может, сумел бы себя сдержать, а может, и нет.
Но Константин Николаич успел.
— Оба сядьте! Негоже за этим столом свары устраивать! — рявкнул он грозно.
В голосе металл прозвенел, да какой — куда там пушкам. Покрепче будет. Чистая сталь. Такой глас ослушаться — себе дороже. Но Вячеслав ослушался, оставаясь на ногах. Николаич же будто и не увидел, что его повеление не выполнено. Знал — начнет настаивать, так оно еще хуже выйдет. Лучше не обращать внимания.
— Что же до гостя, кой здесь сидит, то поведаю по твоей просьбе, Вячеслав Святославич, про отца его. Сразу скажу — горжусь тем, что у меня такой богатырь в родичах был!
Тут же косой взгляд в сторону бросил и заметил, как вздрогнул Истислав и вспыхнул румянец на его щеках.
«Вот и еще один союзник у меня появился, — подумал Константин и похвалил себя. — Вот мне и награда за то, что я за дедову спину хорониться не стал. Сам-то Истислав никто, но за его спиной Осман маячит, а это без малого четыре тысячи сабель, да каких звонких — заслушаешься».
Вслух же продолжил:
— Много сказывать не стану — о том более приличествует государю говорить — как да что было. Я лишь об одном упомяну — никто столь великое число ворогов Руси в геенну огненну не отправил, сколь Святозар Константинович.
— А Русь продал! — хлестнул, как булатным клинком, Вячеслав.
— За Русь он живота своего не пожалел, — отбил удар Константин. — И ты, братан мой, князь Истислав, можешь гордиться своим батюшкой.
В наступившей тишине неестественно громко прозвучал удар Вячеслава Николаевича кулаком по столу. Хорошо, что тот оказался крепок и выдержал. Из доброго дуба столяры мастерили столешницу, словно чуяли, что кое-кто, срывая злость, будет испытывать ее на прочность.
— Негоже тебе тут кулаками сучить. Не место, — с укоризной и явной иронией в голосе произнес Константин, вовремя вспомнив мудрые слова государя: «Кто первый из себя выйдет — тот и проиграл. А уколоть врага лучше всего насмешкой. От нее глупый человек обязательно взбесится».
И точно. Получилось. Да как славно-то. Не улыбки — смешок среди сидящих пронесся. Негромким он был, но Вячеславу и такого хватило.
— На все твоя воля, покамест государь болен, — процедил он, уже поворачиваясь к выходу.
«Остановить? — подумал Константин. — А вдруг не послушается? Тогда урон нешуточный. Нет уж, пусть идет. Но и совсем смолчать нельзя. Государев совет — не посиделки в селище. Тут спуску давать нельзя. Пусть идет, только… не по своему желанию, а по моему».
— Иди, иди! — подтолкнул он Вячеслава, который и без того был уже возле двери. — Я дозволяю. Остынь малость. Оно тебе на пользу, — и довольно улыбнулся.
Кажись, хоть тут управился. Пускай на время, ну да ладно. И Рязань не сразу строилась. Хотел было сесть, но подспудное чувство чего-то недоделанного мешало.
«Ах, да! — вспомнилось ему. — Я же еще не приговорил. Уж больно оно непривычно, вот и позабыл. Что ж…»
Он еще раз обвел внимательным взглядом всех присутствующих и произнес:
— На сем… приговариваю.
В гриднице и без того было тихо — пусть не государь, но его наследник слово держит, но тут и вовсе все замерли. Не было такого раньше. Никогда не было. Решение — да, царевич принимал, когда император отсутствовал, но оно никогда не являлось окончательным и вступало в силу только после одобрения государя.
Как правило, это было формальностью. Суть дела всегда оставалась без изменений, хотя случалось, что кое-какие детали это решение либо дополняли, либо наоборот — исчезали.
Но тут гораздо важнее иное. Какое бы мудрое решение наследник ни принял, все равно окончательный «приговор» всегда не за ним — за императором. Ныне же…
— А по какому праву он так вот?!
— Это что же он себе позволяет?!
— Как у него язык-то повернулся?!
— Да как он осмелился?!
— Это ему не в императорском креслице сиживать?!
Перешептывания становились все громче и громче. Услышит их царевич или нет, недовольным членам совета было все равно.
Константин растерялся. И что теперь ему делать? А дед, который твердо обещал сойти с постели и выйти к своему совету сразу после того, как правнук произнесет сакральное слово, все медлил и медлил с появлением.
Владыка Иоанн тоже забеспокоился. Напряглись руки, сжатые в кулаки, у главы тайной службы его императорского величества, хотя и он не торопился принимать радикальные меры. Да и против кого? В зале-то — тут ушедший Вячеслав правильно сказал — лучшие из лучших сидят, такие же верные соратники государя, как и он сам.
А гул все ширился, пока не прорвался вопросом, что называется, в лоб. Задал его один, но кому непонятно, что от лица всех присутствующих:
— Решил ты мудро, Константин Николаич. Тут из нас, пожалуй, мало кто до такого додумался бы. Мыслю я, что и сам государь император одобрил бы твои слова, если бы здесь сидел. Но сдается мне, что приговаривать покамест токмо в его воле, а не в твоей.
Царевич хорошо знал говорившего. Было их два брата Афониных, и оба они у прадеда в чести. Старшего, Вячеслава, крестил по просьбе их отца, знаменитого лучника, сам великий воевода, не долго думая назвав, как и себя, Вячеславом. К тому времени многие славянские имена уже присутствовали в святцах, так что с этим вопросов не возникло. Младшего же, того, который сейчас говорил, сам государь нарек Владимиром в честь своего отца.
В совет братья вошли не за отцовские заслуги. Таких в зале вообще не было. Ни одного. Просто так уж вышло, что оба оказались башковитыми, имели не только меткий глаз, твердую руку и верное сердце, но и кое-что в головах, а потому вылезли наверх честно, начав с самых низов.
И это еще очень хорошо, что слово взял именно один из них. Во-первых, оба не любили пустых речей, а если уж брались высказываться, то загодя обдумывали каждое словцо, дабы кого-то невзначай не обидеть. Оно и правильно. Императорский совет — не бранное поле, ворогов на нем нет. Все об общем благе радеют, разве что по-разному о нем мыслят. Так что тут рубить с плеча негоже. Тут каждое словцо-стрела должно точно в цель уходить, как на стрельбах из лука. Словом, своей взвешенностью и неторопливостью в чем-то они на наследника престола походили.
Вячеслава Константин знал хуже, а вот Владимира — куда как хорошо. Азы ратной науки — и это во-вторых — Константин Николаич проходил именно под началом младшего из сыновей — ныне изрядно поседевшего, да и вообще выглядевшего гораздо старше своих лет, Владимира, который как раз и держал сейчас речь.
— Ты — мой крестник. Тебе и доверие особое, — сказал тогда государь. — Верю, что в надежные руки своего правнука отдаю.
Тогда в первый раз на глазах Владимира выступили слезы — уж больно велико доверие, что оказал император. Клятвенно заверив, что не подведет, он и впрямь сделал из Константина воина с большой буквы. И если правнук мог кому-то уступить в поединке на мечах или саблях, хотя таких по пальцам перечесть, да еще незагнутые останутся, то во всем прочем, особенно стрельбе, равных юному Рюриковичу не находилось.
И как ни хмурился государь, пряча довольную улыбку подальше в бороду, но на одном из ежегодных игрищ два года назад пришлось ему вручить «Золотую стрелу» как самому лучшему, именно Константину Николаичу, а тот, после недолгих колебаний — жалко же — отнес ее Владимиру. Правда, учитель наотрез отказался ее брать.
— Но ты же из-за меня участия в игрищах не принимал, — веско заметил ученик. — А принял бы, тогда…
— А что тогда? — резко перебил его Владимир. — Одному богу ведомо, что тогда. Может, одолел бы я тебя, а может — наоборот. Так что неча тут о пустом. Твоя она по праву.
— Но ты же мой учитель, — не сдавался Константин.
— Ну так и что, — насмешливо хмыкнул тот. — Запомни, что как бы ни был хорош учитель, но если плох ученик, то толку все равно не будет. И еще одно — хорошего учителя найти и впрямь нелегко, но хорошего ученика — еще тяжельше. И нет пущей радости для наставника, когда он видит, что его выученик стал первым. Так ты что же, вознамерился лишить меня этой радости, — и улыбнулся, видя обескураженное лицо царевича. — Мне и так государь великую честь оказал, когда тебя доверил. За такое не то что золотую стрелу — голову положить не жалко. Ныне же зрю я, что доверие оправдал сполна, а оно — сама по себе награда не из малых. И уж поболе весом, нежели твоя стрела.
Да и ни к чему она мне — лежат цельных три в тереме, а господь он что? — И сам же ответил: — Правильно, троицу любит. Так что четвертая вроде бы лишняя выходит.
Он и сейчас говорил по-доброму, не кричал возмущенно: «Как так?! Да по какому праву ты осмелился?!»
Он просто спрашивал, да и тон его был весьма дружелюбным. Мол, понимаю я, что не просто так ты это словцо бухнул. Не водится этого за тобой. Тогда растолкуй нам, расскажи то, чего мы еще не знаем, поведай, когда император окончательно бразды правления тебе передал. Оно даже не столько мне знать надобно или брату Вячеславу — мы и так тебе верим — сколь всем прочим.
И все бы хорошо, только что ответить ему — Константин не знал. Да и не готов он был к такому вопросу. Знал, что зададут, но отвечать на него не он должен был.
«Где же ты, дедуня милый?!» — мысленно взвыл он, внезапно ощутив себя, как тогда, чуть ли не двадцать лет назад, когда его впервые усадили на лошадь. Да, да, в точности таким же маленьким и беспомощным, отчаянно цепляющимся за надежные дедовы руки, чтоб не свалиться, а оно непременно должно было произойти, если эти руки его отпустят.
На самом деле кобылка была самая что ни на есть смирнехонькая, да и шла она так медленно, что и старец за ней угнался бы, но все равно страшно.
Лишь когда дед, нахмурив брови, еще раз повторил: «Отпусти сейчас же. На тебя люди смотрят. Вспомни, что ты — князь!» — он все-таки разжал пальцы.
Сам.
Добровольно.
Вот только ныне ни требовательного шепота, ни самого деда рядом, и что делать — неведомо.
А рядом тоже молчат — и Торопыга, и владыка Иоанн. Молчат и ждут. Им не до царевича. Они тоже знают — Константин Володимерович обещался выйти после сказанного молодым Константином, и теперь не могли понять, отчего же не вышел. Не водилось такого ранее за государем. Скуп был император на посулы, но если уж давал слово — считай, только смерть от него освободит. Неужто и впрямь… освободила?!
И вдруг долгожданная дверь распахнулась. Наконец-то! Вот только стоял за ней не государь, а верховный воевода Вячеслав Михайлович, бледный, как льняное полотно. Все оглянулись на него.
Воевода, по-прежнему не говоря ни слова, медленно прошел через всю залу, поднялся на помост, на котором возвышалось кресло властителя всея Руси, и застыл.
— А потому Константин Николаевич ныне приговорил, что кроме него этого на Руси сделать некому, — медленно произнес он, с натугой выговаривая тяжкие горькие слова, будто они и впрямь неподъемные, как те дубовые сваи, с которыми прошлый год так намучились строители, возводя новый мост через Проню. — Ушел государь император. Покинул нас, грешных.
Произнес и неловко стащил с себя шапку, а по щекам его уже катились мутные слезинки, теряясь в глубине седой бороды.
Тяжко слышать, как рыдает дитя, больно смотреть, как захлебывается в безутешном горе вдова. Но видеть, как молча плачет мужчина, и не простой смерд, а верховный воевода всея Руси, который в самые тяжкие минуты жизни не проронил ни слезинки, это… страшно.
Значит — край. Значит, уже нет сил, чтобы сдержаться. Все в жизни поправимо, кроме этой, которая с косой. Один лишь ее взмах, и… осиротела Русь.
И только тут люди, присутствующие в зале, поняли, отчего же стало так непривычно тихо. Да потому что остановились огромные часы. Остановились, как и тогда, когда ушел из жизни патриарх Мефодий. Поник острым носиком маятник, беспомощно застыли на циферблате стрелки, растопыренные в разные стороны, зафиксировав без четверти три. Ну, в точности, будто человек развел руками, беспомощно восклицая: «А я что могу сделать?!» Так и они. Мол, мы даже время остановили, а вот вспять его поворотить, чтоб жизнь вернуть, — увы. Не дано нам этого.
А слезы на глазах уже не у одного воеводы. Вон, хотевший вскочить со своего кресла, да так и не нашедший для этого сил Торопыга кусает губы, чтобы не взвыть в голос, а предательские слезинки текут себе вовсю. Стыдно, но кто сейчас о стыде думает? Да и чего тут стыдиться?
Это Николаю Валериановичу может быть неловко, это ему не по чину, а плачет-то малец Торопыга, которому император, а тогда еще рязанский князь своим заговором жизнь спас. А ведь чародейство да ворожба — грех тяжкий, после него невесть сколько поклонов отбить перед иконами надобно, да еще поститься потом два лета, а он за ради простого парня Николки на себя этот грех взял, от стрел и мечей вражеских оберегая.
А ныне кто на себя, если что, первым беду встретит, кто убережет, кто совет мудрый даст, кто, в конце концов, просто по плечу хлопнет и скажет одобряюще: «Не робей, Торопыга. Не боги горшки обжигали. Мы — рязанские. Мы — прорвемся».
И из широкой груди сдавленно вырвалось:
— Осиротели!!
То не крик был — душа простонала, истекая кровью, потому как это известие не по телу — по ней вострым лезвием полоснуло, а это гораздо больнее, если кто знает. А кто не знает еще — ну и слава богу. Ни к чему оно, ибо нет в том знании ничего, кроме дикой непереносимой боли, от которой не в силах избавить ни один самый ученый лекарь.
Только время, год за годом, потихоньку да полегоньку, глядишь, и срастит ту рану. Но когда это еще будет — уж больно оно неторопливо. Да и то рубец все равно останется. Хотя с ним полегче. Он как телесная рана в дождь, о себе лишь изредка дает знать. Мол, помни, человече, что было.
Было и… прошло.
Навсегда.
Страшное это слово, коль вдуматься. Страшнее многих, потому что оно — безысходное. Может, потому именно к старости человек и обращается к богу. Уж очень ему не хочется вот так вот… навсегда.