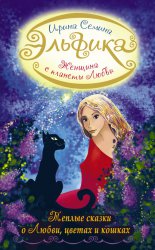Клопы (сборник) Шарыпов Александр

Рассказы
Ночной полет
«На следующей планете жил пьяница».
А. де Сент-Экзюпери
Он любил, когда темно, бывать на всяких крышах и видеть огни улиц, разноцветные окна домов, поэтому, выйдя с хлопушкой на улицу и увидев, что темно, полез на крышу оранжевого «Москвича», который стоял у дверей. Крыша гремела, прогибаясь под его коленями, что было удивительно, и его тащили в разные стороны, и он сказал кому-то в лицо, чтоб его не тащили зря, а шли праздновать свой Новый год, после чего полетел вниз башкой, и его несли в темноту, взяв за штанины и рукава, а вверху виднелись кресты колокольни, и он кричал, что залезет еще на крышу колокольни и ухватится за крест. В темноте ничего не было видно, и он разбил какую-то банку с капустой, ища выход, и вот, почувствовав жгучий холод, посмотрел на свои руки и увидел, что держит обеими руками обледенелые уши большого чугунного креста, и от неожиданности выпустил их из рук, и стал падать, и только открыл рот, чтоб закричать, как встретил спиной твердь. Он ожидал, что еще покатится, что свалился не до конца, что покатится по крыше колокольни и свалится вниз, потом осторожно приподнялся на локтях и увидел носки ботинок, расплывающиеся в темноте, и крест, торчащий из сугроба, покрытый снегом и потому заметный, как снег. В памяти всплыла какая-то лампочка и дверь под ней, в которую он стучал ногой. Да! Где же шапка? – ухватился он за голову. Шапка лежала тут же. Он сел и, дыша, ощутил боль в груди – в той кости, где скрепляются спереди ребра. Это мокрый детина налетел на него плечом, и эта самая кость тогда, наверное, треснула и с тех пор болела, если надышишься холодным воздухом.
– Кладбище, – сказал он вслух, показав пальцем на крест.
Рука, описав дугу, попала в карман и вытащила оттуда горсть квашеной капусты и в ней согнутую в три погибели сгоревшую бенгальскую свечу. С трудом ухватив негнущимися пальцами свечку, он бросил ее прочь, а капусту, понюхав, отправил в рот, а потом, пошарив вокруг себя, опять нашел черную свечку, долго смотрел на нее и сунул обратно в карман, после чего начал вставать, но наступил ногой на пальто снизу и опять упал коленками на лед, просыпав изо рта капусту, и усмехнулся над собой, и нелепая снежинка, летя неизвестно откуда, шлепнулась ему прямо в переносицу.
Встав, он налетел животом на ограду, которую скрывала темнота, и, оттолкнувшись от нее, побрел по дорожке, и остановился, раздумывая, в ту ли сторону идет; посмотрел назад и вперед, но везде была одинаковая темнота со снегом, и тогда он пошел вперед, чтоб делать следы, как на Луне.
– Пустыня, – думал он и говорил вслух то, что думал, роясь в одежде на груди и щупая кость, где скрепляются ребра, – кругом огни и город, троллейбус гудит, а вот… – он поскользнулся и замолчал.
Было слышно, как скребут шершавую корку на льду ноги и где-то гудит троллейбус, разгоняясь.
– Оазис тишины, – сказал он, вытаскивая из-за пазухи руку.
Темные люди сидели, и казалось, что ждут и встанут навстречу, когда он подойдет, но они не вставали, а он едва не упал, зацепившись ногой за неясное скопление веток и бумаг, будто грачиное гнездо, сдунутое ветром. Он посмотрел на ветки, и, медленно перегнувшись, уперся руками в снег, и, глядя еще раз, решил, что это не гнездо, а венок из елки, а бумажные клочки – вместо цветов, и потащил венок изо льда, и венок стал трещать и ломаться и все равно наполовину остался во льду вместе с иголками. Тогда он понес другую половину и водрузил на одинокий крест, на котором ничего не было, но не как венок, а как гнездо, чтоб прилетали и гнездились тут грачи, и вздохнул.
– Грачи, – сказал он и посмотрел на небо, но небо крутнулось вместе с крючьями веток, и он, чтоб не упасть, ухватился за ограду, громыхнув ее составными частями.
– Я был честным человеком, – сказал он, держась за прутья, расплющенные сверху, и потряс ограду, пробуя ее на прочность, и схватился за голову, чтоб потрогать шапку, и пошел дальше, главным образом по дорожке, изредка натыкаясь на барьеры из снега, сделанные безымянным дворником по ту и другую сторону пути.
– Хуже всего, – сказал он, имея в виду, что хуже всего, если у человека нету глаз назади, и обернулся по поводу красных точек, похожих на глаза.
Кто-то большой и черный стоял спиной к нему. Он кинул колючим снегом, осыпался снег. Он стоял, шатаясь, и если б мог, побежал, но не мог бежать, потому что все части тела испытывали какие-то сотрясения от бега. Поэтому стоял, глядя на кресты и ограды, а когда защекотало в горле, кашлянул и опять обернулся, но в другую сторону, и увидел там бледный огонь. Он зажмурился и, вытащив руки из карманов, стал мять и тереть ими лицо, а потом открыл глаза и, когда растаяли розовые фонари, увидел, что огонь все светится. И в голову ему вдруг полезли совсем не страшные мысли.
– Смело, товарищи, в ногу, – сказал он вполголоса и, торопливо шагнув через барьер, устремился к бледному огню.
Он шел, проваливаясь в глубоком снегу, и капризы тяготения норовили уронить его.
– Спокойно, – сказал он, с грохотом налетая на деревянную ограду. И пошел вперед, но вернулся обратно, потому что ограда уцепилась за пальто и не пускала.
– Отдайте, – кричал он, дергая пальто изо всех сил. – Отдайте, дьяволы! А-ат! Духом окреп… – и, выдернув пальто, полетел на деревянный крест и вместе с ним в снег, – в борьбе, – говорил он, пытаясь встать, но, захлебнувшись, кашлянул и опять сел в сугроб и, размотав шарф, стал дышать, глядя в небо.
Потом вытянул шею, ища огонь, а найдя, показал на него пальцем, успокоился и снова стал дышать, глядя в небо и на снег под собой.
– Гниль, – сказал он, дыша, и поддел ногой упавший крест, большой, как заборный столб.
Он воткнул его в сугроб, но тот стукнулся в сугробе о твердь и подскочил, и он понял, что этот крест не от этой могилы, потому что она каменная, а он деревянный. И была дыра под снегом в плите, но в нее пролез только палец.
– Вот, – сказал он всем, вставая и показывая рукой вперед, и пошел, куда показывал рукой, а огонь вдруг мигнул, погас и засветился так же слабо чуть дальше.
Он остановился, но тут же пошел еще быстрей, проваливаясь в ямы, перелезая через бугры и натыкаясь на ограды. Ветка, подцепив сверху шапку, скинула ее в снег, за что он сломал ветку и хотел сломать еще, но не мог подпрыгнуть и достать. И вот когда совсем уже рядом был огонь, он вдруг ступил на твердую поверхность, ударив по ней ногой, и чуть не ткнулся лицом в бледный огонь, но оказалось, что это стекло, под которым смеется кудрявая тетка, а бледный огонь был рядом и везде, где стекла и пластинки. Обернувшись, он увидел, как вдали горит яркий язычок пламени, и, засопев, пошел к этому язычку, и хотел замахать руками, как бабочка, потому что бабочка летит на свет, но одна рука махнула, а в другой оказался крест, который он повалил в снег, и сказал: «Окрепнем», – а может, какой-нибудь другой.
Яркий язычок медленно двигался слева направо и потух, когда ветки воткнулись в шапку. Он с досадой отогнал ветки от головы. Впереди опять стало темно, и он ощутил, как холодно и сыро ногам в ботинках, которые сделаны, чтобы ходить по паркету. Ноги дергались на ходу, он хотел зевнуть, но зубы клацнули друг о друга, и тут опять желтый язычок засветился в темноте, и стал двигаться справа налево, прыгая и рисуя загогулины в такт шагам, и погас, когда нога наткнулась на снеговой барьер.
– Ходит шо швечкой, – сказал он, разевая опять рот, и со всего маху грохнулся наземь, ударившись об лед локтями.
Засвистело в ушах, и что-то плотное сдавило со всех сторон лицо. Он устало вздохнул и закрыл глаза. Хотелось уснуть и проспать до утра и никуда не ходить. Он чувствовал, как горячи веки и тяжелы руки и ноги и зря все это, зря снег и лед, и нужно было лишь одеяло, шершавое сухое одеяло сверху, чтоб темно, и еще чтоб снизу было не так холодно, чтоб не лед, не мокрый холодный лед, а хотя бы доски и половик, и можно было уснуть и проспать до утра. Но был только лед, и костяшки пальцев, замерзнув, заставляли отталкиваться и подниматься, упираясь ладонями под себя, и еще он помнил огонь, который горел вдали и звал. Поднявшись, он сразу пошел.
Перед глазами прыгали мячики, и он таращился, стараясь видеть огонь, и остановился, потому что там стоял кто-то. Мысли мешались в голове. Он не мог вспомнить, зачем и кто там стоит, только сердце стало стучать громче.
И, вытащив руки из карманов, волнуясь, он пошел к сутулому человеку, застывшему у огня, и спросил:
– Что?
Голос его срывался, и сердце стучало как колотушка в барабан. Человек молчал, и он подумал, что это, может быть, не человек, а может, человек, который стоит и мерзнет, но почему он молчит?
– Что? – повторил он громче. – Не спится? – а потом с размаху сел на каменную плиту.
Большое прозрачное пламя металось по всей плите, будто пытаясь оторваться от черного круга и убежать в темноту, и гудело, и хлопало. А плита была раньше красной, но закоптилась и стала черной, и на черных столбах висела крыша из гранита, а у подножья столбов был грязный лед, на котором сидел он, обняв крест, и выглядывал из-за пламени, и звал человека сесть рядом, но человек не шел, и тогда он замолчал.
Пламя успокоилось и стало гореть ровно, еле слышно шипя. Лед или камень щелкал и трескался то тут, то там, и что-то все время сыпалось после щелчка, как песок. Отставив в сторону крест, он задумал снять ботинки, которые сделаны, чтоб ходить по паркету, но тело его и руки двигались слишком резко, и даже голова на шее поворачивалась зачем-то то на один бок, то на другой, а потом взяла и задралась вверх, отчего с головы съехала шапка, и он, чтоб взять шапку, перевернулся на четвереньки, но не удержался и упал вперед, ткнувшись головой в грязный ноздреватый лед, и вспомнил, как, стоя посреди заснеженной улицы, ловил такси с зеленым огоньком, и такси совсем было остановилось, и он начал дергать дверцу, но то ли он дергал не как надо, то ли не ту совсем дверцу, но дверца не открывалась, и такси вдруг заворчало и поехало прочь, и он, не удержавшись, упал прямо на дорогу.
– Эй! – крикнул он, чистя шапку. – Говори чего-нибудь! Новый год! Слышишь или нет? Молчать нельзя!
Серые от высохшей слякоти ботинки он поставил слева и справа от себя и вытянул ноги к огню, с трудом шевеля закоченевшими пальцами.
– Только не молчи. Стихи читай!.. Песни пой! – глядя на синюю нитку, торчащую из носка, он потянулся и оторвал эту нитку, и, обняв пальцы ног, принялся сжимать их, стараясь согреть, и тут пламя прыгнуло к нему, обдав кислым газом; он отпрянул, упав на локти, и пламя опять притихло.
– Иль села обходи с медведем, – пробормотал он, шевеля пальцами ног, и вдруг услышал чей-то далекий голос.
Он прислушался, и ему почудилось, что выпившие девушки идут вдалеке и хохочут друг над дружкой, и он, торопливо натянув ботинки, полез на четвереньках и спрятался за столб. Потом поднялся и взял с собой крест. Он стоял, слушая и улыбаясь, с открытым ртом, и сердце опять стучало громко, заглушая все звуки. Он оглянулся назад, улыбаясь, а сзади синие фонари уходили в темноту, и он повернулся обратно и прислонился лбом к черному граниту, гладкому, блестящему и с желтым мусором внутри.
И, глядя на мусор, вспомнил, как в троллейбусе стоял, упершись лбом в стекло, залепленное снегом с обратной стороны, а рука его стыла на ледяном поручне, и большой палец вдруг придавило чем-то теплым, и это оказался локоть девушки в коричневой куртке, и он посмотрел ей в лицо и сказал, что вот дом рыжий, как радиола, и она засмеялась, сморщив нос.
Он думал, что сейчас, когда они и он – все пьяные, и пьяные сторожа, и устали, и хотят спать, они обнимутся по крайней мере и постоят, как пингвины, прижимаясь носами и щеками. Он шагнул из-за столба навстречу смеющимся девушкам, но девушек не было, а была темная ночь. Пламя набрасывалось на воздух и пустоту, и прозрачная снежинка, свалившись сверху, ударилась о гранит и полетела, кувыркаясь и ломаясь, к ногам. Он посмотрел на пальцы рук, красные, в черных крупинках вытаявшего мусора, и, раскрыв рот, перевел взгляд на синий пушистый шар вдалеке, и, не закрывая рта, усмехнулся.
Потом прислонился к черной стене, съехал на корточки и стал смотреть на крест, прислоненный напротив, а смотря, подпирал щеки кулаками. Глаза слезились, и все расплывалось. Обернувшись к молчавшему человеку, он сказал:
– Я знал, но забыл: мы умрем, – и двинул рукой, показывая на крест, отчего тот полетел, но он подхватил его и поставил обратно и, раскачиваясь и подперев щеки кулаками, опять стал смотреть.
Крест был залеплен снегом, который таял и катился вниз, объезжая ржавые шляпки гвоздей, и там, как на велосипеде, стоял ржавый номер 0696, а под перекладиной болталась паутина в изумрудных бусинках влаги, и в ней длинные желтые иголки. И снег, который стал водой, расплывался вдоль по трещинкам, наплывая на свернувшиеся лохмотья краски и отражая в выпуклостях огонь. Он покачал головой и поднялся, щелкнув коленкой.
– Нет, – сказал он, глядя в пустоту и воздух мокрыми глазами. – Что-то здесь недодумано, с этой смертью. Слышь, друг? Не выходит. Не боится никто, и все, бляха.
Он нащупал в кармане что-то мягкое и в нем колючее и вытащил согнутую в три погибели бенгальскую свечу, желтую квашеную капусту и в ней ярко-красную клюквину. Глядя сверху на эти комплектующие, он бережно погладил их пальцем все по очереди. Пламя сзади замерло, он заметил это, обернулся и сказал, озаряемый пламенем:
– А замысел был неплохой. Да. Надо признать. Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду, – и, подняв ладонь с капустой, как бокал, поднес ее ко рту, но отвел, потому что увидел себя в черном граните. А рядом, внизу, отражался огонь толстым и изогнутым, как в кривом зеркале. А сам гранит отделился от деревьев и оград, а деревья и ограды отделились от неба, которое поднялось вверх, и все за ним устремилось вверх – и тонкие стальные прутья оград взлетали вверх, и черные ветки, которые лезли в разные стороны, казалось, только искали лазейку, чтобы пролезть кверху, а вершины так качались, стремясь оторваться от низа, что ему захотелось бросить все и лезть на крышу.
– Магический реализм, – сказал он, выпрямляя свечку, и, нагнувшись, сунул ее в пламя, и ждал, когда она вспыхнет ярким огнем, но она не вспыхивала, а только краснела, а пламя уклонялось. Он, раскачиваясь, терпеливо водил рукой и совал свечку в пламя, но оно уклонялось быстрей, и он не успевал за ним.
– Магический реализм, – пробубнил он в шарф неизвестно откуда всплывшие слова и отдернул руку, потому что свеча вспыхнула, но она не вспыхнула, а просто несколько искр высыпалось из нее и погасло, и тут он вспомнил, что эта свечка уже сгорела и поэтому не горит.
Тогда он поднял свечку над головой и сказал:
– Слушайте все! Пусть как будто она горит!
И, подняв ногу, шагнул с гранитного пьедестала на ледяную дорогу, и пошел по дороге, размахивая свечой налево и направо и говоря громко и нараспев:
– Зайки пушистые! Волки зубастые! Белке я рад и лисе! Здравствуйте, мальчики! Девочки, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте все! Тук-тук-тук! Я Дед Мороз! Эй, кто там прячется? Выходи на середину! Теперь Новый год! Я Дед Мороз, а вы кто? Прекратить молчание! Нате вам шапку за девяносто рублей! Нате вам!.. Кашне!.. Стило!.. Выходите все! Будем плясать! А вот ключики! Ай, какие ключики! Ключики-бубенчики! Нельзя молчать! Пляшут все! Внимание! Раз, два, три! Магический реализм!
Он повернулся боком и запрыгал приставными шагами:
– Рич-рач, румби-бум, румби-бум, румби-бум. Рич-рач, румби-бум, румби-бум, румби-бум. Та-рари-рари-рарарарам-пам, та-ра-ри-рари-рарарарам, – он плясал, махая ногами, и, как бубен, звенела мелочь в кармане.
– Рич-рач, румби-бум, румби-бум, румби-бум. Рич-рач, румби-бум, румби-бум, румби-бум. Вы-ходи-ла на берег Катюша… Эх! На веселый берег, на крутой…
Он плясал, пока все не поплыло перед глазами, и тогда, шатаясь, он оперся об ограду, перегнулся через нее и отдохнул, мотая головой, разглядывая повешенные на ограду железные венки, а потом поднял голову и увидел на сосне огромный щит, на котором было написано красной краской: «Складирование мусора запрещено. За нарушение штраф». Он оттолкнулся от ограды и побрел к своему огню, все еще тяжело дыша, но огонь как-то померк, и, оглядевшись, он понял, что за тучами вверху уже начался восход, и пока еще сумерки, но скоро будет совсем светло, и вот поэтому все отделилось и перевернулось.
– Все стоишь, – сказал он сутулому человеку и, нагнувшись и поднеся пальцы к переносице, громко высморкался. После чего, проглотив слюну, поглядел на светлеющее небо, на мерзнущего человека в черном комбинезоне.
– Надо было подержать эту идею в столе, – сказал он, и, подняв свой крест, сунул его нижним концом в огонь, и долго ждал, когда тот загорится, но он не стал гореть, а только зашипел, и из него полезла наружу белая пена и пошел пар. – Понимаешь, дело-то в чем? Не боятся ничего. Египтяне, жены… мать… жнецы. Думают: зароем в землю – и вырастет десять человек. Им же говорят: при жизни, дура! При жизни! – он постучал кулаком по лбу, махнул рукой и закинул крест на плечо.
– Эй! – крикнул он, держа одной рукой крест за мокрую перекладину, а другую засунув в карман. – Эй! Дядя летчик! Парле ву франсе? Десин муа ен мутон! – и, не услышав ответа, пошел навстречу тускнеющим фонарям.
Он шел под фонарями, шел под черной крышей, спускался вниз по лестнице на обычную улицу, он шел по пустынной светлой улице и кричал:
– Эй! Аще убо ревенонз а но мутон! Медам! Месье! Ревенонз а но мутон! Десин муа ен мутон! Силь ву пле![1] – кричал он. На лицо ему садились холодные мелкие капли, возникающие из ничего. Они клубились в воздухе как пыль, которую не видно в тени. Зато с крыш капали крупные капли, разъедавшие лед на тротуаре, а из водосточных труб текли струи, как из дул чайников, и вода пузырилась и журчала в блюдцах, вытаявших во льду, и ноги разъезжались на сером в темных пятнах тротуаре. Январь был как апрель, или как январь, но в Париже.
– Десин муа ен мутон! Эй, кто-нибудь! Выходи из ящиков! Неужели все перемерли?
– Пф, – треснул сзади крест, и он обернулся, и полоса дыма возникла перед ним и поплыла, распадаясь в клочья, а на льду лежала красная крошка и стала ярко-желтой, а потом погасла и исчезла, и он пошел дальше, проткнув лбом висящий в воздухе голубой огурец.
– Ле конкомбр бле, – сказал он, ощущая потребность говорить по-французски, потому что все было как в Париже, и даже Эйфелева башня чернела вдалеке, но какая-то чересчур голая, будто тут с нее все облетело, не выдержав морозов.
– Ля Тур Эйфель ню, – сказал он и остановился, услышав далекий нарастающий гул.
Что-то приближалось сзади или сверху неумолимо, он смотрел на бело-голубой киоск, мокрый от воды, стараясь запомнить. И когда уже дальше некуда было нарастать, что-то знакомое и родное лязгнуло сзади. Он обернулся и увидел смотрящий на него троллейбус. Он смотрел на троллейбус и ждал, что будет. И в самом деле: из дверей вышла девушка в тигровой шубе, и прошла, не глядя на него, и поскользнулась, и пошла дальше, и мокрая пыль садилась на нее; прогнувшись назад, он смотрел на ее красный шарф; когда она прошла мимо, он сказал:
– Ну что же вы, – троллейбус лязгнул дверьми, – что же вы, – сказал он, прогнувшись вперед, троллейбус загудел и задрожал, но колеса вертелись на месте, разбрызгивая воду.
– Куда же вы! – спохватившись, крикнул он вслед девушке. – Почему вы не обняли меня? – Он сделал шаг, но поскользнулся и отчаянно засеменил ногами, прогнувшись назад; троллейбус смотрел на него и трясся. – Нас же не будет! Стойте! – кричал он, широко расставив ноги и прогнувшись вперед. – Так не делают! Так делают одни мытари! Да стойте! Слушайте! Я пророк! Я Дед Мороз! Я Прометей! Я похитил огонь!
Он сделал шаг, но опять поскользнулся и взмахнул руками, крест поехал с плеча и упал ребром, крякнув, как кукла, постоял на ребре и шлепнулся плашмя в лужу, обрызгав его ботинки. Девушка оглянулась издалека и пошла дальше, закинув на спину красный шарф. Троллейбус отъехал одним боком.
– Недодумано, – сказал он. И сел на корточки, обхватив голову руками, и сдавил ее изо всех сил. – Недодумано! – крикнул он в отчаянии, понимая, что не успеет.
Бух-бух-бух-бух – дружно топая, к нему торопливо бежали сторожа.
Под стук колес, под стук
Согласно последним данным, смысл жизни известен более чем половине человечества, поскольку вообще женщин больше, чем мужчин. Женщины – вот ствол древа, его сердцевина, а мы – кора и боковые ветки, мы разведчики и защитники. Так передали по телевизору. Ствол знает, куда ему расти, но время от времени на всякий пожарный случай посылает нас вбок от себя: поищите, мол, нет ли и там какого смысла? А устанете искать – вот вам большая страна и на ней железные дороги, залезьте в вагон и, пока он едет, спокойно во всем разберитесь. Ноги ваши гудят после долгих поисков смысла, стоптанные башмаки лежат и перекатываются на полу. Вам кажется, что жизнь прошла напрасно и вы всю жизнь бежали не туда, ничего, не расстраивайтесь, отдохните пока тут, на верхней полке, уткнув лицо в серую подушку, страна у вас большая, времени много, и нет лучше места, чтоб спокойно разобраться во всем.
Мир не рухнет от вашей ошибки: пока вы бежали туда-то и туда-то, кто-то за вашей спиной для равновесия бежал в противоположную сторону, а тем временем, главное, ствол наш все рос куда надо. Мир не рухнет. Лежите спокойно. Куда вам? К вашему сведению: сейчас мы все едем в Котлас, туда, где Северная Двина. Вам все равно. Правильно.
Прежде всего надо разобраться с поэтами. Отодвинем в сторону шахматы. Давайте поговорим о поэтах.
Потому что у них ведь как? У них везде сидят незнакомки. В парке с желтыми листьями. На площади со снегом. В горах Крыма и Кавказа. На балкон выйдете – незнакомка. В люк водостока заглянете – незнакомка. За копченой треской побежите – нету копченой трески, одни незнакомки. А уж в поезде, в котором мы едем, – целая рота незнакомок, по одной на каждое купе.
Будто она сидит напротив вас в ночном полумраке вагона, а потом поезд трогается, бегут по стенам серебряные тени, или плывет закат в зыбкий мартовский вечер, и ваши сердца или души летят со свистом в какую-то эллиптическую туманность или еще куда-нибудь.
Или, допустим, в стране идет дождь, и в газоне растет зеленая трава, а вдоль газона – белый бордюр, и она шагает по бордюрчику, будто олимпийская чемпионка, – в красных брючках, с белой сумкой через плечо, и моросит дождь, покрывая бисером ее волосы, и вы, бросив авоську с огурцами, бежите к ней, чтоб, например, воздвигнуть над ней свой черный зонт, и она, качнувшись, отдаст вам белую сумку и свесит с бордюрчика лакированные туфельки и дотронется до вашего плеча. Да.
Или, допустим, вы открываете дверь купе, стучащего, как грудная клетка, и она уже смотрит на вас снизу вверх, взметнув брови, и вы вволакиваете свою черную сумку и садитесь напротив, и она отворачивается и смотрит на ваше отражение в черном стекле, а вы смотрите на ее отражение, и у нее оказываются очень удивленные глаза, и вы сидите и ждете, как завороженный, что сейчас она протянет тонкую свою руку, погладит вас по загривку, как умного щенка, и скажет: «У-тю-тю-тю-тю…» – и ваши волосы, к которым прикоснулась ее ладошка, будут лежать на голове радостно и смиренно.
Вот здесь она и сидит. Вот на этом месте. Вот тут у нее туфли, тут голова, тут серебряные тени.
Вы что-то хотите сказать?
Вы хотите взобраться на высокую колокольню и перестрелять всех этих поэтов из пулемета, и в вашем мозгу, распаленном от поисков смысла, они разбегаются, как тараканы.
Да. Есть в жизни и газон, и бордюр – но нет незнакомки. И наоборот – есть незнакомка, но нет поблизости вас. Вы лежите, уткнувшись лицом в подушку, и разбираетесь во всем, а она не ждет вас за дверью – хоть целый день ту дверь отворяй и захлопывай.
Она ездит другими путями и на других лошадях, и ей наплевать на темную ночь, и на живой зеленый поезд, и на желтые окна, плывущие по земле, наплевать.
А что же олимпийская чемпионка, например, Маша Филатова – по бревну?
– А вот что, – говорит сытый телекомментатор, показывая с экрана фигу. – Вас тут сорок миллионов, а Машка у меня одна.
Это поэзия.
Когда мы, безбожники, будем стоять перед Богом голые, сцепив внизу ладони, как стенка в ожидании штрафного удара, и Бог будет думать, как бы нас наказать, давайте поднимем руку и скажем, чтобы Он посадил поэтов в наш поезд, и пусть он их возит.
Вы, собственно, куда едете? Никуда не едете? Я еду в Котлас. Давайте, пока то да се, спокойно во всем разберемся.
В поэтах ли дело? Я мог бы вообще не говорить о поэтах, просто у меня в голове без конца вертятся всякие рифмы, ямбы, анапесты, вот и про Господа Бога – только подумал: «Аминь, аминь глаголю вам», – как следом уж лезет: «Поедем летом мы на БАМ», – и приходится разламывать фразы на куски и собирать снова так, чтоб была проза, к примеру, просится «пес» – пишу «собака», просится «Херасков» – скрипя зубами, печатаю «Державин». В сущности, поэт как раз и отличается от нас тем, что мы находим в себе силы разломать поэзию на куски, а он так и пишет, как лезет.
Если мы, например, выходим на балкон, то к нам никто не приходит. Нас это гнетет. Мы смотрим на небо – и что мы думаем? Что вот перед нами соседняя галактика, № 224 по каталогу, и всякие ожидания бесперспективны, потому что, не говоря о чем другом, сигнал до нее идет два миллиона лет и сама она убегает со скоростью сорок километров в секунду.
А поэта эта ситуация не гнетет совершенно. Почему? Отчасти по необразованности. Когда-то проверяли всех людей искусства на образованность, и самые необразованные, конечно, артисты, а сразу за ними идут поэты. Поэт вообще не знает, что туманность Андромеды – это галактика № 224. При слове «туманность» ему представляется нечто вроде вуали, и в голову ему лезет, что на балкон вот-вот придет незнакомка. Он так и пишет: мол, «приходит на балкон с Андромедою Дракон» – после чего, удовлетворенный, сразу уходит с балкона.
То же самое в поездах. Для чего вообще железные дороги? Они для того, отвечаем мы с вами, чтоб разбираться во всем, пока ствол тянется вверх. Поэтому их и называют иногда ветками. «А почему, – думает поэт, – матрацы лежат всегда так, что незнакомкам их не достать? Не для того ли, чтоб матрац незнакомке достал он, случись рядом с ним незнакомка? Или вагон время от времени резко бросает в сторону не для того ли, чтоб незнакомка ухватилась за него, когда они шли бы по коридору?»
Матрацы получаются зачарованные, они лежат на туманных полках. Склоненная ложка, позвякивая в бездонном стакане, качается прямо в мозгу. Конь блед…
Кстати, о шахматах. «Почему у белых аж два коня и две королевы, а у черных кроме короля одна пешка, и все? Куда делись черные кони? – волнуемся мы. – Только дурак будет играть в таком положении!» А поэт на это плюет. Он не играет. Ему не нужен партнер. Вот в чем все дело. Он ищет некую за доску выходящую красоту.
И незнакомки в поездах – это такой символизм, у которого и смысл как раз в том, что есть идея, но нет подходящего воплощения, и вот она ищет, во что бы ей воплотиться, и не находит.
У нас же наоборот: есть воплощение, но не видно идеи. Все туманности сосчитаны и переписаны, а Маша Филатова одна на всю страну.
Но что плохого в том, что нет незнакомок, а есть лесорубы? Если б не было лесорубов – не было бы бревен, по чему ходят олимпийские чемпионки, не было б досок, по чему ходят шахматы, не было б и самих шахмат, не было б даже бумаги, на чем писать. Но вот они, лесорубы, суровый краснокожий народ, кому поет иволга и чьи сердца непослушны докторам, – они едут вместе с вами, они вместе с вами пластом лежат на нижних и верхних полках, их качает вагон, как вас. Под плач какой незнакомки вам бы так хорошо мечталось, как мечтается под их стон и храп?
Тот любит поезд, какой он есть, кто хоть раз трогал колеса после долгого перегона – они теплые, снег тает на них, если положить на них снег, – он тает, как на ваших ладонях. Поймите, ему нелегко таскать вагоны, когда вокруг такой простор, или, к примеру, взять море – там нет никаких рельсов, плыви себе, куда хочешь…
А стук колес? Один француз, говорят, как услышал стук колес, так сразу сел и написал концерт для фортепьяно соль мажор, а страна у них, между прочим, меньше нашей в сто раз.
А подумали вы о том, что всамделишная незнакомка – это же страшная вещь? Вы не будете спать всю ночь, а утром, глядя в сторону, нервно зевнете, и она, чтоб начать разговор, спросит:
– Не кажется ли вам, что зевать в присутствии женщин неприлично?
И что вы ответите? «Нет, не кажется»? Выйдет, что вы не умеете себя вести. «Да, кажется»? Значит, вы умеете себя вести, но специально плохо ведете.
Так что лежите спокойно. Кто там напротив вас? Вот ему тоже не спится. Он простудился на Ярославском, ночуя там среди окурков и пробок, и чихает теперь очередями, в промежутках выражая удивление по поводу странной напасти:
– Ась! Ась! Ась! Ась! То т-такое?.. Ась! Ась! Ась! Ась! Ау, поминает то-то?.. Ась! Ась! Ась!..
Аятолла Хомейни, между прочим, запретил у себя в стране музыку, спиртные напитки и лица женщин, ибо все это отвлекает мужчин от дела, одурманивает им голову и лишает их душевного равновесия. Я убедил вас?
Нет. Вы хотите, чтоб напротив вас была незнакомка.
Ну, хорошо. Есть в поездах незнакомки. Правильно, и лопата стреляет. Рота не рота, а одна незнакомка на сто поездов попадается. А вы едете в тысячный раз. Хорошо. Вы встретите незнакомку.
Вопрос – где? Вариант с матрацем отпадает – матрац ей достанет жених. Как вы думали? Без партнеров у нас в стране одни поэтессы. Вы ж не хотите, чтоб незнакомкой была поэтесса? У них еще нос горбом. И с коридором вариант отпадает – она ухватится за маму. Как вы думали? Это же ночь. Какая мама отпустит дочь одну в коридор? Да еще в районе лесоповала? В крайнем случае она пошлет вместе с ней какого-нибудь дядю Тоби. Хотите ли вы еще встретить свою незнакомку? Хотите. Ну, хорошо.
Значит, так.
Сейчас в ткань повествования внедрится санитарно-гигиенический узел. Давайте условимся, что оный узел вымыт, вычищен, пахнет одеколоном «Шипр» и сверкает, как парикмахерская. Сделаем такую уступку поэзии.
Будет вот как: в вагоне – ночное освещение, в малом тамбуре – яркий свет. Санузел занят. В малом тамбуре – маленькая очередь. Вы и ваша незнакомка. Вид вот. Вот фон. Фон не располагает к знакомству. Незнакомка, высунув из окна руки, смотрит в ночь, и ветер треплет ее крашеные волосы, а вы стоите сбоку, прислонившись к дверям, и смотрите на огнетушитель.
Вот так. Я специально поставил вас сбоку, чтоб вы могли в случае чего зевнуть незаметно. Зевайте. Решая задачу, никто не зевает нервно, но это не задача, это партия как таковая. Тут есть фигуры, которых нет у поэтов, мы берем их в расчет. Жених, черный прапорщик, дрыхнет на верхней полке, черный дядя оттеснен в туалет (он выпил много пива на станции Кулой), а что касается мамы – черную маму ради вас взял на себя я, ваш друг, товарищ и брат.
В чем же секрет? Секрет в том, что санузел общий. Вот ведь какая грустная вещь. И никто не бьет тревогу. Но у нас же с вами не Франция, в конце-то концов давайте разделимся, одна половина сюда, а другая – туда. Вы только представьте: незнакомка же! – раз в жизни! – перья страуса склоненные! – и – бах! – гальюн.
А вы? А вот вы стоите, скрестив руки на груди, как белая статуя, и рассматриваете украдкой свою незнакомку, и ищете утешения в том, что вот-де талия толстовата. Какая к черту талия! Бросьте! Это блузон надувается ветром. Блузон! Известны ли вам такие слова? А она? Она, между прочим, ждет, когда вы заговорите, потому что – это ясно как день – черный прапорщик со всеми своими блестящими пуговицами, по совести говоря, до смерти ей надоел. «А может, она дура?» – думаете вы, доставая верхней губой нос, и хотите спросить ее что-нибудь эдакое, и тут с ужасом обнаруживаете, что все поэты разбежались кто куда и вы не можете вспомнить не только что француза, но даже этого, своего, арапа, и тащите их назад, и вытаскиваете такое, что хохотали арапы над лбом попугая, но только открываете рот, как вдруг проваливаетесь во тьму коридора – это недремлющий лесоруб поезда № 524, неся яичную скорлупу, открыл за вами дверь. Он просит незнакомку посторониться и высыпает скорлупу в мусорный ящик, мельком взглянув на клубнику, вышитую на белом блузоне – о, блузон! – и уходит, хлопнув дверью, и попугай вылетает у вас из головы, и начинает сильно биться сердце у вашей незнакомки, и она взволнованно дышит – вы видите, как вздрагивают белые складки, и раздраженно думаете о том, как ей не надоест смотреть в ночь, и что там видно, в ночи? Ничего не видно! И тут с грохотом открывается дверь санузла, оттуда, высморкавшись напоследок, выходит дядя Тоби, и незнакомка идет на его место, обдав ваши ноздри ароматом таких духов, каких не нюхали ваши лесные края. Тогда вы садитесь на мусорный ящик, поглаживаете ладонью деревяшку окна, а деревяшка теплая в двух местах – там, где лежали руки вашей незнакомки, – и клянетесь, что познакомитесь с ней, и даже прочищаете горло, и издаете для пробы какой-нибудь звук, и мучительно долго тянется время – вы успеваете подумать о яйцах, о клубнике, о французах, о художнике Французове, у которого есть картина «Титькоглаз»… Кстати, известно ли вам еще такое выражение: «на бретельках»? Висеть на бретельках в малом тамбуре… И уж совсем неожиданно кончаете тем, что вдруг ее зовут Клавдия или еще как-нибудь почище, и вот наконец открывается дверь, и выходит… Казалось бы, ваша незнакомка – но почему-то в красном халате и с белым гребнем в волосах, и что самое главное – с совсем другим запахом, и пока вы соображаете, что да как, она уходит в сумрак вагона, хлопнув у вас под носом дверью, и вы, отупев от неожиданности, входите в туалет, рассматриваете надпись: «Промыт – 12.5.77», – а потом высовываетесь в окно и, повертев головой, произносите какую-нибудь банальную фразу, например: «Мы никогда друг друга не любили и разошлись, как в море поезда».
Вы долго стоите молча, высунувшись из окна как только можете и до рези в глазах вглядываясь в темноту.
Потом обретаете дар речи:
– Что вы там видите, в ночи? – спрашиваете вы. – Дежурного ангела? Вы ошибаетесь, это не ангельские глаза, это архангельские! А, уи, уи, Двина Септантриональ! Ваше благородие, госпожа удача…
Ветер дует вам в волосы, в ваш глаз залетает сорина, и он начинает лить слезы. Вы прерываете речь, и вам больше нечего делать, как вернуть голову в сверкающий туалет.
Советую вам вглядеться в эту самую деревяшку. Ведь все-таки есть доля смысла и в нашем существовании. Каким бы унылым однообразием веяло от всех этих досок, если б не мы! Вот она, красота. Смотрите, какие колеса тут наворочены. Это мы лезли вбок от ствола.
И настанет утро. Куда едет поезд? О чем мы говорили? Вот голубое небо, лесоруб выносит свой чемоданчик (мы стоим на станции Ядриха) – сойдите, вот ваши ботинки, и следуйте за ним, он знает все про бревна…
– Ась! Ась! Ась! Ась! Нуй-я-а-а… Ась! Ась! Ась! Да то т-такое? – чихает он, только не падайте в траву, там комары съедят…
– Бум-бум-бум-бум-будьте осторожны, будьте осторожны, – бубнит далекий репродуктор, мы стоим тут три минуты, а потом уедем: вот железная телега, прикованная цепью к будке, давайте, по ступенькам, по доске через канаву и туда, туда – ах, эта Ядриха!..
– Ась! Ась! – он идет, скрючившись, нет, он плывет в утреннем воздухе, зацепившись за Божий гвоздь и болтая ногами – лесоруб? – да это же Микеланджело Буонарроти!
– Ась! Ась! Ась!
– Счастливого пути!
Клопы
Бежал по матрацу клоп. Матрац был серый в зеленую полоску, а клоп красный, ноги колесом, и звали его Прокопыч.
У черного штемпеля привычно повернул налево, забрался на бугор и только собрался спуститься вниз, как навстречу ему – другой клоп, Распопов Сидор Кузьмич:
– Так что, Прокопыч, поворачивай оглобли: там начпрод шиш выдает.
– Ну?! – опешил Прокопыч.
– Век воли не видать! – перекрестился Кузьмич. – Мужики у забора собираются, пойдем потолкуем.
Озабоченно наклонив голову, Прокопыч засеменил вслед за Распоповым. По пути встретили еще одного клопа, Ваську Губу.
– Чего, я слышал, с пайком облом? – спросил он.
– Пропадай, Расея, – сумрачно буркнул Прокопыч.
– Так что, Василий, нету Белогрудова, и не ложилси, – объявил Кузьмич, и они втроем побежали дальше.
У забора гул, дым, ропот, одних следов и окурков – сила!
– Садись, покури, Прокопыч, – сказал Миша Чучин, протягивая ладонь. Он сидел в такой позе, будто справлял большую нужду, и, свесив руки, курил.
– Как же это вышло-то, мужики? – спросил Прокопыч, здороваясь со всеми за руку.
– Я и говорю, – моргая, стал рассказывать плюгавый клоп Ванька Бураков. – Выходит, первый я сегодня пошел. Думаю, не уснул еще, гад, задавит, а рискну, потому как жрать надо чего-то, да и тихо, однако, – моя-то конура, знаешь, у самых у пружин – слышу, не скрипит. Ай, думаю, жисть наша, семь твою в нос, рискну! Вылез, бегу, душа в пятки ушла, однако чую – не скрипит ведь, гад! Ладно, думаю, поэт – известное дело, не дышит, не дышит, а потом хвать ватой – и подожгет! Это мода у него такая стала – ватой хватать. Ну, бегу, по окопчикам прячусь. Вдруг мне как по лбу стукнуло: что же это, кажись, пятки на шву не было! Это, значит, примета такая у меня: на конце матраца шов есть, черными нитками шит, ну, и там аккурат пятка всегда бывает. Осадил я, назад воротился – точно, нету пятки!
– Ах ты! – не удержался Прокопыч.
– Ну! Меня как по ендове стукнуло! Бегу уж не прикрывшись, поверху, во все глаза гляжу: нету Белогрудова, хоть тресни! Я и туды, и сюды, и под горой, и на лонжероне был – ну нету, берлинский барабан, вот обида, семь твою в нос! А тут и Миша стретился…
– Здорово, Семен, – сказал Миша Чучин, протягивая руку очередному пришедшему. – Садись, покури, в ногах правды нет.
– Не, а че же делать-то, че же делать-то, – заволновался какой-то молодой клоп.
– Говорю вам, под кроватью сидит, – угрюмо сказал Славка Пень. Он стоял, прислонясь плечом к забору, и все крутил на голове новую зеленую шляпу: то задом наперед повернет, то передом.
– Известно, сидит где-то, – сказал Прокопыч, почесывая бок. – А штаны-то снял?
– Да ведь до штанов ли, Прокопыч? – заморгал глазами Ванька Бураков. – Что свет погасил – все видели, и дверь запер с энтой стороны. А штаны – кто за имя уследит!
– Известно, кабы заранее знать, – согласился Прокопыч.
– Под кроватью он сидит, больше негде, – повторил Славка Пень, поворачивая шляпу.
– Не, а че сидим-то, мужики, че сидим-то зря?! – волновался молодой. – Айда поишшем!
– А ну-ка, парень, ты у нас самый шустрый, – рассудил Прокопыч. – Слетай вниз, погляди, давай, во, напрямик, через лонжерон, и туды! Давай!
– А чего, дадите курева – слетаю.
Протянули ему сразу две папиросы, он одну за ухо, вторую в рот – и побежал, только штаны засверкали.
– Эх-ма, – вздохнул Прокопыч, усаживаясь.
– А чей он хоть есть-то?
– Да Тыквы сын, – сказал Миша Чучин.
– Чего-то не знаю его.
– Ну! Тыквы-то сын! Жена-то у него прошлый год суперфосфатом отравилась.
– У Тыквы?
– Да не у Тыквы! У Кольки! Рыжая Капка-то! Шумкая баба! Гарибальди-то!
– А-а-а! Офони Тыквина Колька!
– Ну!
– Ты смотри, мордоворот какой вырос!
– Ну.
– Вот я когда в девяносто седьмой сидел… – сказал Славка Пень.
– Это где семья, что ли? – уточнил Прокопыч.
– Ну… Сидел, это самое, так они тоже, бывало, под кровать залезут и спят там, будто я не найду… А не то в шкап. А во, – веско произнес Славка Пень и сплюнул. – Если под кроватью нет – значит, в шкапу.
– Ну-кась, шкаповские! Есть тут кто шкаповский? – крикнул Прокопыч, вытягивая шею.
– Как же, придут оне, жди, – угрюмо сказал Славка Пень. – Говорю вам, в шкапу сидит.
– Так, а больше-то негде, – сказал Прокопыч, почесывая бок, со злостью подумав о том, что придется бежать в такую даль.
– Не, во гад, а? – сказал Ванька Бураков, озираясь по сторонам. – И носит же земля таких гадов! Чего не удумают, чтоб только нашему брату досадить!
– Тю! – сказал Миша Чучин и приставил ладонь ко лбу. – Чего шумите? Вот вам и шкаповский один! Здорово, Козловский! Проснулся? Садись, покури.
Давя кулаком глаза, к забору подошел растрепанный небритый клоп в галстуке. Смущенно поздоровавшись со всеми, он стал растирать ботинком пыль.
– Гляди-кась, он в галстуке! – подковыривал Миша Чучин. – Будто конферансье, елки зеленые! Чего, Пал Федорыч, али праздник седня какой? Не к вам ли кассу слили?
– Да ну, я думал, здеся, как всегда! – махнул рукой Козловский, принимаясь торопливо и порывисто ходить взад и вперед, бросая на всех резкие взгляды.
– А чего, неужто не у вас?
– Да ну… – отвернулся Козловский.
– От едрена мать, – Миша Чучин с расстройства не сразу попал папиросой в рот.
Воцарилось долгое молчание. В наступившей тишине было слышно, как шипит и трескает папироса у Миши Чучина: и так хреновый табак был в папиросах, да еще палку туда засунули – жизни нет от ворья!
– Однако неладно, мужики, – заметил Прокопыч.
– А вон Колька бежит! – увидали задние.
– Мужики! – издалека весело закричал молодой. – Нету Белогрудова под кроватью!
– Ах ты!.. – хлопнул себя по коленам Прокопыч и сплюнул в землю.
Стало опять неясно и тревожно.
– Слушай сюда, мужики! – крикнул молодой, высовывая вверх свою потную и пыльную рожу. – Чудеса, да и только! – он вдруг захохотал, ухватившись за бока, и присел.
– Что ты ржешь-то, собака! – замахнулись на него, и он заорал:
– Не, ей-богу, не вру: наш придурок на потолке сидит!
Клопы загудели. Прокопыч кончил чесать бок и некоторое время, недвижно уставившись на говорившего, размышлял. Потом, хлопнув глазами, крикнул сердито:
– Эй, парень! Как это он может на потолке сидеть, если он с потолка сейчас свалится?
Клопы разом смолкли.
– Хеть, – сказал Миша Чучин, качая головой. – Это ж надо до такого додуть! – И бросил папиросу.
– Это же Белогрудый, а не кто-нибудь! – сердито кричал Прокопыч. – Ты вон крови напьешься, тебя и то на потолке-то еле ноги держат, потому – тяготение! А это Белогрудый! В ем сала одного – кровать ажник до полу прогибалась!
– Да че? – выпучив глаза, крикнул Колька. – Че? – растолкав толпу, он вышел вперед и подпрыгнул, наступив на горящий окурок. – Че? – повторил он, держась за пятку и прыгая на одной ноге. – Раз такое дело, пойдем всей артелью, поглядим!
– Ну, пошли, – степенно произнес Прокопыч, поднимаясь.
И клопы, гудя, всей артелью двинулись за охромевшим Николаем.
– Главное, Прокопыч, мне это дело позарез надоть, – толковал Прокопычу Васька Губа, топая сапожищами. – Мне без этого дела хоть домой не иди! Жинка да ить и пятеро мальцов у меня, сам знаешь!
– Мудрено, – гнул свое Прокопыч.
Он шагал все быстрей, засунув руки в карманы. От топота сотен ног стоял глухой гул и тряслась земля. Клопы толкали друг друга, наступали друг другу на ноги, а в суматохе, когда перелезали через провод, Миша Чучин чего-то не разглядел в темноте, поскользнулся да и полетел, матюгаясь, на пол.
– Вот, – сказал Прокопыч мрачно.