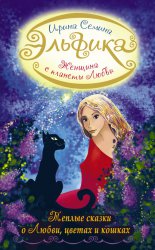Клопы (сборник) Шарыпов Александр

Было очень рано, свет загорожен, голуби ходили зигзагами. Парк стоял пустой и мокрый, на скамейках, в люльках, в седлах – везде скопилась вода. Я сидел на осле и сам себе казался ослом, потому что не мог понять ничего. Что помешало ему прийти? Услышал наш разговор и испугался? Или не все готово? Или просто не выспался в эти дни и решил, гад, отоспаться? А может, Епротасов, опомнясь, увез его в другое место? Вопросы вертелись с тяжелым скрипом, как внизу – помост карусели. Вопросы, вопросы…
В результате он так и не пришел. Несолоно, как говорится, хлебавши, не выспавшийся и злой, измяв все бумаги и сломав карандаш, я возвращался из парка. Вдруг навстречу мне комендантша Протопопова – голова в бигудях, руки в боки:
– Ты что ж, – говорит, – такой-сякой, блядь!
И тут все объяснилось самым неожиданным образом. Оказывается я, уходя, запер дверь на ключ, не подумав (спросонок), что там же Ипат гладит казенным утюгом – а номер у нас один, – а ключ взял с собой. Такое у нас бывало: это называлось «задраить». Комендантша хватилась утюга, побежала искать Ипата, он пробубнил ей через скважину: мол, задраено, никак не выйти. И в конце концов действительно уснул как убитый.
Можно только гадать, что было бы, если бы… Но – так ли уж это совпало, или все же тут что-то есть под этим – но вот с этого тупикового события течение событий резко замедлилось. Ипат бросил наше дело и ходил то в горком, то в исполком. Барахло его, брошенное, так и лежало на полу – лишь клеенка слегка распрямилась от силы упругости. Ходил он, правда, в красном колпаке с дырками – но тут не знаю. Все бабы в один голос начали нас уязвлять, что мы неграмотные и ходим в старых штанах, когда уже и «Бурда», и другие дерзкие гардеробы, а одна моя знакомая, особенно любившая всякие тряпки, Лиза К. – был праздник, спортсмены, готовясь бежать, играли холками, молодой спортсмен в переливающихся шелковых трусах ковырял асфальт белой ногой, думал ли я тогда, что ведь придется браться за эту ногу! – сказала мне так:
– Что вы его трясете? Он же еще зеленый. Вы хоть дождитесь, когда он созреет, а потом начинайте трясти.
Я-то склонялся к тому, что прав Сидор Мандела, т.е. что надо набить Ипату морду без всяких объяснений, и это решило бы форсированно. А эти глубокие бабьи аллегории всегда ставили меня в тупик, и что он зеленый – это я совсем не понял. Это вызвало у меня в памяти только что покрашенный зеленой краской памятник С. М. Кирову с биноклем на груди, который уже стоял у меня перед глазами, – я задумался, и пока раздумывал, какой-то дрын в очках – потом я узнал, что это пресловутый невропатолог Енароков, – видимо, подумал, что это она ему говорит, а может, я сейчас думаю, что и в самом деле ему, – посмотрел на нее и сказал:
– Что ж, это резонно.
Вот в такой ситуации, когда, с одной стороны, течение событий замедлилось, с другой стороны, все начали нас уязвлять – мы с Терентием и поняли, что если и дальше поплывем по этому течению, держа флюгер по ветру, как глубокоуважаемый прокурор, то рано или поздно уподобимся безмятежному герцогу Зюдерманландскому у острова Гогланд. Где он теперь? Увы!
Поэтому мы поступили, как Карл Маркс и адмирал Грейг Самуил Карлович, т.е. для построения в линию баталии повернули оверштаг на левый галс. Короче – принялись штудировать теорию.
Описание этого маневра займет определенную часть изложения, но одновременно является поучительным, так как в последнее время, как писал Николай, к движению примкнуло немало людей малосведущих и слабо подготовленных теоретически.
Уважаемому филологу, консультировавшему нас по поводу языкознания и указавшему на факт выпадения, мы возразим, что всякий маневр уже по сути своей есть выпад. Ведь и Василий, наш уважаемый прокурор, всю тяжесть своего обвинения обрушил на мотив («Чуг. мысль» № 141 – 145), предмет преступного посягательства («Чуг. мысль» № 146) и способ сокрытия («Чуг. мысль» № 147 – 150), тогда как сам способ совершения остался у него как бы отнюдь! Т.е. – где? Акт исполнения вторичен, первична же темнота – вот его основная мысль, и как же, спрашивается, доказать ошибочность его убеждений? Не прибегая к теоретическим выкладкам, сделать этого невозможно. Вот поэтому, т.е. прокурор как бы вынудил нас. Он маневрирует! И мы, принимая выпад, отвечаем ему тем же. Разница в том, что он делал поворот фордевинд, т.е. становился к ветру кормой, а мы поворачиваем оверштаг. В результате факт убийства остался у него обойден (тогда как мы были очевидцами) и приведен в конце, как бы в виде некоего Приложения.
Да и вообще говоря, если излагать все прямо, не отклоняясь, то получится одна гнусность. А ведь было же черствое счастье на протяжении этого года, среди этих книг – ведь столько открытий, и даже сердце билось по-другому. Все-таки не жалею. Нет, не жалею этот год, хотя бы и в виде некоего выпадения – вот и Терентий говорит, что он многое дал ему. Нет! «Рьен, де рьен! – как поется в песне. – Женэ рэгрэ де рьен!»
Тогда я пришел к нему: обсуждать, говорю, нечего, так и так, все вышло через задницу, вот накладные, правда, измял немного, вот карандаш, – он стоял посреди каморки в шлепанцах, в ватнике без рукавов, как сейчас помню, посмотрел на меня своими добрыми глазами и спрашивает:
– А к Чайковскому ты как относишься?
– Пожалуй, – сказал я, потому что меня слегка знобило.
В результате мы засиделись с ним заполночь, и он меня убедил, что если мы хотим выйти достойно из этой гнусности, то нам должно кончить играть с ней, а подойти к ней, как Грейг.
Примешивалось и чувство досады: было ощущение, что мы когда-то давно понимали ведь кое-что, и весьма существенное, но вот и в самом деле напрочь все позабыли.
Доходило ведь до того, что я сам, проснувшись ночью, вытаскивал из-под матраца топор, чиркая спичкой, вглядывался в его холодную, мутную поверхность, силясь понять и вспомнить – тщетность этих усилий ощущалась как ледокол, сползающий назад с льдины, – потом шел в курилку, где у нас мокнут кисти, вытаскивал кисть – воняющая керосином вода капала мне в тапки, – вглядывался в нее, потом в бадью с известью, – борясь в предрассветной мгле с искушением войти к Ипату, чтоб глянуть еще раз на Кодекс, хотя бы одним глазком, – вдруг слышал глухой грохот: Терентий, задремав на рассвете, ронял топор из обмякших рук. И все это было тщетно.
И, пересилив себя, зажмурясь и стиснув зубы – но все равно этот гнусный лозунг на красном: «Слава велико» и дальше на розовом: «му нашему народу!» лез в наши души и проник, – мы поднялись на второй этаж конторы, туда, где библиотека, разбудили библиотекаршу и сказали: так, мол, и так, хотим копать на поле непонимания, как молодые солдаты, под знаменем срывания всех и всяческих масок с голых фактов.
Библиотекарша ладошки развесила вальяжно, смотрит на нас через очки:
– А какую вам, – говорит, – тематику: преходящую, периодическую?
Я рот открыл, а Терентий сзади говорит:
– Перманентную.
Эта Ниоба встает лениво и, не глядя через очки, с двух сторон вытаскивает по книге. Я еще удивился: как это она знает? Непримечательные с виду: я бы сам никогда не догадался, в названии одной было что-то больнично-складское, ее забрал Терентий, сказав, что это ему ближе («Диабетическое материаловедение», что-то в этом роде), вторая, со скромным названием «Избранные работы», досталась мне. Думал ли я, когда хлопал ею по тыльной стороне ладони, стремясь вытрясти пыль, что это лемех, который будет переворачивать меня? Что, открыв ее в тот день, я мог бы окончить его в горморге?
Это было в обед. После обеда я сел, прислонясь к трубе, – справа ведро, слева кисть, – перевернул обложку, зевнув с недоверием – откуда она знает? потом, этот достойный Геггельса кумач… – и опять нашел что-то больничное в самих названиях работ, только уже по опорно-двигательной части («Наболевшие вопросы нашего движения»), а дальше что-то по детским болезням (не хватало еще по женским) – я чуть было не захлопнул, но тут…
Просится в строку: раздался треск и потемнело. Но это было потом…
А в это время Терентий в свою очередь – он сидел в бухгалтерии, темнея и вздрагивая над столом, как он умеет, пока сидевший напротив Пиночет не снял очки и не сказал ему, что ведь его знобит, и не отправил домой. Придя в каморку, он слег под одеяло и тоже открыл. И тоже зевнул с недоверием, и тоже чуть не захлопнул, отвернув голову вбок от дыхания пыли, – и тут началось. Он увидел уже боковым зрением, как боксер.
Мы потом сверили ощущения: они совпали. Это поучительно, поэтому следует остановиться. Начало всего: давно забытое ощущение – с последней захлопнутой книги, я думаю, лет двадцать прошло, – когда свет падает на бумагу, отражается вместе с буквами, и буквы проходят через прищуренные оконца глаз и укладываются там, в чердачной темноте головы, в понятия до того чудные, что какие-то тени поднимаются около них, локоть и нос тянутся потереться, во лбу, в переносице, в ухе щекотание оборванной паутины. Потом – не от запаха ли? – нахлынула печаль, светлая такая, как все безвозвратное, как пятна солнечного света, как строгие, незаискивающие отцы, как старые петли калитки и тихие разговоры – с той, на которой ничего не было, совсем ничего, кроме пятен чернил, но мы все глядели – о том, из-за какого именно угла кого убили и не рожает ли женщина через пуп.
Проклятая война.
А потом пошло и пошло.
У меня было так. Сначала я с трудом продирался сквозь эти дебри, к Энгельсгардту и от Энгельсгардта попадая обратно к Скалдину, и от Скалдина продираясь опять к Энгельсгардту: «Спрашивается, почему… Почему благие последствия… Обнаружились у нас… Не обнаружились у нас… как напр… как напр… в Пруссии… Почему… И в Саксонии… Почему идеалы… Промыслы… Отхожие промыслы… Кулаческие идеалы… Они… Привязывать руки к… К одному месту. В их среде… Ненавидят… Ненавидят огуль… Царят кулаческие идеалы. Они ненавидят… Они ненавидят. Ненавидят… Огуль… Огульную работу. По мотивам узко личным. Узко личным. Кулаческие идеалы они ненавидят огульную работу по мотивам узко личным…»
Потом я задумался: про кого это? – и на словах: «У них крайне развито стремление к эксплуатации» – предположил: не про тех ли людишек, которые засели на всех станциях, в каптерках частей, в школах, на почте и телеграфе и от которых я натерпелся?
Тут Терентий резко сел на своей кровати, потому что прочел: «Для философии Геггельса нет ничего святого. А есть печать неизбежного падения, и никто не может устоять перед нею».
А у меня: «При огульной работе каждый из них боится. Боится переработать. Эта боязнь доходит до того, – тут я подобрал под себя ноги, – что связанные с ними бабы… Связанные родством бабы моют каждая отдельно свою долю стола… доят поочередно корову, делают кашу отдельно, опасаясь утайки… И каждый стремится пожрать… Пожрать карася!»
– Но как же? – сказал Терентий, начиная уже волноваться. – У них же… Ведь это у них остались устои? «Устои рутины и застоя, – было ему ответом. – Оседлость в физическом смысле и моральном».
– Но как же… – продолжал Терентий. – Как Сильные Духом? «Геггельс рассматривает современный период как уже высшую ступень развития Духа… ( – Как? – сказал Терентий, напрягая себя.) и Дух уже приходит, смотрит и успокаивается, так как окружающая действительность уже в высшей степени разумна».
– Ах, подлец! – воскликнул Терентий.
«На!..» – боясь поверить глазам, я закрыл это место ладонями.
«Народ…» – Я опять закрыл и поглядел на небо.
«Народничество является теорией реакционной и… – Я опять не выдержал и поднял голову вверх, – сердце, казалось, вылетит из меня, – реакционной и вредной, сбивающей с толку мысль и играющей на руку азиатчине… Народник скатился по наклонной плоскости до того, что очутился рядом с аграриями». – С аграриями, т.е. дальше некуда! И наотмашь – про азиатчину!
«Идеализация – одна из необходимейших частей народников всех оттенков, которые приносят обильную дань этому подкрашиванию». – Но это же только я! Я, вынужденный принести сюда полное ведро краски!
«От такого наследства мы отказываемся?» Да! Да, черт возьми!
«Энгельсгардт решительным образом отвергает!»
Терентий отбросил прочь одеяло.
«В отличие от идеалиста Геггельса для Энгельсгардта ясно, что борьба с государственными учреждениями есть прежде всего борьба с неразумной действительностью».
Терентий вскочил от волнения.
«Надо взять бомбы и занять в первую голову: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) школы, д) штабы, е) каптерки этих диких дивизий…»
Вот тут и раздался треск, и потемнело; тут я подпрыгнул от восторга – вот оно, счастье!..
Но если для Терентия его порыв кончился благополучно, то моя мысль о том, что это треснула земля и кумач разодрался в конторе, – могла быть последней, и он, наблюдая из окна грозу и видя обыкновенную машину, едущую и разбрызгивающую лужи, никак бы не догадался – он подтвердил это потом, – что это останки от меня увозят в горморг, и разве уже потом, при опознании… Все дело в том, что, когда я подпрыгнул, тучи перевернулись, я стукнулся головой и руками, а ноги описали дугу, и я полетел – я совершенно забыл, что нахожусь на восьмитрубном трехэтажном доме, чью облупленную кровлю я и обязан был подкрасить на исходе рабочего дня. И лететь бы мне, как моей шляпе, чей полет наблюдал я, болтаясь над самыми проводами. Что удержало меня? – одна из труб и связывавший меня с ней канат, одним словом – техника безопасности! Ладно канат, но труба! Я был должен погибнуть! Если бы она была сложена, как стена между мной и Ипатом, которая шатается, когда ходишь по половицам! В том-то и беда, как писал Николай, что ведь опытных и спившихся каменщиков у нас нет, камни сплошь да рядом кладутся совсем зря! Нет, я должен был погибнуть. И тот прохожий, если он слышал непонятные звуки и остановился, – этой трубой убило бы и его.
Но – чудом – она удержалась от неизбежного. И первое, что я сделал, когда взобрался, – после того как вдругорядь поскользнулся и упал, – это обнял ее и прислонился щекой. К ее шершавой, мокрой от дождя поверхности.
Потом открыл конец «Что делать?» – не сразу попав туда трясущимися руками – что? – на случай, если погибну и уже не успею прочитать – там было пусто в начале. Я потер пальцем – странно – а дальше, на середине строки:
ликвидировать третий период!
– Ликвидировать третий период, – шептал я, спускаясь в люк по арматуре – ноги не попадали на перекладины, как до этого пальцы в книгу, – потом по каменной лестнице, через две ступеньки, стараясь осмыслить, ответ был странный и не очевидный, и почему пропуск – цензура?
– Ликвидировать третий период, – бормотал я, перепрыгивая через лужи под дождем, гремел гром, сверкали молнии, загорались и гасли овальные зеркала вод, озаряя мой путь. – Ликвидировать третий период! – выдохнул я, распахнув дверь к Терентию. И, трахнув книгой об стол, указал на нее пальцем. – Этот Николай… Где твои сапоги? Надо идти к нему в Питер!
– Поздно, – сказал Терентий глухим голосом. Он не сдвинулся с места, только слабо двинул рукой, загораживаясь от брызг.
– Нет, еще не поздно, – возразил я.
– Поздно, – повторил Терентий, оборачиваясь. Когда я увидел его потухшие глаза, мне показалось, что пол проваливается. Я услыхал свой голос:
– …уехал?..
Слабое движение прошло по его чертам, будто он хотел поднять брови, но только до половины открыл рот, и я скорей понял, чем до меня донеслось в разваливающемся пространстве – про некий памятник. Потолок резко снизился и ударил в голову: за оградой! – я развернулся и кинулся вниз – на крыльцо, выйдя в лужу, и дальше, будто кто гнал меня, и только на набережной, когда молния озарила широкую панораму реки, я остановился: при свете в памяти проявилась табличка: «П. Ф. Виноградов. 1890 – 1918». Он же Павлин, а не Николай! И все же пошел, когда гром ударил, чтобы удостовериться, и еще – как будто в углу там был другой, незаметный бугорок, поросший травой; но если! – твердил я, торопливо перешагивая через цепи, – если Терентий надсмехается надо мной, о! то отныне между нами все кончено! – как вдруг, только выйдя с набережной адмирала Нахимова на Большую, на это голое место, от которого Самойловская – Самуила Грейга – отходит двумя коленами, огибая это болото, этот Немчинов ручей, обойдя монумент, который я всегда приписывал Павлу Степановичу Нахимову, потому что он стоял спиной к набережной, – и будто кто толкнул меня – обошел и увидел ровные буквы: «Ленин» – и откуда-то сразу понял: вот он.
Терентий настоял, чтоб описания потрясения моего не было. Мы и так отклоняемся, напомнил он деликатно, а это место очевидное. Да! Может, я кажусь придурковатым и ничего не понимаю – это вы как хотите, но все-таки немного надо сказать.
Потому что я и в самом деле ничего не понимаю. Оказалось, что этот Николай, автор «Что делать?» и «Кризис назрел», и других блестящих работ – это тот самый Ленин в Октябре, над которым постоянно издеваются эти гады, в горкомах и исполкомах в первую голову, все эти Остолоповы, Жоповы, Кондобабовы… которые никогда, никогда не откажутся ни от какого наследства, – можете ли вы это себе представить?
То есть там, конечно, стояло на обложке: Н.Ленин (В.Ильин) – почему-то в середине книги. Но я никак не связывал с тем! Мало ли на свете таких фамилий! Ленин! Ильин! Мама ты моя родная! Да вот хотя бы Витька Ильин, слесарь в затоне: что? Разве мог я хоть на миг предположить, что это он? Он, если начнет писать, он же сломает всю авторучку: так что? Или тот, лысый комедиант? С замотанной головой, в кепке, разглядывающий так и эдак какие-то тряпки, как курица: «Спать-спать-спать!.. Спать-спать-спать!..»
А тут такая беспощадность мысли! Тут даются ответы на все вопросы, которые возникают или могут возникнуть и которые только маячат и трудно высказать – про азиатчину, про народ, и как они воюют против нас, и др., и пр. – все они высказываются с беспощадной прямотой и тут же на них даются ответы.
И потом, этот лысый – он же с бородой! Как же Николай мог быть с бородой?
Я стоял, задравши голову, в расстегнутом – от жары – бушлате, – посветлело, чайки летали под тучами, над берегом, над скрытыми там баржами и кричали тонко-тонко; мне казалось, что я – перевернутая лемехом земля, и лопнула прошлогодняя гниль, и пар поднимается кверху, и сыро, и чайки ходят по мне.
Я смотрел на этот каменный памятник с раскисшим от сырости куском хлеба, положенным этими гадами в протянутую им руку, с повисшей на какой-то хреновине – видно, каменной кепке, сжатой в другом кулаке, – сеткой с разбитыми бутылками – и думал: вот она, глориа мунди!
Я пошел тогда же, обнажив голову, на станцию – но, как назло, не было ни одной старухи, которые обычно стоят там с незабудками – правда, уже стемнело, и окончательно, и ничего не было видно. Никуда не оставалось пойти, как обратно в общагу. Я пришел туда, весь мокрый, и как был – с обнаженной головой – сел в темный красный уголок.
Помню, что-то широкое текло – то ли Тихий Дон, то ли Угрюм-река, и кто-то невидимый пел протяжную песню. Потом чухонец в длинных трусах проехал на велосипеде, подняв кверху руки. Потом президент в черной шляпе пригнулся, вышел под дождь и стал говорить, что он видит. И все встали, задвигали, забрякали алюминиевыми ножками, зашаркали шлепанцами, и я остался один. Что за спиной у кого-то кто-то стоит, и это кому-то надо. Я смотрел из угла и слушал, и в голове у меня стояли грустные слова Николая, что неужели же кругом все такие безнадежно тупые дураки, и поймал себя, что вот если камера объедет этого типа с ушами, и я узнаю в нем себя, что это со мной советуется президент, взяв за рукав и наклонив голову набок; нет, даже вот если экран лопнет на длинные осколки и оттуда вывалится пьяный уборщик Евлампьич и грустно скажет: «Блядь, как все осклизло», – и ножки подломятся, и грохнется все, и антенна полетит с крыши, и он скажет: «Ребята! Блядь, застегните мои штаны, и мы найдем узкие места мизансцен», – это не потрясет меня сильнее, чем простые, щемящие строчки из «Что такое грозящая катастрофа и как с ней бороться».
Почему? Да потому, что мы делали одно дело. Он красил и задыхался вместе с нами. Как там у него?
«От упрочения того или иного оттенка может зависеть будущее». Будущее! Так мог сказать только маляр. «Только близорукие люди могут находить излишним строгое различение оттенков». Близорукие и безнадежно тупые дураки.
Вот он смотрит со страницы: это не он смотрит. Это я смотрю. И не надо никаких фраз. В эту минуту – когда одни не могут, а те не хотят – всего два слова. Советы постороннего. И авангардом стал арьергард. И дал залп, и непобедимые господа шведы склонились под ветер. Со всеми своими столами, прогнувшимися от яств.
Я встал и пошел к Терентию.
Терентий сидел у стола, обхватив голову руками; увидев меня, он отнял руки и обратился ко мне, весь взлохмаченный:
– Карл Маркс утверждает, что мир состоит не из законченных сволочей… А представляет собой совокупность процессов, где разнообразная сволочь, равно как и делаемые нашими головами снимки, то возникает, то уничтожается, то опять возникает – но уже на более высокой стадии.
– Так, может, и Ипат-то наш, – подхватил я, скидывая бушлат, усталости как не бывало.
– Отрицание отрицания, – сказал Терентий, – а говорили – нигилизм… – и, почесав себе спину через ватник, добавил: – Не поставить ли нам Чайковского?
Уже была ночь. Но мы приступили к обсуждению. Так было и в последующие дни.
Нет, все-таки это счастье. Черствое, маргариновое, но у кого-то нет и такого.
Вот ругают общагу: правильно. Николай тоже говорит: разрушать. Но что взамен? – вот вопрос. Неужели коттеджи? Но ведь там нет такого коридора (тут еще теплый коридор много значит) – чтобы выйти ночью, по этим темным доскам, пройтись в молчании. Или в беседе. Посидеть на подоконнике, над батареей, глядя на крыши домов, на трубы, на светлый месяц, просвечивающий, как белое тело сквозь креп-жоржет. Потом продолжить спор на кухне, сидя на ящиках. Зайдет кто-нибудь из ребят. И все были там. Где Агафон? Хорошо ли ему? Где Сидор? Помнят ли они, как сидели на ящиках, хрупали сырую репу и говорили о прямохождении? Потом зайти в каморку Терентия, включить настольную лампу и чертить схему, и обсуждать, куда идет то или иное… Нет, кто лишен всего этого, тот ущербен. Тот слеп и одинок, как крот, и никто ему не поможет.
…Мы в первую же ночь нашли, где Карл, Фридрих и Николай дали маху. Они хотели сменять критику на оружие. Так! Но нельзя было заключать эту сделку с робустами (по выражению Л.Оуэна). Нельзя! Что получилось в итоге? Да, их челюсть огромна, но у них же, у них мускулистая голова! На их голове целый гребень – наросты – для чего? Для крепления сухожилий мышц, иначе бы все отвалилось.
А таких, как Паша Виноградов и матрос Железняк, поубивали тут же и закопали в землю. С чистыми гюйсами.
Впрочем, оставим это. Нас ведь не их убийство описывать позвал зов трубы. Мы описываем историю с Кохом, и как только нас тянет в сторону, мы должны упираться, наступая на горло.
Но тогда еще, год назад, убийства и не было, и нас волновал другой – не та, толстая рохля, а этот, подтянутый, который спал за стеной от меня и через коридор от Терентия. Даже не он сам, хотя жалко: образованный, а на опыте его: не случится ли это и с нами? – всего лишь вот такая сугубая частность.
Но обо всем по порядку.
Мы взяли Фурье, Мора, Оуэна и Уолша. Мы рассмотрели всю цепь: с чего начать? – и ухватились именно за Лавджо, ибо он речь ведет о движении. Как оно возникает, и т.п. – нам показалось, что, дернув за это, т.е. поняв побуждения, мы без труда выйдем на открытую дверь – и как Ипат из нее вышел, и оставил открытой, и каким путем пошел дальше, и пр.
И ведь что характерно? Несмотря на все дальнейшие заблуждения, которые мы не снимаем с себя, – да, ужасные, постыдные заблуждения, от которых теперь только схватиться за голову и упасть на коленки, – несмотря на все это, первое наше движение, то есть выбор начал – даже теперь, имея весь опыт событий, и то нельзя утверждать, что он был неверен. Где-то мы были правы, я и сейчас в это верю – хотя бы вот в самом начале, в минуту первых шагов, в секунду разгиба спины, в одном сантиметре зародыша – но где-то он должен был вести себя как должно! Ведь он человек? «Мы не какие-нибудь долгопяты, – говорит Лавджо Оуэн, – мы слезли с дерева». Пусть все остальное – максимализм, но в зародыше – он человек, и притом образованный, черт возьми! В какой-то момент он должен был разогнуться! Ведь это закон: ведь встал же – пусть не понимая, зачем – но поднялся гиббон! Он болтался, как маятник, но встал и сделал шаги – прежде чем разводить руками. Орангутан! Рыжий орангутан пошел, опираясь на две трости, как ветеран партии. Горилла! Что говорить? Волосатая горилла! – но и та приподнялась, как Гегенбауэр, над столом, опираясь на эти фаланги, – и свирепо оглядывалась вокруг. Оуэн доказал: зачем-то им это надо, да просто их унижает тот факт, что они ходят прогнувшись. Он должен был себя разогнуть.
И еще одно. Ждать съезда Советов – идиотизм. «Кризис назрел» – он же убедит хоть кого: ждать никого и ничего нельзя. Ибо никто ничего не даст: это идиотизм.
Ипат поднялся, как всякий примат, – и увидел, что ждать нельзя. Хватит наконец объяснять мир – надо изменить его, черт возьми! Но дальше пошли разногласия.
Я полагал, что движение происходит стихийно.
– Это же образованный человек, – говорил я, – а вокруг одни сплошные потолки да обывательские бельма! В глазах у него потемнело, и он выбежал и схватился за топор. Вот как все было.
– Ну, – возражал Терентий, – разве это Ипат? Это я не знаю, это у тебя получился какой-то Засулич! Ипат же образованный человек. Разве он мог не видеть, что устрашающая роль топора уже не имеет места?
– Но ведь остается эксцитативная роль: вот и Николай говорит…
– Николай говорит как раз не то! – раздражался Терентий. – Он говорит, что если гнусность не вызывает эксцессов у обывателя, то прошибет ли футляр топор, в свою очередь?
– Вот именно: прошибет ли? Он же не говорит, что не прошибет. Он говорит: прошибет ли?
– Да нет, тут совсем не то, – досадовал Терентий, шагая из угла в угол со стаканом в руках. Он полагал, что движение происходит организованно. – Ведь куда он пошел? Он пошел, как написано в «Что делать?», расчищать авгиевы конюшни. В Хронопуловское училище. Что оно для Чугуева? Гатчина! Казармы и студенты, вместе взятые. Он пошел наталкивать на мысль: хронопуловцев – в первую голову, земцев – во вторую голову, и сектантов – в третью.
– Но зачем ему топор? – настаивал я.
– Вот это не знаю, – отвечал Терентий. – Думать надо. Кто такие земцы? Сектанты? Сектанты… Может, отсекают что-нибудь? И он, чтобы войти в их круг…
Вот: уже здесь мы пошли не туда. Неизбежно! А почему? Потому что ведь мы брали человеческий опыт. А он бы нам не помог: это зона. Это зона, где сел иной разум. Мы отошли от костра, обернулись – и увидели два костра. Потом увидели девушку в куртке, подошли – а вместо лица у нее морда. Но это понятно теперь.
А тогда – при всех раскладах Ипат, несмотря ни на что, оставался у нас незапятнан. Как голубое пятно болоньи на грязи.
И, пожалуй, что я этим горд. Пожалуй, мы этим горды: тем, что были и есть выше прокурора. Мы не опустились до того злорадства, что он ходил туда и сюда, как бы шаг вперед и два шага назад, и вышел в дверь как бы задом, как Жопов перед Сусловым, и упал потом в грязь. Не было и близорукости: мы различали оттенки. Но даже самое крайнее – даже когда факты стали выбивать из-под нас почву – мы пытались поставить его, хотя бы в виде орангутана с одной тростью. Даже и в том бесспорном, казалось бы, факте, что его забрал и потом здоровался Епротасов – мы полагали, что выпустили его как с.-д. – «на разводку», – чтоб он собрал кружок и в одно из собраний накрыть всех сразу. А сам он не виноват. Или что если он и подлец, то раньше им не был. Или был, но уже не будет. И даже когда был вышиблен последний костыль, и он упал перед нами, даже и тут мы считали, что это, как снимок в голове, – объективный закон электромагнетизма. Что сознание не виновато, раз все определяет бытие.
Когда мы в том усомнились? После 10 июля. Был разгар лета, стояла жара, летали мухи. Я нес ведро в левой руке (черт, хорошее было ведро). Я должен был красить… Стоп! Я помню, какой это был день. Это было 14 июля.
Как я мог забыть! В тот день я как раз собирался говорить о свободе!
Энгельсгардт говорит, что когда можно будет говорить о свободе, то прекратится всякое государство. Не то чтобы оно мне мешало… я просто хотел проверить: смогу ли? Когда я иду по холодным ступеням наверх, и лезу по арматуре, и головой открываю люк – там дует ветер. Там самое место говорить о свободе. Но я сомневался: ведь все зависит от бытия.
Я выбрал тот день и тот дом – его восемь труб, как символ деспотизма, как восемь башен Бастилии… Я шел и твердил про себя: «Люди рождаются и остаются свободными. Люди рождаются…» – но волновался, и в голове стучало, что бытие всему голова. И еще этот пес! В буквальном смысле – тот белый пес (он потом нелепо погиб), который лаял на всех, а покажут кость и скомандуют: «Голос!» – он только клацает пастью и подпрыгивает, и самому обидно до слез, и долго кашляет потом от слюны. И, вспомнив про пса, вспомнил про Джохансона в Хадаре, когда он показал Грейгу берцовую кость:
– Что ты думаешь вот про это?
Я старался бороться и, поднимаясь по лестнице, сосредотачивался на ступенях, на диалектике их, – казалось бы, все одно, и те же двери, и те же глазки, но все выше и выше, все слабже притягивает земля. «Люди рождаются и остаются свободными!» – шептал я, а сердце громко стучало: «Бытие!.. Бытие!..» И когда участилось движение мух, и сквозь запахи кислых щей повеяло человеческим калом, я подумал, что опять эти жильцы не дошли, обосрались прямо на лестнице, и обругал Геггельса и его Дух: ну как же он посчитал действительность разумной! И тут же приструнил себя: это дети. Не понимают, не могут терпеть, как вдруг наткнулся на тапки. Лицом чуть не наткнулся прямо на них.
Обладателем их оказался гиббон! Тот самый гиббон, который ковырял асфальт, – т.е. что это я пишу: не гиббон, а спортсмен! – тогда, белой ногой, в мае.
Теперь у него была асфиксия, кроме того, сломалась шея, ущемился блуждающий нерв, и перестала идти кровь по сонной артерии. Это все выяснилось в тот же день. Дело в том, что он висел на железной арматуре. Он висел в своих переливающихся шелковых трусах, и это было трагично и возвышенно, как в Древнем Риме. Но вместе с тем, в полном соответствии с диалектикой материализма, он наделал в эти же переливающиеся трусы, и это от них пахло уборной и летали мухи. Я поставил ведро на ступень и пошел к Терентию, чтобы указать ему, что мы упустили из виду небытие. Терентий, как был – в нарукавниках, так и пошел со мной на второй этаж в библиотеку.
– Скорей всего, – рассуждал он по пути, – эта штука ничего не определяет, поскольку бытие уже все определило. Но давай для очистки совести… И тогда уже будем смотреть.
Войдя к библиотекарше, мы так и сказали: что пусть бытие определяет все, но мы хотим быть подкованными на все наши общие четыре ноги, а для этого надо снять с полки противоположный плюрализм.
Библиотекарша смотрит скованно и не двигается с места.
– Ну, там трансцендентность и вся такая канитель, – сказал Терентий, облокотясь на пюпитр, из-за которого торчала ее голова.
Та наконец идет, снимает, семенит обратно, рывком забрасывает на пюпитр. Читаем обложку: «Таблицы трансцендентных». Открываем: сплошные столбцы цифр.
– Так, – говорим, – это мы посмотрим потом повнимательнее, а вот нет ли что-нибудь так, чтобы буквами? Буквами? Про мертвых?
Библиотекарша смотрит испуганно:
– Про мертвых? – на меня, главное.
– Ну да, – говорю, махая шляпой из газеты, – чтоб холодом повеяло. Трагедию там какую-нибудь или что.
Тут она срывается с места, семенит в свое хранилище и смотрим – несет нам опять. «Трагедии».
– Вот здесь, – говорит, – вы знаете, что? Она ведь хотела разрубить его на куски, – слюнит палец, листает, – этого Ромео. А вот здесь: быть или не быть, – нет? Не то? А о нем? У меня предыдущий читатель о нем спрашивал, Козинцева. Нет? Не то? Ну, тогда извините меня! Не знаю! Просто не знаю.
Мы говорим:
– Адвентина Ферапонтовна! Давайте-ка вы не темните и говорите толком: что? Стало быть, эти книги изъяли?
Она заметалась по библиотеке, но видит через очки: деваться некуда.
– Ваша взяла, – говорит, – извините меня!..
Мы себя сдержали, забрали эти таблицы в полном молчании, а они такие увесистые, что, когда мы спускались по лестнице, конторские оглядывались, а один даже оступился и только большой ценой не упал, – и, придя на первый этаж, попытались найти ключ к этим таблицам. Терентий открыл наугад, углубился и, откинув голову, предположил с закрытыми глазами, что фамилия Еикин происходит от е в степени ик, равного косинус плюс и синус, где ик – это какая-то, черт ее дери, мнимая часть, – но ясно же было, что тут всей жизни не хватит, чтоб перебрать все эти комбинации.
– Теперь понятно, – сказал я, – что это за «быстрое преобразование» у этого Фурье. Понятно, что он имел в виду.
– Целомудренно, – сказал Терентий, тяжело дыша, – как в Америке, – и, качнувшись, будто пол накренился, воскликнул: – Однако что же мы! У нас же пробоина в трюме!
– Эх, ё! – спохватился я и, бросившись бежать, хлопнул себя по лбу. – Я же там оставил ведро!..
…Ну, разумеется. Я нашел ту ступень и сел. Одна нога вниз, другая вверх – как в бане, когда украли мыло у мужика, и он сидел, бросив мочалку под скамью. И, как в бане, жарко. Вспотел. Сижу на ступеньках, весь мокрый. Гляжу – поднимается медленно снизу… Фуражка. Потом нос горбом. Епротасов! Терентий ему позвонил. И Енарокову: но тот пешком, а этот на мотоцикле. А я как-то забыл, что вот оно! Т.е. надо было ёкнуть! Но забыл в досаде. Епротасов посмотрел на меня, потом на этого, на Ромео, поковырял для порядка в носу – что было делать? – и сказал:
– Непроизвольная дефекация.
Вот так и свела нас судьба. Он резал петлю на шее, а я держал белые ноги, чтоб все не брякнулось на пол. Тут узел развязывать нельзя: он может сказать о профессии завязавшего. Поэтому петлю режут, а потом сшивают и кладут в мешок. Епротасов знал, что делал. Для него снять Ромео – это тьфу, сказал он. Местонахождение известно, не то что лодка, багор, тина, бон.
– Раз-два, и все, – сказал он, откусывая нитку. – А все почему? А потому что лес рубят, а щепки летят. Как говорится. Щепки летят, а русла мелеют: аршин! Это как его: три фута под килем. Он бы и нырнул, да куда? А ведь каждому куда-то надо. Вот и…
А я, не задумываясь, и говорю как бы между прочим, надевая упавший тапок:
– Щепки щепками, – говорю, – а зачем же вы изъяли все книжки про небытие? Ведь вот же – вы его в двери, а оно к вам в окно. Как говорится…
Неожиданно повисла пауза, я уже испугался, что что-то не то, – но тут пришел Енароков и дал Епротасову закурить. Участковый прищурился на него сквозь дым:
– Ладно, – говорит, – невропатолог, ты тут пока констатируй, а мы с маляром посидим на кухне. – И мне говорит: – Пошли.
Зашли в эту квартиру, куда я звонил, – и только сели на кухне, только начали говорить: затронули слегка дефекацию и перешли на амнезию – глядь, откуда ни возьмись какая-то морская капуста цвета умбры, водка, стаканчики – вот ведь гады! Они скоммуниздили ведро!.. Ладно. Сидим. Слово за слово, асфиксия, амнезия – и вот он уже гасит окурок о подоконник, вот уже мы тихо поем, щурясь от дыма:
- …рано спозаранку
- Старшина милиции задержал гражданку,
- и т.д.
Я опять и говорю:
– А о чем вы тогда, Нота Бене, говорили с Ипатом в отделении?
– Ха! – говорит Епротасов. – Разное говорили… А как ты хотел? Ты что думаешь?.. Да… Например, вот можно ли идти на красный свет. А? Вот ты как считаешь?
Я чувствовал, что он был пьян, но и я тоже был пьян.
– Да что! – говорю. – Почему нельзя! Я считаю!
– Да! – говорит. – Вот ты как считаешь?
– Да если есть стержень в жизни, – говорю, – то не то что, а даже… А свет!.. Что свет?
– Да, вот красный свет – что? Можно или нельзя?
– Да что! Обыкновенный сурик!
– Сурик или этот!.. краплак! – Епротасов поднял палец. – Вот и он то же говорил… А признайся, маляр, – тут Епротасов понизил голос и наклонился ко мне, – ведь это ты этого туда… А?
– Что? – не понял я.
– Из ревности, – сказал Епротасов и растянул черты в безобразной улыбке.
– Что – из ревности? – не понял я.
– Ну, ну! – сказал он. – Проверка слуха. А только правила надо знать.
Он развалился, закинув сапог на сапог, оглядел меня, наклонив голову набок, и запел:
- Ту, что не по пра-авилам
- Перешла Таган-ку…
Я уже был достаточно пьян, но тут усилием воли сосредоточился и вгляделся в него, даже встал, чтоб вглядеться пристальней, потом от волнения отшатнулся и раздвинул приотворенное окно. «Не провокатор ли он?» – ударило с дребезжанием стекла. Хотелось пройтись и осмыслить – не позволяла площадь кухни, я только развернулся и сел на подоконник. Но, глядя сверху на железные кровли, – все лежало под нами – я понял, что кровли красили мы, зеленой, красной и голубой краской. Я вгляделся еще раз, гордо. «Нет, не похоже», – смахнул вниз окурки, набрал в грудь воздуха и громко подпел:
- Эх! Старшина, старшина-а,
- Перешла Таганку.
Потом мы спели еще «Самолет поднимается выше и выше», и кончилось тем, что на кухню уже зашел Енароков и в ответ на мой настойчивый вопрос ответил сдержанно и с иронией, как Леонид Абалкин на съезде Советов:
– Я тебе дам. Есть у меня одна.
И Епротасов сказал, что у него тоже есть и он тоже даст. Некоторые стараются протрезветь, когда пьют, и даже, кривясь и пересиливая себя, едят лимон – я этого не понимаю и всегда пьянею быстро и до конца. И Епротасов сказал, что и он тоже, и мы с ним чокнулись по этому поводу. Он дал мне еще и нитки, чтобы я сшил эту книгу заодно, которую он мне даст, потому что она разъехалась в разные стороны. Енароков молчал, пока не начали петь «А у нас во дворе», и тогда сдержанно подпел, поправляя легонько очки, особенно когда пели:
- А я все гляжу,
- Глаз не отвожу, —
а Епротасов делал «Па-па-пам», притоптывая каблуком, а потом нагнулся ко мне, положил руку на шею и, глядя мутными глазами опричь, продышал:
– А по Джульетте плачет статья 107.
Еще они показали мне феномен кошачьего глаза. Потом завели мотоцикл, погрузили в коляску этого Ромео с привязанной к рукам биркой, потом погрузились сами, долго благодарили меня в синем дыму за то, что я подобрал упавший мешок и погрузил его вниз туда же, и я не заметил, как уехали, только когда пошел в синий дым, прошел его насквозь, запнулся за бордюр и, нащупав рукой, сел на него.
Если бы я знал тогда, какой удар готовит нам Енароков… Это в него надо было вглядеться, вслушаться в его подозрительный голос или хоть бы я заглянул в нее по пути, хоть бы Терентий не знал! Нет: не то что не уберег – я запутал Терентия. «Танатология», наука о мертвых, всего 200 страниц, кратко и буквами. И как мы бросились к ней открыто, всей душой ухватились за нее, и уже взяли карандаши, чтобы делать отметки, – и какой же удар ниже пояса ждал нас… Прочитав только первую страницу и посмотрев приведенные фотографии, мы бросили эти карандаши – не уронили, а именно бросили с силой – и стали ходить по комнате, а потом открыли дверь и в сильном душевном волнении пошли в разные стороны, стараясь не глядеть ни на кого.
Все стало ясно: и почему все это скрывают от нас, и вообще. Мы потонули в словах, как в авгиевых конюшнях! Мы захлебнулись в них, как пьяные в собственной блевоте! А ведь вот же они – кладбища.
Что? Тот гигнулся, тот в ящик сыграл, а Кондобабовы что – дуба дают? Да понимаете ли вы, что ирония здесь неуместна?
Теперь вот еще:
– Бпф… – шаря длинными пальцами на груди – что с ним? – быстрое преобразование Фурье, а что это? Что такое? На все одно слово – небытие: где-то там, в сумерках, ушел под бон, под эту зеленую слизь, описал дугу – по трубам, да? – и вышел туда, в утро, за ограду, и опять солнце шумит, деревья светят, а где небытие?
Так вот оно. На этой цветной фотографии, где кто-то голый, со спины, с опущенной головой и признаками стагнации – я вглядывался в этот зад, стараясь понять, кого же он мне напоминает, пока не понял, кто это. Это же я! Если не я, то кто же? Это я! Это я с признаками стагнации! Тогда я бросил все и пошел.
Этот долдон филолог еще смеет упрекать нас, что тут живые носы.
Да если бы! Если бы от меня, если бы от Терентия или хоть от кого-нибудь остался хотя бы один живой нос в результате этих усилий, и продавали бы среди этих картин, в этом салоне или хоть на этом Арбате – я продал бы все и купил бы.
– Ну, как жизнь? – спрашивал бы у него.
И вытирал бы ему сопли. Я подставлял бы платок, и он бы сморкался туда.
– Ничего, – говорил бы я.
Потому что любой нос – и такой широкий, как у итальянца Марчелло Моретти, с чувственно отверстыми ноздрями, и горбатый, как у Епротасова, в котором только и делать, что ковырять пальцем, и нежный, подрагивающий, как у наших знакомых, когда их губы говорят: «Заткнись», – любой нос, когда он живой, он лучше, чем фиолетовый, раздувшийся мертвый нос.
Главное, когда он начнет раздуваться, – тогда якобы и пойдут бурные процессы жизнедеятельности, и даже утопленник в это утро всплывет со дна и поплывет, несмотря на привязанные к ногам гири, – ну, как можно писать такое! Не знаю – или они там с ума все сошли, или это издевательство над нами.
И с Ипатом все стало ясно сразу. Конечно. Я подумал, что это я, с поникшей головой, Терентий подумал, что это он, и мы вместе подумали, что тогда какой вопрос. Тогда какая разница! Мы даже хотели зайти и извиниться, но было заперто – Терентий пошел узнать. Я помню, я стоял, уперев руки в боки, и безумная мысль овладела мной – толкнуть эту шатающуюся стену, и пусть обрушится все нелепое здание и задавит нас. Я даже отнял руки с боков – и не помню, что меня удержало.
Вообще – пробоины в памяти того времени, одна за другой, и только обрывки, как загнувшиеся лохмотья шпангоутов, – еще помню, как мы сидели с Терентием, упираясь лбами, и пили осиновую, которую он доставал из портфеля, одну за другой; как мы кричали сдавленно, по обе стороны от коридора, как раненые: какая рраздни…
…какая раааааааааааааааааааааа!
з ррррррррррррразд итса: ? . а ыл / « – и ы : п
в колпаке или без.
Как я красил ограду Виноградова, и думал, что мое место там – в проступающей красноте сквозь жидкую зелень, и вдруг спохватился – сколько еще осталось? – и метнулся, оставив банку, – сколько?
И те грязные потеки в раковине. Я включил свет и наблюдал их – когда вышел Ипат в носках, неся мокрые босоножки, и поставил на теплую трубу, и пошел – состучало – вернулся, так как они упали; положил каблуками кверху – они упали опять; они падали без гвоздя, – как сказал поэт, – а там у него, за спиной, в синем полумраке, на раскладушке кто-то сидел, поджав ноги.
Потом пришел Терентий и сказал, что они ушли через весь город куда-то в то место, куда уходит Немчинов ручей. Потом ушел.
Через час вернулся опять:
– Немчинов ручей! Земцы. Может быть, немцы?
– То есть как далеко это все! Как далеко! – отвечал я. – Ну, потолок, ну, кровля, ну, повыше, если закачать от компрессора, – так ведь ты еще и удержи его, брандспойт, не всякий удержит, – но как же мы, маляры, не увидели сразу, что это еще выше и что никаких материалов не хватит! Какой тут материализм – и тут же в порыве жалости я вскочил и схватил его за рукав, потому что он такой старый.
И тот сон… Что они идут в темноте, и сыро, и ветер, и он набросил колпак – на нее, а накрыло меня, и сразу стало тепло, но колпак был велик, и одна дыра для глаза оказалась около уха, а другая около рта, и я, чтоб увидеть огни, – ибо надо было увидеть огни – задирал голову и крутил головой, потом проснулся с бьющимся сердцем и хотел тут же идти к ним обоим и сказать, что, конечно, какой вопрос, да хоть в чем! И встал, и пошел – как был, босиком, но свернул в курилку, желая прежде надеть на себя ведро и в нем зайти к ним – и опустился на корточки, но ведра-то и не было. Пустое место в углу, и было особенно грустно.
Как покой соль минор для чистки унитаза – когда она уже окончена, и только вода – течет и течет, прозрачная, холодная, и так светло и твердо, после всей этой склизи, а в открытую дверь доносятся «Зимние грезы» – и я понял его, когда он полощет в холодной воде. Вот когда довелось. Но я не пошел к нему. Это ново. Я не двигался с места, уже стало холодно, а я только сидел, разглядывал трещины в потолке и думал: «Почему? Почему? Как совместить? Как состыковать все это в одно?»
Не знаю, как нам удалось отойти.
Терентий говорит, что он опомнился раньше. Он вышиб клин клином: открыл книгу, данную Епротасовым. Я-то уже зарекся открывать. Я открыл было, но увидел опять голую задницу и сразу захлопнул. Нет! Хотя трудно понять, что это было: там вырвана большая часть страниц. И все-таки он прочитал – из того, что осталось – и одно место как-то дошло до меня.
Это про голых. Там все, что у них осталось, – это их маска. И вот эти голые жалуются в один голос, как трудно жить в маске. И то в ней не так, и это, и дышать трудно, и слышать трудно, и все трется, ресницы трутся, особенно у кого длинные, и слезы текут… И только Марчелло Моретти, итальянец, говорит, что маска ему нужна. Что без маски он чувствует себя голым.
– Стойте! – подумал я.
И так совпало, что под окнами как раз прошла рота военных строителей:
– Эрез-дева-тери… Эрез-дева-тери…
И затихла. Очнувшись, я увидел, что упустил некую мысль. Фигурально говоря, только ветки качались. Я бросился в погоню и вспомнил про утробное состояние – что нас завораживают эти шаги, потому что мы помним стук сердца матери – и тут же про одну знакомую, которая стучала себя по животу, когда ей было тоскливо и одиноко, потом про подшипники, и понял, что это уже просвет, и пытался возвратиться назад, но увы. Мысль исчезла, остались только примятость травы и окурки, т.е. банальный след, вроде того, что, дескать, есть еще что-то, чего мы не знаем пока.
Потом произошло событие, о котором до сих пор идут разные толки. В начале сентября, чуть ли даже не 1-го числа… Вероятнее всего, было так. Птицы и дети молчали и ходили раскрасневшиеся, одухотворенные и в чем-то белом (еще один аргумент в пользу 1-го). Внезапно хлопнула дверь – и в сторону убывания нумерации побежала голая баба. Да так настойчиво, что проходившие мимо четыре инженера с повязками с трудом ее удержали.
Мы специально оговариваемся: «вероятнее всего», ввиду разных версий. Одни говорили, что дверь распахнулась сама, другие – что это она ее распахнула голыми локтями и коленками. Позднейший вариант: мужик распахнул, ответвление – мужик, насмотревшийся порнографии, распахнул некую дверь, а на него выскочила голая баба. Есть версия, что не совсем голая, а все-таки в сапогах (было довольно грязно), уточнение – в кирзовых, «в больших кирзовых сапогах на босу ногу». Еще одно: что когда мужик распахнул дверь, и на него выскочила голая баба, то он испугался и тоже побежал, и даже договаривались вовсе до того, что бежал-то голый мужик, а ее вовсе не было. Даже возникла песня:
- Бежал по полю Афанасий,
- 7 8, 8 7,
- С большим спидометром в руках
- от самосвала и т.д.
При ближайшем рассмотрении, все-таки надо признать, это был женский пол. Как кого, а меня убедил в этом случае разговор детей, случайно подслушанный мною, когда я сидел с банкой у связанных цепью чурбанов, делая зеленого крокодила. Известно, что восприятие их страдает особой непосредственностью. Так вот, я слышал, как один из них крикнул:
– Не было!
А другой крикнул:
– Была!
И тут же стоял третий, засунув руки в карманы. Узнав, о чем они спорят, он огляделся, сплюнул и тихо сказал:
– Не было у нее никакой сикалки.