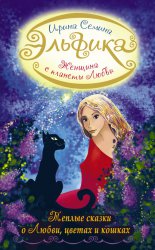Клопы (сборник) Шарыпов Александр

А также и то, что касается толкотни. Все сходились в одном: что в объятиях инженеров точно была баба. Это же было как «остановись, мгновение», т.е. глядя из окон, как они мучаются и топчутся вокруг, – а один даже упал в лужу, со всего маху, так, что даже слетели очки, – и слушая крики «блядь», вылетавшие оттуда, жильцы улыбались не дыша в предвкушении обсуждений, и это было так долго, что все рассмотрели в подробности, не знаю, как только вытерпели до конца.
Потом мы отыскали прохожего, который проходил в непосредственной близости и видел возню – но он говорил, что все они были голые и мокрые, так как накрапывал дождь. Он даже якобы замедлил движение и спросил, что они делают, и один инженер, с бородой и в очках, ответил:
– Моемся.
И еще один, бывший командированный, во всех распивочных утверждал, что якобы он – единственный свидетель, от которого все и пошло, и умолял со слезами в голосе, что она была не голая, а голубая, «голубая и чистая, как сама невинность», и всем остальным, кто возражал, что никакая не голубая, а именно голая и вся в грязи по самый низ ягодиц, – он говорил, что «это тебе приснилось», и лез драться, но ему говорили, что если он командированный, то пусть сядет и тихо сидит. Нельзя отбрасывать этот отрезанный ломоть, однако и допустить, что приснилось всем сразу… Этого быть не могло.
В довершение мы узнали, что и этот Ромео вдруг ожил. Его стали видеть во многих местах. Это уже вообще ни в какие ворота не лезло. Не может быть, чтоб было так много одинаковых людей. Через квартал, правда, опять повесился, но факт остается фактом. Мы смотрели из мутных окон, и это было, как демонстрация у здания посольства. Все факты склоняли нас к одному: есть нечто, друг, как говорится, Горацио… Да.
Когда Терентий – он дремал, придавленный этой бетонной плитой, этими «Таблицами трансцендентных», когда я вошел к нему, – осоловелыми глазами обведя все вокруг и остановившись на отметке «Нота Бене», стоявшей на полях параграфа «Многочлен Гегенбауэра», высказал мысль, что симпатия, может быть, выше небытия – я не придал значения и отмахнулся. Да он и сам не был уверен и уснул.
Но потом он вламывается ко мне уже совсем взлохмаченный и мокрый, в сапогах и с опавшим листом, и огорошивает меня:
– Бытие, небытие – все это внешняя оболочка! Пузырь! Околоплодовые воды! А главное – кто с кем спит!
Я начал было возражать (вяло), но он перебил меня:
– Любовь… Любовь – всему голова. Все от любви! От любви мы умрем! Но от любви же мы и возникнем. Все остальное – околоплодовые воды. А это… Это, брат ты мой… – говоря это, он ходил взад и вперед, расставив руки и ища слово, в большом возбуждении, так, что даже окно запотело, – не то что рельсы в два ряда! – и вдруг запел: – Вода, вода! Пара-брам па-ра-па-пам…
– Но у нас другое, – начал я.
– Что! – закричал Терентий. – Какое другое? У нас это же… Да, – спохватился он и даже как бы вздрогнул, – я чего пришел… Где твоя знакомая, которая плакала?
– Не знаю, о какой знакомой ты говоришь, – начал я, – но…
– Да брось ты! Я спрашиваю риторически! Где она? По-твоему, в небытии? Как бы не так! Она просто спит. Вот здесь, за перегородкой, спит с Ипатом.
– Как, с…
Я заглянул в трещину – никакой знакомой за перегородкой не было. Вообще через конторских я знал за Терентием слабость, что он, например, всегда брался за шапку и накидывал пальто и чуть ли уже руки не засовывал в рукава, стоило его обдуть проходящей юбкой, или он видел сокращение мышц через эту юбку – будь то даже на совещании у Пиночета, когда секретарша разнесла чай и уходит, – он все порывался уйти с ней, так что даже на укоризненные слова о том, что ситуация сложная и как ее изменить, отвечал, что никак, кроме как изменить может женщина. Поэтому и насчет знакомой я воспринял тогда как гиперболу – а сейчас думаю, что она могла и пригнуться там за столом или брякнуться на пол вдоль раскладушки.
– Я с самого начала подозревал, – говорил Терентий, шагая из угла в угол и тряся пальцем, – что тут что-то не так. Где не сведется баланс – у меня на это чутье! Брат ты мой. – Он стал писать пальцем на запотевшем стекле: – Р – С, – Рождение – Смерть. И все? Но где же тут логика? Что же – никого нет? Как же так? Надо перевернуть: С Р. Так как мы есть. Все ж таки. Нас не было, да, но вот же мы. Подожди, это не все! Для общности баланса объединяем с первым… Здесь ставим штрих, а вот это следует растянуть: С… С, так как здесь, в середине, присутствует некий процесс… Обозначим его – как? Ну-ка?
– Фэ, – сказал я, имея в виду Фурье.
– Правильно! Некий процесс спанья, обозначаемый нами Фэ: Р – С… Ф… С – Р' – Рождение – Смерть… Смерть – Рождение штрих; а вот здесь вот – Фэ – Фам! Вот оно! Шерше ля фам! Вот что мы упустили! Вот же вокруг чего шар-то голубой, понимаешь, вертится!
– Но с чего ты взял, что моя знакомая должна спать с Ипатом?
– А все дело в том, – тут он подошел ко мне и повернул мою голову к свету. Выпятив губу, он рассматривал меня так и эдак. – Все люди в чем-то похожи… Это как деньги! Как капли в бане! Поэтому у них и знакомые одни и те же!
– Как одни и те…
– Всеобщий эквивалент! Только у него вот тут такие – как медные пятаки!
– Подожди, не все сразу. Как зовут его знакомую?
– Так же, как и твою: в данный отчетный момент – Лиза К.
– Подожди, – сказал я, сев на кровати, – я еще не понял, что это нам дает… Но как же так получилось?
– Гносеология этого такова, – и Терентий стал излагать, ходя и расплескивая лужу на полу.
Если даже уж обезьян тянет к образованию (отбрасывая долгопятов), и если женщины тоже люди (отбрасывая робустный тип), то разумно предположить, что их тянуло не к какому-то субъекту, а к образованию как таковому. В рамках такой гипотезы все было ясно и беспредельно. Терентий, пристававший к ним в коридорах, чувствовал себя как часовой, зашедший за свою караулку и вдруг увидевший далеко во все стороны света. Далее они все-таки останавливались, разевали рот и начинали метаться («Как вектор Омега между действительной и мнимою частями», – выразился Терентий, изобразив это руками в воздухе.), после этого иногда попадали к нам – в результате многократного переотражения от стен, т.е. дисперсии в темноте («и всегда после этого плакали»), – но в основном к Ипату.
Это произошло и с той пресловутой бабой, которая, едва дождавшись 1 сентября, бравировала в грязи без трусов с полевыми цветочками, как Марчелло Моретти без маски с завязками.
Я тут же поставил себя на место женщин, как они живут среди этих ублюдков, и мне стало так жалко их существования, что я поверил Терентию всей душой.
– Я даже боюсь, не хватил ли он через край со своим образованием, – сказал Терентий.
Потому что когда они падали на его раскладушку, у них разом отшибало всю память – это, конечно, могло быть опасным. Возникало какое-то поле амнезии и распространялось всепобеждающе.
– Даже я! – признался Терентий.
Даже Терентий, стоя в коридоре и грустно глядя в замочную скважину, сам начинал приседать и приплясывать, а один раз, не выдержав, бросился сломя голову и помчался, что есть мочи, к невропатологу, зажав рот руками. Многие видели его бегущим и останавливались в недоумении. Подбежав к кабинету на исходе сил, он распахнул дверь и выпалил:
– Та-да-да-дам!.. Та-да-да-дам!.. – и, в бессилии поводя руками ото рта и вокруг всего, – что это за… Что это, доктор?!
– Это судьба стучится в дверь к глохнущему Бетховену, – ответил Енароков, глядя поверх очков.
Замолчав внезапно, Терентий огляделся вокруг. Он стоял посреди комнаты.
– Фу, как стало тихо, – вздохнул он. – Фу, как хорошо…
Я также в недоумении оглядел свои руки, ноги и самую дверь – и поймал себя на том, что стою почему-то у самой двери и что самое главное после всего изложенного, действительно, как ни странно, бытие и небытие как бы отодвинулись на второй план.
– Даже в ушах заложило, – сказал Терентий и потряс одно ухо.
– Подожди-ка, – сказал я, возвращаясь обратно и садясь на кровать, – кроет. Кроет-то она кроет, и действительно кроет, но кто кроет? Терентий? Прислушайся: это же не симпатия кроет!
– Симпатия, – сказал Терентий.
Я взял книгу про Марчелло Моретти, открыл ее на том месте, где голый зад, вгляделся в него пристальней… Действительно, мне стало казаться, что этот зад больше походит на мой, чем тот, в «Танатологии». Ну да… С чего я взял? Вот же я! Вот же мой зад!
– Не может быть, – сказал я, захлопывая книгу.
Как-то что-то не стыковалось. Мы замолчали.
Не знаю, о чем думал Терентий. Впрочем, не помню, о чем думал я сам. Могу лишь предполагать, что мысли наши, первоначально шедшие в одном направлении, постепенно разошлись, так что каждый стал думать о чем-то своем.
Терентий нарушил молчание первым.
– Тяжелый пошел, – сказал он.
Я посмотрел на него в недоумении, и мне понадобилась не одна минута, чтобы соотнести эти слова с дребезжанием стекла, и тогда я понял, что он имеет в виду пролетающий над Чугуевом самолет.
– Так я что хочу сказать, – начал я.
– Конечно, ты прав, – сказал Терентий. И положил руку мне на плечо. – Никакая это не симпатия. Какая же это симпатия? Это антипатия! Брат ты мой…
Я почувствовал, как горячая краска стыда заливает мое лицо.
– Нет! Небытие-то кроет симпатия, – сказал Терентий, но все дело в том, что антипатия тут же кроет ее самое.
– И отсюда вся неприязнь, – сказал я, закрывая лицо ладонями. – Фу, какой срам. – Фу-у… – Я даже упал на подушку, впрочем, тут же поднялся. – Срам-то какой! Надо сейчас же пойти извиниться.
– Сейчас единственное, что надо – это не наломать дров, – остановил меня Терентий. – С чем мы придем к нему? С пустыми руками?
– А у тебя нет ничего?
– В том-то и дело, – он сел на стул. – Я же только теперь все понял. Надо хотя бы что-то, я не знаю, наметки платформы! А иначе же мы вернемся на круги своя.
* * *
Нота Бене.
Пусть не подумают, что нам не известны иные вещи. Что вдумчивый муж обязан погладить жену свою и пожелать ей спокойной ночи, до того как впадать в сон, оглашая пространство храпом, и т.д. и т.п.
Мы сознаем все величие женщин, равно как и тот факт, что они все понимают. И никчемность такой жизни, и тщету нежности среди этих ублюдков, а если не могут сформулировать и выговаривают только простые слова – то виной тому худое питание, промозглая сырость и отсутствие марок. Да! Лиза К. не могла выговорить «Гегенбауэр», «оверштаг», «Гогланд», а выговаривала только какие-то кубики, например:
– Его я люблю, а без вас жить не могу.
То есть мы выступаем важным подспорьем… Или взять эту чертову бахрому. Как же мы намучились с ней… (Она ей снилась.) Как только мы эту метафору ни трактовали. Елей ресницы и прочее… Казалось – стоит проникнуть в нее, в бахрому, поблуждать в ее тайниках – и мы найдем ключ ко всем тайнам Бытия и Чисел. И что же? Когда оказалось, что это хреновина из желтых ниток для панталон из журнала «Отто – просто здорово», у нас возникло сопение из носа…
По отношению к кому? к этим ублюдкам? может быть, к немцам? Как бы не так! – к ней же, Лизе К., нашей знакомой.
Свозить бы ее за рубеж, задать хорошего корму, накупить этой чертовой бахромы! Но нет марок. И карандаш ломается, рвет бумагу – в результате начинает казаться, что антипатия кроет небытие.
На самом деле антипатия падает перед нами, как бетонная плита на наше промозглое бездорожье, и мы отшатываемся от неожиданности и начинаем разглядывать обляпавшую нас грязь. А если подойти к ней, попытаться поднять ее, эту плиту? Там бездны.
Мы с Терентием поднимали. И видели бездны. Было желание кинуться, забыть про этого Коха…
Но как вдумчивый муж не включает свет, какие бы мысли ни пришли ему в голову, – так и нам да позволено будет не освещать иные вопросы.
Сейчас мы сознательно выносим эти вопросы за скобки – как сказал Валентин Павлов, ударив двумя ребрами ладоней по столу. Потому что записки наши могут быть предназначены детям – остальные поколения, считай, уже списаны – и как бы наше косноязычие не нанесло тут вреда.
Мы ограничимся лишь кратким перечнем заведомо ложных версий.
Первая: прямохождение преходяще. Мы как бы уже устарели.
Терентий, помню, как шел тогда с книгой, так и сел.
Выходило, что в будущем человек опять будет двигаться не на двух. На четырех, но эрогенными зонами кверху (ранняя версия), или вот как дельфин. Дельфин важен еще и тем, что разговаривает не словами, а щелчками и звуками, вылетающими непонятно откуда – как и общались они с Ипатом, оставаясь наедине.
Далее: Г-стратегия.
Есть К-стратегия – вся эволюция двигалась по ней, к увеличению мозга. И когда уже почти дошли, когда уже у гориллы течка стала раз в шесть лет – человек-то как раз отделился и пошел назад, к Г-стратегии. А на том конце очень много яиц. У устрицы, например, за сотню миллионов.
– О-о! – стонал я в подушку, – как же так…
Наконец, мы докатились до того, что топор он взял, чтобы отрубать крайнюю плоть, из соображений гигиены.
Ну, и довольно. После этого пришли холода.
* * *
Все же неравнодушная у нас эта природа…
Налетел белый снег… Мы высунули в форточки свои горячие головы… Снежинки садились и таяли… Воздух проникал в грудь… И мало-помалу все эти гадкие тезисы вышли из наших душ и развеялись подобно угару.
5 октября я шел к памятнику Николаю, неся немного рябин.
– Проклятое тело! – шептал я сдавленно и бил по нему, стараясь попасть по голове. – Но где же мой Дух? Почему он молчит?
Ягодки отрывались и падали, напоминая мне бусы, разлетавшиеся от одной знакомой, которая плясала в угоду ублюдкам, которые хлопали.
«Ну, хорошо, – думал я, останавливаясь. – Хорошо… А почему он ходит смурной? Вот вопрос. Она даже пуговку от фуражки его срезала и засунула… В ухо свое, – а мы-то думали, куда она делась, что за черт, – так почему же Ипат ходит смурной? Неужели мало ему Лизы К.?»
* * *
Я смотрел на мокрые плечи, на голову Николая – только растаял снег – и понимал, что еще далеко не все.
Надо искать и бороться – черта с два мы устарели! – если потребуется, всех людей поставить ребром, как писал Николай.
Покрывшись гусиной кожей, я взглянул на себя изнутри – и такую испытал гадливость, что терпение мое лопнуло. Развернувшись, я пошел в общагу. Я прошел через коридор и толкнул дверь.
– Терентий! – сказал я. – Давай возьмем хоть первое что! Вот хоть этого – этот, рябой, сын сапожника, бывший семинарист… Как же его…
– Томмазо Кампанелла?
– Да! «В городе Солнца жены общи» – возьмем за основу и пойдем! Я больше не могу. Или раздавить нас, как каракатиц… Тьфу! Или я пойду извинюсь.
Терентий поднялся нехотя.
– Рискованно… Это же поражение…
– Надо вывести баб за скобки, все равно останется неприязнь!
– Рискованно… Вдруг не останется…
В коридоре он вовсе обмяк:
– Потом, он же не приглашал…
Но я уже толкнул дверь, и если бы только Ипат никуда не уехал, то было бы поздно. Но дверь не открылась. Я толкнул сильней. Тщетно. Дверь была заперта.
– Пойду узнаю, – с видимым облегчением сказал Терентий.
– Уехал на станцию, – развел руками, возвратясь.
Этого мы не ждали. Что он может уехать в Питер! Я имею в виду Ленинград.
Сначала меня зло взяло: что такое, как ни придешь – все заперто. Потом охватила радость: как мы могли забыть! У нас же еще Питер! Вот где все отлетит! И тут же, как острый нож: это же все, что у нас осталось… Последняя колыбель…
Конечно же, я поехал. Как раз три выходных на Пономаревскую. В том же вагоне. Вагон от Чугуева один, прицепной.
Я успокаивал себя: что такого, что в Питер, даже Протопопова ездила в Питер и даже будто бы завещала, чтобы ее похоронили, дуру, у Петропавловского собора… Отпускало. Потом накатывало опять: мне представлялось, что выходит Ипат, и питерчанки бегут к нему, на ходу сбрасывая с себя все, и бросаются перед ним, вдоль всего Невского, и он перешагивает через них и топчется в колыбели… Я метался в тамбуре: беда! Беда!
Поезд пришел 6-го, в 14.30. Пнули ногой по задвижке, с визгом упала плита. Открыли закопченные двери…
Ипат уверенно вышел. Я ослабел совсем. Главное, он уверенно вышел, сразу пошел на вокзал и остановился у памятника Николаю. Я вбил себе в голову – не знаю, с чего, – что он за этим сюда и приехал: чтоб отстоять, как столпник, и уехать обратно, тем самым придавив нас всех.
Эти пронзительные минуты… Прошел час, другой…
Потом он начал бродить. Мне, естественно, полегчало. Третий, четвертый час… В общем, что говорить. Я еще не знал, кого он ждал, – но ясно было, что ему нет дела до Николая.
Когда наступила ночь, он сел на диван и провел ее в каком-то оцепенении. А я продрог на этом вокзале до мозга костей и выходил шагать на проспект, чтоб согреться. «Сейчас все отлетит. Тут тебе не голые задницы. Тут метроном», – думал я, шагая под розовыми фонарями.
Мы снялись в 5.20. Было утро Конституции Дня. Он долго стоял на мосту, отделявшем П-ю сторону от В-й. «Взглянул он. И медленно в сумрак ушел. Ища, ничего не нашел», – как говорится в одной балладе.
Улицы спали. Он ковылял на своих каблуках. Я следовал чуть поодаль инкогнито.
Остановились в 6.40. Он вытащил из кармана конверт, вгляделся в него, потом – на стене – в номер. Потом нагнулся, вычистил конвертом башмаки – и, пройдя мимо дверей, свернул за угол дома. Бредя в 6.43, я увидел там баки и поднял голову вверх. Табличка: «Общежитие уборщиц».
Я думал, что он отбавляет, поэтому зашел в подворотню – поприседать. Его не было минут двадцать. Я уже начал беспокоиться, наконец в 7.03 является, неся какой-то пакет.
«Повнимательнее надо», – подумал я. Он вошел в дверь. (Уже потом я узнал, что за баками крытый рынок.) Поговорил с вахтершей. Я не слышал через стекло. Видимо, она возражала, потом махнула рукой: мол, что с вами делать. Он умел разговаривать с бабами.
Они ушли вместе, это дало возможность пройти мне.
В коридоре был полумрак, возле фикуса я удачно разминулся с вахтершей. Пошел дальше… Красный уголок… Телевизор в углу… Кухня… Все как у нас.
Напротив кухни шептались.
– Я ждал тебя с трех часов и до ночи.
– У нас был экзерсис.
– А-а.
– Который час?
– Восьмой.
– Садись, сейчас я встану.
Стараясь не скрипеть, я шагнул в темноту – слева туалет, спереди мойка, справа номера – я был как дома – и заглянул в щель. Горел синий ночник. Ипат на стуле. Рядом кровать.
На подушке длинные волосы. «Вот они», – подумалось мне.
– Сейчас я встану, – шептала она. Но чего-то ждала – может, чтоб он возразил.
Но ему что-то мешало. Он тоже чего-то ждал. Потом спохватился:
– Я не мешаю?
– Нет, нет, – сказала она и села в доказательство того, он отвернулся к окну и, как будто ему тяжело, сунул руку за пазуху.
Она шуршала бельем и расчесываемыми волосами, из-под самого моего носа выполз таракан и пополз по стене. Я слегка распрямился – и упустил некую мысль.
– Молодой человек! – вдруг раздалось сзади.
Я обернулся и увидел уборщицу в халате до пят и с сигаретой в руке.
– У вас спичек нет?
Я мотнул головой.
– Жаль.
Она ушла в коридор. Только я собрался опять приникнуть к щели, как вдруг:
– Я пойду помою, – совсем незнакомый голос, у самых дверей.
Я отпрянул и шарахнулся в коридор. Я уже рванулся и дальше, но услышал глухой стук, зашумела вода, – я замер. График уборки, висевший напротив, кувыркался в моих глазах. Что еще за таинственная незнакомка? Ничего не было слышно.
Шумел кран, вода в трубах и в раковине. Она говорила про какой-то прогон, который все время грязный, он только хрюкал в ответ. Я взглянул вверх: получается не фонтан, но не могу по-хорошему перечесть, потому что и сейчас хожу ходуном при воспоминании о невыносимых минутах. Только бы дописать да к чему-нибудь перейти. Он спросил ее о чем-то, она ответила, и тут стало тихо: кран приумолк. Я стал слышать.
– …быть интересен?
– Интересен, не интересен…
– Тебе трудно видеть меня?
– Как тебе объяснить…
– Не надо объяснять: да или нет?
– Да. Я иду на встречу с тобой, как на казнь.
– Понимаю.
Он помедлил и еще сказал:
– Так…
Потом двинул стул. Я был на пределе, еще немного – и я бы ворвался туда, извинился бы перед нею и спросил у него: что именно он понимает? Но вот он сказал:
– Так и запишем. Ну, я пошел.
– Подожди, я провожу тебя.
Я шагнул на кухню и – как в менуэте – присел за холодильником. Скрипнула дверь. Шаги, постепенно стихающие. Голос той незнакомки:
– А груши?..
Тишина.
Я вышел в коридор, увидел светловолосую незнакомку – и такую грусть в ее светлых глазах, что жалость пронзила мне сердце. Я дотронулся до нее:
– Вам не нужна книга про Марчелло Моретти?
Она взглянула мельком:
– Что?.. Спасибо, у меня уже есть.
Ей тяжело было держать огромный пакет с грушами, тонкие руки опускались. Тут я решил по-мальчишески схулиганить:
– Вы разрешите? – и достал из пакета самую большую и желтую.
– Да, пожалуйста, – сказала она, не глядя.
И, поднявшись на цыпочки, крикнула:
– Счастья вам!..
То есть она не могла сформулировать и не то хотела сказать: какое тут счастье? Я шел, чавкая грушей, она капала, злорадство уже овладело мной, – и тут та, длинноволосая, стоявшая у вахты, обернулась. И все эти буквы, красные, на голубой решетке для писем, врезались в мою память – так, что я до сих пор не могу забыть.
Это была Алена К. – из всех моих знакомых самая хрупкая, с самой маленькой – от больших нагрузок – грудью. Ее фотография висит у меня на стене.
Увидев меня, она подняла брови:
– Ты что здесь делаешь?
Я хотел сказать: «Ничего не понимаю», – но поперхнулся грушей. Я прошел мимо, не глядя, на улице остановился. Она стояла в дверях. Дул сквозняк, ей было холодно. Я хотел сказать, что погуляю немного и приду, но опять поперхнулся грушей. Она поежилась, хрустнув костьми. Это последнее, что я видел. Больше я не видел ее.
О, Господи. Давайте к чему-нибудь перейдем.
Не знаю, где меня носило в тот день. Я поворачивал, сам не свой, в какие-то переулки… После того как мы чуть было не нашли этот способ движения глупым, я припал к нему, как ребенок, и все ходил, ходил, даже, помнится, прыгал, стуча в ладонь кулаком. Потому что человек не может чувствовать все чувства сразу, а только одно после другого. Опоминаясь время от времени, я задумывался: чему, собственно, радуюсь? Потом опять радовался: я же говорил, что в Питере все отлетит! Адмиралтейским ли шпилем, столбом ли этим, вздыбленной лошадью или проспектом, пролегшим до площади Восстания, – Ленинград доказал, что ходить надо прямо.
Один раз екнуло сердце: у конного Николая. Эти кони… Там стояло несколько питерчанок. Я подошел… Затаив дыхание… Голых там не было. Там сидел голодающий борец за независимость профсоюзов, в ватнике. У меня окончательно отлегло.
Всмотревшись в его лицо, в его суровые серые скулы, я снял шляпу – и больше уже не надевал ее в этот день.
* * *
Впоследствии оказалось, что в этот же день под монументом Екатерине были найдены бронзовые мужики, которые – кто большим и указательным пальцем, кто ребром ладони на предплечье, кто с помощью раздвижной подзорной трубы – намекали на некий размер, и несколько питерчанок устремились туда. Но и там не было голых.
Так и подпрыгивал со шляпой – держа пальцами у груди и выкрикивая разную глупость: «Эх, тачанка, питерчанка!» и т.д. и т.п. Я был пьян от воздуха, дыша полной грудью. Когда сверкнуло под конем Петра, и горнист на сторожевом корабле заиграл вечернюю зорьку – я чуть не расплакался. И подумал: «Разве во мне дело? Что – я?»
И устремлялся все на Васильевский. Я имел смутное понятие, где он находится вообще, но почему-то хотел именно на Васильевский. Не знаю, почему.
Опомнился только ночью – увидев, что Т-в мост, по которому переходят Неву, разведен. Это несколько отрезвило меня. Был уже третий час ночи. Инстинктивно свернув за прямоугольные кусты, я увидел оттуда, что какие-то двое стоят под фонарем. Возможно, ублюдки. Я пошел от греха подальше – и тут, возле туалета, наткнулся на деревянную бочку, набитую отрубленными головами. Головы мерзко улыбались при свете лампочки. Они, кажется, тоже были деревянные, но это показалось мне зловещим предзнаменованием, поэтому я отпрянул и не стал подходить. Протрезвев окончательно, я надел шляпу – и, пройдя дворами на Б-ю П-ю, поймал такси. И благополучно добрался до вокзала.
А Ипат? Бывший товарищ?
Если бы сбылось невольное – она не то имела в виду – пожелание незнакомки, то интересно было бы поглядеть, как бы он вывалился из вагона с радостно раскрытыми глазами, весь в соплях и с каким-нибудь непорядком в одежде, т.е. рехнувшимся на этой почве. У него же тонкая кожа, отчего бы ему не рехнуться? А только дураки счастливы.
(Не знаем, что происходит в Штатах.) Нет. С ним все было о’кей.
«Спугнул только чайку. Вернулся назад. Товарищи молча сидят», – как говорится в той балладе.
Действительно, стоим как-то в углу, он подходит, протягивает ладонь… Но никто не подал ему руки, и он отошел. И в нас даже шевельнулось что-то тяжелое – чуть ли не жалость! Будто бревно в глубине, об которое кто-то ударился головой.
* * *
И еще одно – в ноябре, когда я стоял, прислонясь к замерзшему водостоку, и он шел навстречу. Я закрыл один глаз – и он, в своем колпаке, вдруг увиделся мне нежным, как лепесток розы. Нам нельзя было разминуться, будь что будет, решил я – дам ему руку. Между нами уже оставались считанные шаги, я уже начал вытаскивать ее из-за пазухи – как вдруг он остановился. Я не понял. Он стоял, обдуваемый ветром, как лейтенант Шмидт на мосту. Я уже начал приходить в волнение, в меня уже проникал внутренний холод. Я даже качнулся к нему и совсем было вытащил руку, чтоб показать, что в ней ничего нет, – и тут до меня дошло. На столбе загорелся этот болван – Т – «твердо» – с растопыренными руками: красный свет. Я ушел, чтоб не видеть его.
* * *
Ну, что же? Переходим к развязке. По прошлому году все.
Конец ноября, декабрь, и так далее, и апрель, и начало мая – все это следует опустить, чтобы не затуманивало основное.
Но вот май подошел к концу. Подвернулась халтурка – красить дачные домики. Я поехал. Свежий воздух, клейкие, распускающиеся листочки – работалось чрезвычайно легко.
Тогда я и этот май тоже опущу.
* * *
И вот настало 4 июня.
Рассвет. Птички поют. Крашу белые рамы. На шее болтается бинокль – нашел на подоконнике, повесил. Какого-то капитана коттедж. Где-то там, на реке, играет музыка. Начал передвигать тумбочку, дверца открылась – ба: там телефон. Дай, думаю, позвоню в общагу. Шляпу набекрень… Вытащил, номер набрал… Трубку взял Горло.
– Ну как там, – говорю, – чем занимаетесь?
– Да вот, – говорит, – цепь на велосипед натягиваю. Ё-моё! Цепь некому натянуть.
– А что, – говорю. Не знаю, о чем спросить, а сам подношу бинокль – кто-то, потягиваясь, вышел вдалеке, – Ипатыч-то наш, – говорю, – не зарубил никого?
– А, слушай! Зарубил! Бабу какую-то… Я и забыл совсем! Ё-моё. В гараже! Тьфу, говорю – в гараже! В парке! Слышишь? Алло!..
– Метроном? – в глазах моих – одно небо.
– А?
– Ленинградку? Или нашу, чугуевскую?
– А хрен ее знает. Я сам не видел, в газетах писали…
Я положил трубку… Бинокль стукнул в грудь. Я осознал, что сижу на какой-то перине.
* * *
Трудно поверить, что все остальное произошло в тот же день. Переоделся, запер дом на ключ. Сколько это прошло? Где-то в полдень приехал в Чугуев. Открываются двери – навстречу Сидор:
– А-а-а! – говорит. – Привет, дорогой!
Тут у меня екнуло, что, может, разыграли, потому что он вел себя странно, демонстративно – чуть ли не с белыми цветами, и все обнимал меня:
– Привет, – говорит, – дорогой, приве-ет… На дачку ездил?
Но потом отодвинул меня и повернул голову в профиль: