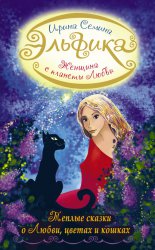Клопы (сборник) Шарыпов Александр

– То есть цепную реакцию породить, – сказал майор, разгрызая сухарь. – А что? Надо подумать…
– Надо, Афанасий… Винтовки у нас, понимаешь, ни к черту… Это ж такое дело… А ну-ка, Ваня, налей нам обоим! Давай, майор, за тебя.
– За Россию, – сказал майор.
– И за Россию.
Мероприятие
Собрались мы как-то встретиться с молодыми актерами. Ну, раз такое дело, сели мы перед этим на стулья и стали думать, как нам актеров посрамить и место ихнее им указать, чтоб ушли они от нас и знали, кто они есть на самом деле.
– Принесу я, – говорит Вадим Забабашкин, – банку маринованных помидор, и давай мы им покажем, что они слабаки против маринованного помидора.
– Помидоры помидорами, – отвечали скептики, – однако штука эта скользкая и опасная, и как бы нам самим с ней не осрамиться.
Случился тут Пучков.
– Я, – говорит, – фокус знаю, я их всех своим фокусом сражу.
– Фокус фокусом, – отвечали скептики, – однако ты человек наплевательский и в понедельник на актеров наплюешь.
– Я, – говорит Пучков, – честно слово приду. Я, – говорит, – сто процентов, что приду, и только пятьдесят, что не приду.
– Отвяжись, чума, – сказали скептики.
– Товарищи! – встрял пред. студ. кома Васильев. – Вот у меня есть вино, называется «Медвежья шерсть». Я, – говорит, – этого вина как выпью, так у меня вся отечественная и зарубежная литература из головы вышибаются. Давай, – говорит, – мы этой штукой актеров напоим – то-то они запляшут.
– Давай, – согласились скептики.
Настал понедельник. Притащил пред. студ. кома Васильев свое чудо-вино, притащил Вадим Забабашкин свои чудо-помидоры – а тут, откуда ни возьмись, приходит и Пучков, в одной руке березовый веник держит, а в другой – шляпу.
– Вот те раз, – удивились скептики и давай его укорять: – И как же это ты, Пучков, обещал и даже честно слово говорил, а все равно пришел.
– Я не виноват, – сказал Пучков. – Я в баню шел, а с меня ветром шляпу сдунуло. Я, – говорит, – воздев руки, по всему городу носился, а то, что она сюда прилетела, – так это совершенная случайность, потому как сначала она норовила у химзавода приземлиться.
– Вот чума, – пожали плечами скептики.
Стали тут и актеры подходить. Сами все как резиновые, а внутри будто воздух: вроде бы если на него, на актера, нажать – то где-нибудь чего-нибудь засвистит. Особенно один такой был – важный: пока по коридору шел, три раза на часы посмотрел – и руку подал сразу пред. студ. кому Васильеву, а нам только пальчиками помахал.
– Я, – говорит, – Рычков. Я в «Эскадронгусарлепучих» играл.
Тут у Пучкова кровь взыграла.
– Я, – говорит, – этого на себя беру.
И сел напротив Рычкова.
– Рычков, – протянул руку Рычков.
– Пучков, – сказал Пучков и тоже руку дал, но предварительно вытер ее о штаны.
– Я в «Эскадронгусарлепучих» играл, – сказал Рычков.
– А я тебя сейчас фокусом сражу, – отвечал Пучков. – Но сначала давай выпьем вино «Медвежья шерсть».
Выпили они и слушают, как Вадим Забабашкин про трубочиста читает, как тот вылез из трубы и завыл: «У-у, Нил мой, Нил». Слушают они – и чувствуют, что в мозгах у них идет какой-то странный процесс. У Рычкова непонятно почему слово «священный» стало разрастаться и остальные всякие слова вытеснять; а у Пучкова разрасталось «хрен вам». Пучков был человек наплевательский и на это дело наплевал, а Рычков подумал, что ежели сейчас не закусить, то потом будет плохо.
Но тут обнаружилась другая закавыка, потому как маринованные помидоры – это вам не краковская колбаса, которую отрезал да и ешь. Пучков изловчился, помидор из банки вытащил и на стол возле себя положил, а Рычков болтал вилкой в рассоле, болтал, зацепил там помидор, до горлышка дотянул, а потом тот сорвался и бултых обратно в рассол! Рычков озлился, но себя сдержал и опять за помидором полез, потому как нужду в помидоре чувствовал большую; а Пучков стал ему свой фокус показывать: стащил где-то листок бумаги – и ну в ем дыру образовывать! Образовывал, образовывал – образовал!
На этом месте у Рычкова второй помидор в рассол бултыхнулся, но он опять себя сдержал, хоть внутри у него что-то и лопнуло. Пучков его за локоть дергает, чтоб он на фокус смотрел, а он: «Нет, – говорит, – уж тут дело принципа началося. Я не я, – говорит, – буду, если этого помидора не поймаю и наружу его не вытащу: я его, краснопузого, в два счета сейчас выволоку, кобель его пойми, твою в колдобину мать-то!» Но Пучков все свою линию держит. Как он дыру в листе образовал – так сейчас в эту дыру палец просунул, а тот клочок, который на месте дыры состоял, на колено положил и перстом на него указал, объясняя, что это самая главная часть и есть.
А Рычков в это самое время опять помидор к самому горлышку поднятнул, и от усердия язык высунул, но когда пальчиками к нему потянулся – помидор, заноза разэтакая, лопнул – и будто его и не было, будто он тоже воздухом был надут, только семечки с вилки и посыпались.
Рычков побелел и стал вилку гнуть, а Пучков ему все свой фокус показывает, а Вадим Забабашкин про трубочиста читает, как тот вылез из трубы и завыл: «У-у, Нил мой, Нил». Рычков, вилку совсем изогнувши, глаза зажмурил и стал себя за волосы дергать, потому что никак вспомнить не может, с чего та штуковина начиналась, которую ему представлять сейчас надо будет. Дергал он, дергал, но так ничего и не вспомнил.
А тут его как раз в бок толкают и говорят:
– Ты чего на стуле сидишь? Давай, выходи.
Вышел он, рот открыл, руку выставил, пальцы растопырил, потом в кулак их сжал, потом указательный отогнул – но так ничего вспомнить и не мог.
– Я Рычков, – сказал Рычков. – Свяще… тьфу.
Сделался он из белого красным и, на Пучкова поглядевши, обмер, потому что у того уже шесть маринованных помидоров на столе лежало и кожурой поблескивало.
– Свяще… тьфу, – сказал Рычков.
Тут другой актер, по фамилии Володька Лаврентьев, тоже вдруг побелел и Пучкова в бок толкает:
– Владимир Палыч, – шепчет, – выручай, век не забуду: как у Гюи де Мопассана вещь про вербену начинается?
– Хрен вам! – от души сказал Пучков. И почувствовал непонятное облегчение. И, почувствовав облегчение, не будь дурак, дай, думает, еще чего-нибудь скажу.
– Я сам, – говорит, – могу сочинять ядренше любого Разгюи де ля Распромопассана, но не желаю и поперек себя не пойду – потому как музы у нас разные, а вашу Мельпомену я у себя под табуреткой видал.
– Свяще… тьфу, – сказал Рычков, который уже стал фиолетовый, как цветной телевизор.
Тут народ стал роптать.
– Я Рычков, – сказал Рычков.
– Это ты врешь! – вдруг крикнул какой-то хулиган.
– Свяще… – сказал Рычков и насмерть перепугался.
Видя такое надувательство, народ засвистел и ногами затопал, а Пучков стал кидать в актеров маринованными помидорами, приговаривая:
– Заполучи!
Первый же помидор попал Рычкову в глаз.
Рычков схватил стул, заорал:
– Священный, кобель его пойми! – и, выбежав в коридор, впечатал стул ножками в стену. В результате помидор из глаза вывалился, а Рычков, прозрев, понял, кто он есть на самом деле и пошел прочь, рыдая и раскаиваясь.
А Пучков думал-думал, а потом возмутился да как заорет:
– Ах ты, безобразник такой сякой, ты зачем у нас стулья ломаешь? Вот я ужо за рубель билет куплю и у вас в театре тоже че-нито изломаю!
* * *
С тех пор актеры на встречах с нами пьют только с собой принесенный напиток «Грушу», а чтобы кто втихаря бутылки не подменил, на наклейках маленький крестик ставят. Мало ли чего.
О правах человека
Был мне сон. Будто бы в Думе прения. И я тут сижу. Один за другим выступают ораторы. Главным образом про Чечню. И вот выходит человек в очках, достает листочки и говорит что-то очень тихо. Доносится только:
– М-н-н-э… а-а-а…
– Громче! – кричат ему депутаты.
– Люстра… М-м-э-э-э…
Тут все смотрят вверх и видят: висит огромная люстра.
– Певица… м-м… э-э… была в черном платье…
– Какая певица?! – кричат депутаты. – Вы о правах человека брали слово!
– А-а-а-а… Я же и говорю… э-э… Музыка… А-а-а… В консерватории…
– Какая музыка?!
– Кто его пропустил туда?
– Рыбкин, ты куда смотришь?
– Вот до чего дошли!
– А-а… У меня есть друг… Э-э…
– Помедленней, пожалуйста, – голос, по-моему, Арины Шараповой, – я записываю.
– Ты еще тут?!.. – взрываются депутаты. – Кто пустил прессу? Убрать на х…!
– Друг! – пытается перекричать их человек в очках. – Э-э… А, в общем, не надо ничего, – сникает он и, сняв очки, уходит с трибуны.
– Кто это был? – обращаюсь я к соседу.
Только он открыл рот, чтоб ответить, – зазвонил телефон.
Мгновенно проснувшись, я вскочил как сумасшедший и закричал в трубку:
– Алло!.. Алло!..
В ответ – ни звука.
«Опять пионеры», – подумал я. Уже и ночью… Но только положил трубку, как снова раздался звонок.
– Алло, – сказал я с досадой.
– Шарыпе-ов?.. – женский голос.
– Да!.. Арина! Тьфу, что говорю… Анжела!
– Шарыпов! Ты чего, блин, пишешь! Девять ноль… О-ой, блин!.. Какая бренди! Да я на нее пивом рыгала всегда! А этот девять ноль два один ноль – ты чего пишешь?
– Какой девять один ноль…
– Это шоу!.. Это порнуха, вам одну порнуху показывают, я ненавижу все эти шоу, я потому и уехала от вас, а ты пишешь, что я на бренди похожа!
– Какую б… Где?
– Проснись, Шарыпов, выпей водки, блин, если ты не проснулся, у вас уже без пяти шесть! Я тебе специально звоню, чтоб сказать, что ты неправильно все пишешь! Неправильно, все, все неправильно! Ты никогда ничего не понимал! Вот Анатолий Гаврилов понимает: «О музыке»… О музыке, понимаешь? Я как прочитала, как «Лунную сонату» вспомнила – я всю ночь плакала, я рыдала, понимаешь? «О музыке надо, Саша!» Это же вот он тебе пишет… Я от слез опухла, у меня глаза, как у китайца… А у тебя такая фотография, как будто ты сейчас плюнешь в это окно! Вот кого я люблю – Гаврилова… Он никогда меня не обижал, он добрый, о музыке пишет, а вы злые, вы злые все и порнуху смотрите… Я люблю его, поцелуй его за меня!..
В трубке послышались гудки. Я еще долго сидел с сильно колотящимся сердцем, прежде чем положить ее на рычаг.
Да о чем я? О правах человека. Есть у меня подруга…
А, в общем, не надо ничего.
Повести
Убийство Коха
Это был крупный и зубастый волк в либеральной овечьей шкуре.
Ф.Ф. Раскольников
Николай Романов I – Николай Палкин и Николай II – Кровавый показали русскому народу максимум возможного и невозможного по части такого, палаческого способа. Но есть другой способ…
Николай III (?)
Мы отдаем себе отчет, что это дело уже надоело всем до одурения, и мы никогда бы не полезли со своим косноязычием, если б не это место в обвинительной части, только что дошедшее до нас и тотчас же подхваченное «Чуг. мыслью» (№ 149) – где утверждается, что все началось с газеты:
«…Был один из них, некто Еикин И. И. Газета требовалась ему, как никому другому. Войдя в квартиру, он сдвигал на середину столы, складывал в кучу стулья, игрушки, вазы и накрывал все это газетой. Но не той: ибо когда он начинал движение, она прилипала к его ногам и волочилась за ним из комнаты в комнату. Когда он сдирал ее руками, она прилипала к рукам. Он стал задумываться над газетой. Он стал забываться. Он забыл, где находится. Он поставил ведро и ушел в открытую дверь, оставив ее открытой, и ушел прямо в шелестящий листвой городской парк. Известно, чем это кончилось. Кончилось это тем, что был убит Кох. А рядом в это время стоял ребеночек и бил себя кулаком в грудь…
Их отцы (в «Чуг. мысли» напечатано «оттепельцы»), рискуя своей жизнью, убивали гауляйтеров на глазах у фашистских собак, а они убивают несчастных полуинвалидов на глазах у наших детей, еще не могущих осмыслить даже, что это делается».
Оставим на совести прокурора едва ли уместную здесь иронию. Можно было вообще оставить все это на совести прокурора. Как сказал Терентий, история повторяется трижды: как трагедия, как фарс и как фарш, и тут ничего не поделаешь. И Николай тоже сказал: «Всякий вопрос вертится в заколдованном кругу». Да, но если бы в этот фарш не были замешены мы. Мы, маляры. «Их отцы» – это наши отцы. Вот на что они намекают под прикрытием газетами.
Т. е. если бы в заколдованном кругу не вертелся вопрос о нашей виновности. Раз не прошло, второй, – а теперь, в эпоху всеобщего потребления, достаточно сделать фарш и дернуть за это звено – вот на что их главный расчет.
Вот почему мы с Терентием – Терентий, бухгалтер наш, помогающий мне в языкознании, – взялись наконец переписать всю эту историю раз навсегда, как оно было на самом деле. Чтоб не залатывать дыры, а, наоборот, расковыривать, где худо: у нас будут сверкать там голые факты.
* * *
Начнем опять с этого места, а потом продолжим обо всем по порядку.
Некто Еикин существовал в действительности. Хотя и эта рубаха, которую с таким злорадством показывали в зале суда, явно ненастоящая, т.е. брызгали на нее белилами задним числом, и книги эти конторские, которыми тоже размахивали, ничего не стоит подделать, в наше-то время! – но Еикин существовал и белил потолки. Скажем больше: он проживал вместе с нами, в нашем общежитии маляров на Семашко, 1, – и это главное, то есть именно в этом смысле его можно назвать «один из них», т.е. один из нас.
Не отрекаются любя, как поется в песне, – хоть и не любя, все равно не отрекаемся, потому что он действительно проживал, крыть это нечем. Да и незачем.
Звали его Ипат Ипатович Еикин. Если не ошибаюсь, потому что в паспорт ему не глядели. Это был образованный человек, т.е. он есть до сих пор. Это надо признать, перешагивая через всю неприязнь к нему, и ирония здесь особенно неуместна. Еще когда белил потолки, учил всех, что «гашеная известь» происходит не от слова «гасить», а от французского слова «гаше», что значит «растворять в воде». Что фамилия Еикин происходит от французского слова «еик»: «Вуалялеик», – как говорят французы. Терентий одно время ходил к нему – когда у него не сходился дебет с кредитом, и они сидели ночами. А мне он как-то раз объяснил, почему у паркета, когда входишь в квартиру, светлее продольные плашки, а когда выходишь – поперечные. Может, это был самый образованный человек из всех, кто проживал на Семашко, 1, – не скажу за весь Чугуев. И к тому же какой-то по-особому нежный. Это тоже надо признать, еще раз перешагнув через всю неприязнь. Особенно любил занавешивать окна, гладить утюгом в тишине, заворачивая при этом рукава, – видимо, поэтому все бабы начиная с этой бабищи Протопоповой души в нем не чаяли.
А в ком он души не чаял – так это, полагаем, в одном каком-нибудь Гегенбауэре, который сидит в каком-нибудь исполкоме, в полумраке кабинета, и кодирует себе потихоньку, пока мы тут задыхаемся.
Но обо всем по порядку.
Уважаемый прокурор умышленно передергивает колоду? Или он искренне безграмотен в фактах истории? Уже не говоря о том, что в свое время гауляйтер Кох убит никем не был, потому что кто же иной приказал скрыть в рудниках Германии целую комнату награбленного из Питера янтаря, да так, что «Юлиан и К» ее до сих пор не могут найти. Но и оставить ведро Ипату в то утро, когда был убит Кох, – да и Кох-то был убит после обеда, – было нельзя, потому что оставлять ему уже было нечего. Потому что он уже оставил ведро год назад, и только числился, а в душе и думать забыл – вот это надо особенно помнить всем тем, которые говорят, что «красильшики убили Коха», и трясут разное барахло с белыми пятнами.
Ведь – ну ладно, допустим, все эти рассуждения, что это наше грязное, повседневное, дурно пахнущее дело, не его, что руки у него не те и т.д., – все это не более чем наши рассуждения. Но ведь по крайней мере можно же найти в участке этот прошлогодний протокол! Мы не думаем, что его изъяли, не должно!
По протоколу можно было бы установить и число, и месяц – а так только повторяем, что это было прошлый год, как только после ледохода выставили рамы и открыли окна, а день был воскресенье, потому что все мы находились в общаге и смотрели из окон.
Если считать, откуда все началось, то началось все с того, что он стоял под окнами.
– Бытие, небытие, – говорил, – симпатия, антипатия. Хватит раскрашивать предметы. Они не так стоят.
Смысл был такой.
– Говори толком, – говорили ему.
Он молчал, нагнув голову. Потом раскрыл коробку – в буквальном смысле, которая стояла у него под ногами, – и вынул точило хозяйственное, все гайки в солидоле, потом развернул промасленную бумагу – там навесной замок, мотнул головой: не то, сразу развернул другую – там топор со светлой полосой.
– Стагнация кончилась, – сказал, нагнув голову.
Немного удивились, в том смысле, что он показал не бутыль, например, с олифой, да к тому же как будто и звал нас куда-то за собой, но подумали, что он на этом будет греть руки. И никто не пошел. Он махнул промасленной бумагой и отступился.
Это было воскресенье. А в понедельник он вышел из общаги и пошел – без ведра, но думали, что оно уже там. Никто не придал значения. А только он ушел и не вернулся – ни вечером, ни ночью. Наутро узнали, что его остановил милиционер у якоря – попросил предъявить документы, посадил в мотоцикл и увез в отделение.
Такой был калейдоскоп событий. В исходном его, доповоротном, так сказать, положении.
Тротуарная, так сказать, стадия непонимания: будто прохожий, двигаясь равномерно, скрылся за домом, а не вышел с другой стороны. Но стоит зайти за угол и посмотреть – и поймешь. Но некогда.
Но немного стали задумываться – после того как его увезли.
– Что он болтал-то там под окном, – говорили вполголоса, – зачем разворачивал эту бумагу?!
Потом кто-то как будто – окольно – пошатался около того якоря – и вдруг прошел слух, что взяли Ипата на выходе из Речного, где он пропагандировал среди оцепления.
Тут следует пояснить. Город наш – пока его не переименовали в Гегенбауэрбург и все мы не стали гегенбауэрбуржцами, – как известно, называется Чугуев и стоит на реке под названием С-на, есть еще песня:
- По реке плывет баржа
- С города Чугуева и т.д., —
гражданскую оборону в нем, если не считать разных невропатологов, составляют сплавщики с так называемой запани, слесари и сборщики с так называемого затона и плавсостав теплоходов: «Чугуевлес-125», «Чугуевлес-167», «Чугуевлес-171», а также «Генерал Черняховский» и «Ульяна Громова»; значительный процент гибнущих – утопленники, когда они ударяются головой о потонувшее в процессе сплава бревно, мертвый якорь или якорь с лапами на шарнирах или их утаскивает под бон, а что до главного учебного заведения, то это Речное училище имени адмирала Хронопуло, с двумя черными якорями у крыльца, опирающимися на собственные штоки; курсанты его, в черном обмундировании с белыми перчатками, при манифестациях по Большой обеспечивают линейное оцепление.
И вот прошел такой странный слух (впоследствии оказавшийся уткой). Маляры, не сговариваясь, повалили в хозяйственный магазин и расхватали все топоры. Продавцу объясняли просто: изымут – потом ищи. Терентий купил еще гвоздей для отвода глаз. Я подумал, вернулся и купил замазки.
В это время – в понедельник вечером и особенно утром во вторник – и я к нему, «одному из нас», чувствовал – не то что, а легкую такую тягу… Было, было.
Кстати сказать, вот даже на протяжении этих двух дней какой-то мужик утонул в районе дебаркадера Коромыслово – есть у нас такое – там еще до войны был пивной павильон и давали к пиву соленую воблу, и до сих пор висит жестяной плакат «Завертывать взахлест шкоты за банку категорически запрещено» и нарисованы опрокидывающиеся в воду незадачливые пьяницы – я, будучи ребенком, путал шкоты со штоками и удивлялся, как это: завернуть шток вокруг банки, – об этом писали в «Чуг. мысли», правда, несколько по-иному: что будто не утонул, а будто бы выплыл или не знаю как, но убежал в пьяном виде вдоль по берегу, одетый в синие брюки, остальная одежда отсутствовала, просили сообщить местонахождение.
Кажется, мы как раз и обсуждали это событие во вторник после работы и пытались понять, нет ли и тут чего-нибудь.
Вдруг затарахтел мотоцикл – и во двор въезжает милиция. Все сразу притихли и как-то замешкались. А тут – ба! Из коляски вылезает Ипат.
Лохматый – еще подумали: опознание там или что, – нет! Глядь: участковый, наклонясь, жмет ему руку. Как? Возвращает изъятый топор! Мало того: порывшись в коляске, вытаскивает белое топорище: на! бери! Но и это еще не все. Он нагнулся…
И вытащил – этого ли мы ожидали! – брошюру. Обтер рукавом от пыли, отдал Ипату с легким вздохом, козырнул, сел в мотоцикл и быстро скрылся. Только дым повис в воздухе.
Маляры дернулись: туда! сюда! – не знаю, как кого, но меня с Терентием больше всего поразила вот эта брошюра. Ветхая от частого употребления, испещренная пометками НБ – «Нота Бене» (Ипат объяснил), прошитая кой-где для крепости черными нитками, – одним словом, Кодекс; но даже не столько сама брошюра – хотя и это способно остолбенить – я, например, как тот ребенок, совсем был неграмотный в этом вопросе и до сих пор думал, что эти статьи, про которые все говорят, это не те статьи; но даже не это, а то, что там – Ипат открыл – стояло, каракулями: «Сия книга Уголовный кодекс, с изменениями и дополнениями и приложением постатейно-систематизированных материалов, дана Еикину И. И. в вечное пользование бывшим ее владельцем Е. Протасовым с тайной мыслью послужить великому и вечному». И подпись.
Не знаю, кого где, а нас вот тут начало переворачивать в этом калейдоскопе. Вот тут на нас надуло эту сибирскую заразу непонимания. Пересеклись миры, протоны и позитроны, и наступила вторая, так сказать, облако-подземная стадия. Будто завернули за угол, но опять ничего не поняли: того, который шел равномерно, не стало среди нас, и понимать это надо было уже вглубь и вверх.
Разница в том, что теперь каждый почувствовал, что так и с ним может случиться.
А Ипат оглядел нас безгрешными своими, почти детскими глазами – потом дернул себя за ус и сказал, что нужен чурбан. Мы бросились за чурбанами, и так были заняты все головы одной думой, что даже никто не спросил, какой именно нужен чурбан – прямой или переносный, и все приперли те, которые прибивает к берегу. Одноглазый Сидор, держа голову в профиль (Нельсон Мандела, как его звали, или еще Буйная Голова; говорили, что глаз у него вылетел в грозу, от удара грома), – и тот припер. Невропатолог Енароков потом объяснил: у всех было помрачение сознания.
Ипат выбрал себе чурбан; размахивая руками, завернул все барахло в клетчатую клеенку, молча взвалил на горб и уковылял в открытую дверь. И закрыл эту дверь за собой.
Вот ему бы – я сейчас думаю – вот такую бы как раз работу: чтобы он поковылял туда-сюда, поразмахивал руками, а никто бы ничего не понял, а он бы ушел, лег на кровать, чистил ногти и глядел в потолок.
А мы тогда, – переминаясь с ноги на ногу, как беременные у крыльца роддома, с этими чурбанами, – стояли еще очень долго. Отполыхали багровыми отблесками окна, стало смеркаться, в сумерках стало накрапывать – все стоим. Тут открывается дверь, и оттуда высовывается голова комендантши Протопоповой. Она оглядела всех нас, сося конфету, нахмурилась и закричала:
– Расходитесь, товарищи маляры! Давайте, расходитесь по комнатам! Сегодня уже поздно, а завтра начинается трудовой день!
– Что мы, в самом-то деле, – сказал кто-то.
Тут мы как бы очнулись и устыдились, как будто вышли выступать, а нам указали на незастегнутые штаны. Я первый бросил чурбан и пошел в общагу.
– А чего ты хотел? – крикнули мне в спину с вызовом в голосе, однако же и со стыдом.
– Да я ничего не хотел! – крикнул я и хлопнул дверью.
Не знаю, чего я хотел, в самом деле. Что Ипат за мой прогиб разрубит на моем чурбане мой гордиев узел. Тьфу, блядь, не при бабах будь сказано. Надо было так хлопнуть этой дверью, чтоб на голову обрушилась штукатурка с потолка.
В ту ночь, тяжело переживая случившееся, многие спали одетыми, как караул, расстегнув лишь отдельные пуговицы. Я слышал – потому что у нас с Ипатом один номер – как он ходит, ложится, скрипит пружинами, опять встает и ходит. Сев и тщетно пошарив тапки, я встал, и пошел босиком, и заглянул в трещину. Ипат лежал, отвернувшись к стене. «Он лежал и глядел на обои», – как говорится в одной балладе. Лампа, притянутая к столу за черную нитку, светила на листки бумаги. На одном из них был рисунок.
Я бы воспроизвел его здесь, если б был уверен – как Василий, – что он имеет отношение к делу. Два больших круга. В одном семь – или шесть, или восемь – досада, не помню – кругов поменьше, другой исполосован вдоль и поперек. Я долго думал над этими кругами. Могло быть, что это имеет отношение к делу. Но не уверен. Возможно, Ипат чертил круги просто так, находясь в глубокой задумчивости и думая совсем о другом. «Он лежал и глядел на обои, вспоминая лицо дорогое», – как говорится в той балладе. Стараясь не скрипеть, я отошел от стены, вытер пятки о голеностопные суставы и сел в кровать. Или это и в самом деле эскизы круглых печатей, как утверждает Терентий. Или резолюция кончать с кружковщиной, как говорит прокурор. Потом он засопел и уснул, и я уснул вместе с ним.
А в то время, когда мы спали, напротив, по другую сторону коридора, бухгалтер наш, Терентий, не спал вовсе. Он был раздет до трусов, но лежал с открытыми глазами, напряженно вслушиваясь в тишину. И когда у Ипата затарахтел будильник – тихо, как стрекоза крыльями, – Терентий соскочил с кровати, стукнув пятками об пол, – так, что звякнули окна, – будто над Чугуевом кто-то преодолел звуковой барьер.
Будильник тарахтел часов в пять утра, в среду. Потом Ипат, кашляя, проковылял по коридору – опустим естествен. прозу, – разбудил комендантшу и взял у нее утюг. Потом проковылял обратно и затих у себя.
Но не тут-то было! Терентий – что бы мы без него делали! – ноги в шлепанцы – да и загляни к нему через дырку. А он гладит красный колпак с дырками.
– Та-а-ак, – только и смог прошептать Терентий.
Взяв шлепанцы в руки, он сделал пару шагов и прислонился к стене. Потом пошел по коридору и стал тихонько стучать во все двери. Маляры выходили в коридор и, узнав, в чем дело, прерывали зевки. И не было такого, который бы сказал, что он ожидал именно этого.
А дальше так: проходя мимо вахты, наткнулись на вахтенный стол. Ба! На нем телефон.
Один тощий из плавсостава – спал тут у нас, пока с ним жена разошлась:
– Стой! – говорит. – Есть такой телефон, глохни рыба: по нему звонят в критические минуты!
И хотели звонить, но никто не знал номер. (Это потом уже Енароков сказал, что надо было набрать 80-95-29-29-10-82-27-02-56. Эк ведь! Да разве можно было упомнить хотя бы до половины!)
Тогда этот тощий опять говорит:
– Давай позвоним наугад на любую квартиру! Может, все уже понимают всё, а только мы, дураки, не понимаем!
– Звони, – говорим, – хоть куда-нибудь!
Он рукава за локти отодвинул, лоб наморщил, номер набрал, какой в его тощую голову пришел:
– Алло, – говорит, кося глазами то туда, то сюда, – алло… Здравствуйте… извините… мне бы Васю При… а?.. Васю Прилепского… Как не туда?.. А вы не скажете… алло… извините… А вы не скажете: у нас… ну… в нашем пароходст… с… в нашей-с… с-стране… там… ничего не случилось? Такого? Нет?.. Как? Кто пролетел? А… – и, услышав гудки, положил трубку.
– Кто? Что? Что он сказал? – набросились мы. – Кто пролетел?
– Да никто. Лебеди, говорит, пролетали…
– А кто он такой, этот Вася вообще?
– Прилепский? – переспросил тощий тоскливо. – Да ну его, глохни рыба. Это я.
– Вот дураки! Связались с дураком! Они же найдут теперь! Ну-ка, отойди!
И позвонили в конце концов по 02.
То сумбурное утро все прошло в каких-то бестолковых порывах. В общем, подняли трубку – гудок, набрали 0 – тихо, потом 2 – гудок, бац! – дежурный такой-то.
– Тут у нас, в нашем общежитии, – сказали, – находится и что-то там гладит у себя какой-то, черт его знает, полупалач.
– Не понял, кто? – спрашивает дежурный.
– Ипат Ипатович Еикин. Семашко, 1.
– А, это мы понимаем, – говорит дежурный. – Это по части Епротасова. Епротасов! На, поговори с товарищами.
– Алло! – говорит сонный голос. – Граждане! Сохраняйте бдь… отставить, сохраняйте спокойствие! Расходитесь по комнатам и готовьтесь, это, как его, следовать на работу.
Мы говорим: а как можно, мол? В наше-то время? Что он там гладит у себя? Отчего это вообще?
Епротасов нам объяснил: от амнезии.
– Все идет, как учили. Смотри сюда: когда долго нет воздуха – наступает амнезия. То есть что – потеря памяти? Сначала, это как его, инспираторная одышка, потом экспираторная одышка, потом – запредельно-охранное торможение и – амнезия. А если внезапно дать воздух – если дать воздух! – так? – придут ложные воспоминания. Их называют конфабуляции. Вот из-за этих-то конфабуляций Ипат Еиков, отставить, Еикин, проживающий в общежитии маляров, мочка уха закругленная, прикрепление бороздчатое, противокозелок выпуклый – значит, сшил себе колпак и хочет смотреть на все через дырки. Вот и все. Я не понимаю, чего тут думать. Хочет? Пускай смотрит.
– Мы все, – говорим, обступив телефон, – не понимаем чего-нибудь да как-нибудь. Дело-то не в дырках! А дело вот в чем. Если наш бывший товарищ – допустим на мгновение – наденет свой колпак и где-нибудь ночью, в тихом месте, отрубит кому-нито что-нито – не будет ли это нарушением правопорядка?
Епротасов – даже через трубку это чувствовалось – опираясь руками о руль, ехал на своем мотоцикле понимания, и все вопросы ему были, что рытвины в колее.
– Отвечать на этот вопрос, – отрезал он, – прерогатива суда.
Тогда мы все, как один, прикинулись валенками и все-таки попытались опрокинуть его в кювет:
– Но ведь поскольку вы его задержали позавчера, стало быть, у вас есть в глубине души…
– Я вам еще раз говорю, – перебил Епротасов. – Или вы не те статьи читаете… Во-первых, не задержал, а предложил пройти. Это же разные вещи или нет? Или у вас вообще низкая грамотность? Тогда я не знаю, как с вами разговаривать! Поменьше бы г… Отставить, это, как его! Поменьше амбиций! Побольше гуманности! И не забывайте, где вы находитесь!
И т.д.! и т.д.! и т.д.!
Уязвленные, мы бросили трубку на рычаг и повалили во двор, перешагивая при выходе через неубранные чурбаны. И там даже те, кто раньше не сомневался, стали сомневаться в открытую:
– Тут что-то не так, – говорили одни. – Какая такая амнезия? Эдак посидишь, позадыхаешься да и позабудешь все, что ли?
– Ребята! – говорили другие. – Шутки шутками, а ну, не дай Бог, он в самом деле отрубит кому-нито что-нито!
– Он с самого начала так и хотел, – говорили третьи. – Они с Епротасовым об этом и столковались. Откуда у него эта красная хреновина? Епротасов его научил и нитки дал!
Но тут прораб наш, Агафон, по прозвищу Горло, вынул папиросу из матюгальника, да как заорет:
– Как это – отрубит? Вы что, ё-моё! Маляр жильца не может обидеть! Вы что? С ума посходили, на самом-то деле?
Я тоже говорю:
– Не может он так. Я ж его знаю. У него ж чувства нежные. Он же зимой варежки носит, – ну и всякую такую муру. – Чего теперь! – Потому что он же и в самом деле был нежный! Это-то и странно…
– Вот что, – говорит Горло. – Ты, – говорит, – давай на работу счас не ходи, а сходи-ка давай в парк, если он счас туда пойдет, посмотри, как там и что!
Почему-то он опасался, что он пойдет в парк, и все согласились. Просто как утопленники тонули в С-не, так всякая резня и тому подобное у нас происходили в парке или же в криминогенной зоне за парком, т.е. между памятником убитому из-за угла Сергею Мироновичу Кирову и могилой жертве интервенции Павлину Федоровичу (если применимо слово «Федорович» к молоденькому предгубисполкома) Виноградову. Там даже специально травматология через дорогу за оградой, а еще через два дома – горморг.
– Ребята, – заключил одноглазый Сидор (Нельсон). Он старался держать свою буйную голову в фас, но она у него все разворачивалась в профиль. – Ребята! – говорит. – Сегодня не поздней обеда его надо за руку хватать! Надо останавливать его в самом зародыше, а то как бы потом маху не дать!
– Не дадим, – говорю. – Я сам в случае чего костьми лягу.
Как-то само сорвалось. Вот слетит иногда с языка, особенно с недосыпу, потом думаю: «Дурак я, что ли?»
А Терентий – он уже тогда увидал, к какому тыну все это склоняется.
– У-у-у, – говорит, – брат ты мой!.. – взяв за локоть, в сторонку меня отвел и сует сначала карандашик, потом какие-то накладные. – Захвати-ка, – говорит, – отметь все подробности. Ведь готовится гнусность. А свалят на маляров! Если спросят, скажешь так: перенимаю опыт предпринимательства… Запомнил? Потом обсудим. Давай…
Как в воду глядел. Только в сроках ошибся. Вот ведь что значит.
Карандашик-то я взял и в парк пошел. Но тогда, в прошлом году, с этого похода моего – кто бы мог предположить – стремительное течение событий замедлилось вплоть до полной их остановки.
Начать с того, что Ипат в парк не пришел.