Голыми глазами (сборник) Алёхин Алексей
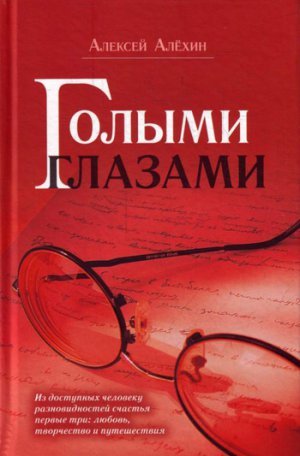
Странное дело, но и в Раю есть небо.
При ветре оно делается более глубокого цвета, точно там размешали краску, а пальмы принимаются громыхать сухими перьями.
И лучше всего лежать вот так, любуясь, как между пальмовых листьев пробирается по далекой синеве маленький серебристый самолет.
И птицы проносятся по небу, то и дело складывая крылья, и делаясь при этом похожими на стайку рыб – в напоминание о былом…
Райская жизнь все длится, длится.
По пляжу ходит танцующей походкой белый верблюд, ведомый упитанным низкорослым бербером в чалме, золотых очках и голубом хитоне. Всякий раз, как на горбы корабля пустыни удается заполучить седока, лицо хозяина озаряется радостью, и он вышагивает с уздечкой в руке, сияя улыбкой и золотом оправы.
На пирсе тощий компатриот в облепленных множеством карманов шортах ведет долгий разговор с таким же тощим арабом, приставленным присматривать за купающимися, но, кажется, не умеющим плавать. Тот не понимает ни слова и только приветливо кивает головой в заполнение пауз.
А на серфинге враскорячку мается со своим стрекозиным крылом новичок, и это похоже на то, как, бывает, управляешься на тарелке с листом салата, а тот все норовит развернуться и брызнуть на тебя оливковым маслом с лимонным соком, которыми ты его заботливо окропил.
Но кажется, я все это уже видел в прежней жизни.
Вот так же белый ибис со складнй, как плотницкий метр, шеей высматривал рыбок на мелководье.
Так же в воде резвилась юная парочка. Девушка шалила, садилась на своего дружка верхом, плескала ему в лицо и даже слегка пинала ножкой.
В бассейне большой черной жабой не вылезая сидел обучающийся своему делу аквалангист и время от времени выпускал гроздь больших серебряных пузырей.
Доносилась унылая арабская музыка.
И скучающий в гостиничной лавке араб принимался приплясывать ей в такт, а когда грянет повеселее, то и вовсе кружиться в обнимку с большим надувным дельфином…
Гурии топлес…
Целые рощи несравненных женских ног…
Амброзия местного розлива в бокалах на бумажных салфетках с вензелем отеля…
Стоял тот благодатный для вертихвосток сезон, когда днем можно продемонстрировать купальник, состоящий из двух веревочек, а за ужином – вечернее платье.
Вот только с луной тут непорядок.
Желтоватую и подвядшую, ее вывешивают с опозданием и не совсем на том месте.
А однажды и вовсе выложили на крышу школы водолазов, с объеденным боком.
Ох, кромешная тьма египетская.
Свернутые полотняные зонты торчат вокруг бассейна как белые кипарисы, напоминая, что где-то – зима.
И только повешенные на просушку на корме катера страшные водолазные костюмы шевелят в лунном свете черными рукавами, как души грешников.
Но кто сказал, что «для жизни вечной»?
К концу второй недели кожа от солнца и морской воды приобретает такую мягкость, что впору делать кошельки.
У вас окончательно вырабатывается райский режим с купанием до завтрака, сигареткой за плетеным столиком на краю терраски, размышлением в шезлонгах, плаванием до буйков, душем перед обедом и вечерним бокалом вина над морем – и делается понятно, что пора уезжать.
Благородная куротная скука становится приправой ко всякому блюду, что ни закажи.
Вы начинаете понимать вечную печаль гостиничной прислуги: только начнешь узнавать постояльца, как тот съезжает.
И все чаще поглядывать в ту сторону неба, где, распушив дюралевые перья, медленные большие самолеты заходят, как ангелы, на посадку.
Солнцеморепальмы…
Хургада – Шарм-эль-Шейх – ХургадаОктябрь 2002, декабрь 2003, декабрь 2004
Коралловый риф
Тут все дно утыкано букетами.
Оглядывая их, точно в цветочной лавке, проплывает, развевая чадры, короткая вереница здешних рыб, медленно и чинно, как арабская семья.
Другие, вроде маленьких тельняшек, плывут, шевеля рукавами.
Третьи, цветов украинского флага, просто полощутся на водяном ветерке.
В кораллах и губках утопает полусгнивший киль разбившегося на рифе судна. С ржавым винтом, с развалившимися на обе стороны деревянными ребрами – похоже на хребет объеденной скумбрии, оставленный на тарелке.
Стайка крошечных изумрудных рыбок обсела ветвистый коралл – так облепляют дерево птицы.
Они тут вообще похожи на экзотических птиц, только не так пугливы.
Вот одна полнотелая в желто-синей пижаме выплыла из чащи и принялась танцевать, вовсе не думая убегать.
И ты висишь в воде, не отрывая глаз.
Впрочем, возможно, они тоже с любопытством разглядывают заплывших в их владения шумных существ с желтыми раздвоенными плавниками вместо хвоста, глазастой зеленой мордой и странной оранжевой трубкой, торчащей из жабр.
…Мелкие, красные и желтые, рыбешки кружатся вперемешку, как осенняя листва.
А наверху капитаны катеров перекрикиваются в рупоры через все море. Передают с борта на борт корзины с пивом. И серебристыми мотыльками вспархивают стайки летучих рыб.
Красное мореОктябрь 2002
О-ля-ля!
В гостиничном номере вместо Библии лежал томик Мопассана.
Быть может, это единственный в мире город, вернувшись в который кажется, будто и не уезжал.
Не выходил из сводчатого метро, где аккордеонисты разносят по вагонам парижский вальсок.
С этих улиц, где фасады украшены барельефами пышнотелых и отзывчивых муз.
А террасы кафе с каждым годом все дальше наползают на тротуары.
Где полуденная пустота Люксембургского сада напоминает о часе обеда.
Не мешая какому-то негру покупать такой же черный и сверкающий мотоцикл, придирчиво заглядывая ему под крыло и в фару.
Где в витрине на Риволи выставлена на продажу новенькая королевская мантия.
Где женщины на тысяче картин вечно сидят перед туалетным столиком.
И японцы печально кивают гиду перед портретом доктора Гаше, слушая про ухо Ван Гога.
Если ты тут не в первый раз, то волен идти куда угодно, но все равно попадешь в музей.
У посетителя Центра Помпиду всегда впечатление, будто он заблудился и забрел в бойлерную.
Среди змеящихся по стенам труб по-хозяйски обосновался зал МарселяДюшана с целой серией прославленных писсуаров, а еще – с двумя унитазами и фаянсовой раковиной, как в магазине «Сантехника».
Немного позже, зайдя за табличку “WC”, я обнаружил продолжение экспозиции.
Но все ж мне ближе музей Моне, заволоченный желтоватым паровозным дымом сен-лазарских вокзалов.
Тамошний темнокожий служитель, не стесняясь посетителей, приседал для моциона перед «Кувшинками», хрустел пальцами и вообще вел себя непринужденно.
Два других, белых, прогуливались, беседуя, меж картин, и видно было, что с первым они не дружат.
Потом, прямо под открытым небом, тебя встречают тяжелые женщины Майоля в летучей позе грехопадения.
И его же Ева с отсутствующим яблоком в руке.
Знакомый художник рассказал, что возлюбленная модель скульптора, которой он оставил все в обход семьи, родом из Одессы, и еще жива. И предложил с ней познакомить.
Я с ужасом отказался.
Девяностолетняя старуха в роли музы – это даже и для Парижа перебор.
Мне назначили встречу в маленьком старом театральном кафе с дачными оранжевыми абажурами с бахромой, апельсиновым потолком и афишами на стенах.
Только металлический звон затиснутого в угол игрального автомата, допущенного в угоду настырному времени, возвращал из 20-х годов минувшего века в нынешний, но без успеха.
Сдержанно улыбчивый хозяин с высоко подстриженным седым затылком смахивал на отставного военного или дипломата.
Уже через полчаса мне не захотелось уходить отсюда никуда на свете.
Я терпеливо пил кофе у окна.
Ближе к вечеру там появились прохожие с целыми охапками завернутых в папиросную бумагу длинных батонов.
А когда совсем уж смерклось, над улицей с идущей толпой и пробегающими автомобилями повисли, как оранжевые медузы, отразившиеся в зеркальных стеклах абажуры.
На этом оптические эффекты не завершались: если я отводил глаза внутрь помещения, то в обложенной зеркальными квадратиками колонне, разделявшей узкое, как железнодорожный вагон, помещение, возникал и рассыплся мой собственный кубистический портрет, и не в этом ли самом месте пришла в голову Браку идея его живописной техники?
Время шло.
В углу с аппетитом поедал хлеб, прихлебывая кофе, некто обширный, о ком я так и не понял, мсье это или мадам.
С деловым видом и с сумкой через плечо по улице прокатил молодой человек на единственном колесе, сидя в своем седле так высоко, точно ехал на вертящемся табурете от барной стойки.
Ко мне подсел, и мы принялись угощать друг друга стаканчиками красного, какой-то завсегдатай в широком свитере. По-английски он знал плохо и только все тыкал себя пальцем в грудь: «Я кэптэн. Я ходил на Шпицберген. Там мрак».
Тот, которого я ждал, так и не пришел.
В квартире, где мне выпало остановиться, в другой комнате жила молодая мулатка, приятельница хозяйки. Бльшую часть времени она принимала ванну, а остальное занималась стиркой. Поэтому дорвавшись, наконец, до воды, я всякий раз оказывался в окружении бесчисленных ажурных трусиков, лифчиков и еще каких-то интимных кружевных вещиц, развешанных на веревках над головой – вроде увивающих беседку резных виноградных листьев.
Каждое утро я переходил Сену по мосту над островом Гранд-Жатт. Вдоль узкой протоки теснились черно-белые жилые баржи с калитками поперек дощатых сходней, с привязанными цепью велосипедами на палубе и пальмами в кадках.
И даже утром деревья и трава были пропитаны послеполуденным солнцем Сёра.
Меня повели в ресторан настолько дорогой, что убежать, оставив пальто, во много раз дешевле, чем расплатиться.
В специальном шкафчике стояла почерневшая бутылка вина, выпитая здесь некогда монархами Николаем и Вильгельмом – в качестве аперитива перед мировой войной, я полагаю.
Старый, как дуб, ресторатор с алой розеткой Почетного легиона на лацкане обходил гостей.
Дорогу в туалет, когда понадобилось, мне указывали как минимум шесть официантов.
Бльшая часть застольного разговора касалась распределения чаевых: сколько дать мальчику в лифте, сколько гардеробщице и тому служителю, что снабжает посетителей клубным пиджаком и галстуком.
Все думают, что Франция – это только живопись, архитектура и кухня.
Совсем забывая, что добрую сотню лет она была пионером технического прогресса, как теперь Америка, которой, кстати, и подарила обе главные американские мечты: автомобиль и кинематограф.
И потому Консерваторий науки и техники на улице Сен-Мартен величествен, как Лувр.
Велосипеды исчезнувших борзых пород на цирковых колесах в человеческий рост.
Шпионские камеры 1890-х годов: в карманных часах, галстуке и даже шляпе.
Фонограф Эдисона с деревянной ручкой, как у швейной машинки.
Я семь раз посмотрел «Прибытие поезда» и четырежды завтрак противного младенца (запатентовано Луи и Огюстом Люмьерами 13 февраля 1895 года).
Поезд снят хорошо, а у младенца диатез во всю щеку. Да и папаша его похож на молодого Сталина.
Эволюция автомобилей от деревянной коляски с паровым котлом и лаковых ландо, где седоки располагались лицом к шоферу, правившего ручкой на чугунной колонне.
Фотография фордовского конвейера с рабочими в фетровых шляпах.
Паровой автобус, похожий на пароход, – он заплывал в парижские улицы в начале 1870-х.
Громадная «испано-сюиза» 1935 года из стойла давно истлевшего богача.
Под стрельчатым куполом парят розовые перепончатые аэропланы на велосипедных колесах, столь ненадежно хранившие пилотов в своих матерчатых туловах.
Я так пропитался музейной живописью, что на улице мне стали попадаться люди с размазанными лицами, вроде подмалевков.
Но великий город брал свое.
В метро я видел рекламу теоремы Пифагора.
Ел петуха в вине.
Потрогал бронзовый сыр у Лафонтеновой вороны.
На стрелке Ситэ какая-то пара кормила чаек, и те налетали тучей, так что временами за крыльями было не видать мостов.
В китайском ресторанчике я был единственный едок, но прислуга так гомонила, что я почувствовал себя на переполненной пекинской улице.
От каштанов в газетных кулечках уже подымался пар.
И только упрямые парижанки отказывались признавать приближение зимы, продолжая облачаться в длинные вязаные кофты, заменявшие им пальто.
О-ля-ля!
…Рейс задержался, но все-таки улетел.
Рыжая английская пара, в обнимку ожидавшая посадки, теперь так же в обнимку добиралась в Токио, с остановкой в Москве.
В этот час на оставленных мною улицах еще шляются беспечно лохматые молодые французы.
Дивно подстриженная женщина-полицейский перекрывает улицу, чтобы пропустить запоздавший автобус с туристами.
Упитанный цыган что-то орет в метро под гитару.
В кафе, где уже убирают стулья, все не может угомониться и танцует сам с собой, с бутылкой в руке, развеселившийся негр в полосатой блузе.
И все это великолепие поминутно выхватывает из тьмы своим голубым марсианским глазом страшная Эйфелева башня.
Париж уже постепенно выветривается из меня, оставляя лишь слабый след – вроде запаха давнишних духов.
Но до конца этот запах не улетучится.
О-ля-ля.
Ноябрь 2001
Три зарисовки
длинноногие омички вышагивают как цапли
я даже глянул:
не подают ли в кафе лягушек
на центральную улицу забрел человек из 50-х
в шелковой полосатой пижаме
в соломенной шляпе с порыжелой от времени лентой
каменный парапет Иртыша
исчерканный инициалами + именами
хранит всю летопись провинциальной любви
Омск23–26 мая 2001
Греческие календы
(фотоальбом)
Панорама
то самое место
где Афродита отжимала волосы
выйдя из моря
пальмы
иные с веером
иные в шляпках с пером
только по небу торопится
единственое облачко
отбившееся от стада
Бармен
с глуповатым мужественным лицом Менелая
с тех пор как Елена сбежала от него
и поступила в стюардессы
он напевает все время
мешая разноцветное пойло под видом коктейлей
и не забывая воткнуть
в каждый бокал по бумажному зонтику
для украшенья
по вечерам для завлеченья гостей
приходит приятель Гомер
и бряцая по струнам
горланит свои неправдоподобные песни
Пляжное чтение
так трудно бывает
оторвать глаза от этого мира со слепящим распластанным
пляжем
где столько плоти
резвится в полосатых волнах
прогуливает друг друга вдоль набегающего моря
и млеет на песке
так трудно отвести глаза
уткнуться в книгу —
как после вернуться из обжившей тебя страницы
на хлопочущий пляж
Нимфа
море
лизнуло ее в лицо
и она подпрыгнула с визгом
из волны
показав спелую грудь
На параплане
глупым бывает
выраженье не только лица
но и тела
например
у болтающих голыми ногами летунов
пока их возят по небу
привязанных за веревку к катеру
вроде брошенной Богу приманки
Эвфония
даже не зная вообще ни одного языка
я различил бы
на любом пляже мира
веселую европейскую речь
и сварливую русскую
Созерцатель
скандинав
похожий лицом на барашка
теребя золотую цепочку на шее
любуется морем
где писая тонкими струйками в небо
снуют скутера
понапрасну морща воду
Без лифчиков
тощая немка
подставила равнодушному солнцу жалкие обгоревшие






