Короли и капуста (сборник) О. Генри
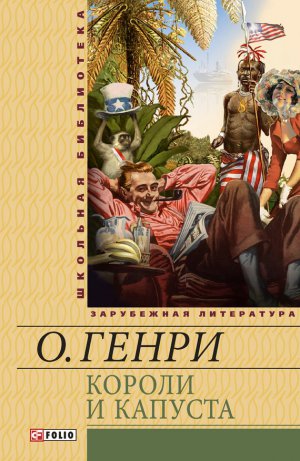
– Что! – разорялся он. – Что за глупость, чтобы люди умирали от того, что листья падают с какого-то поганого плюща! Никогда ничего такого не слышал! Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволили, что у нее голова забита подобной чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси.
– Она очень больная и слабенькая, – сказала Сью, – лихорадка совсем лишила ее разума и навеяла странные фантазии. Ну, что ж, мистер Берман, если не хотите мне позировать, то ладно. Но только вы противный старик… противный старый болтунишка.
– Вы настоящая женщина! – воскликнул Берман. – Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем. Я иду с вами. Полчаса вам уже объясняю, что я готов вам позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!
Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью опустила штору и повела Бермана в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упрямый дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.
Когда на следующее утро Сью проснулась после короткой дремы, она застала Джонси, упершуюся тусклым пристальным взглядом в задернутую зеленую штору.
– Подними, я хочу посмотреть, – шепотом распорядилась она.
Сью неохотно покорилась.
И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща – последний! Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.
– Это последний, – сказала Джонси. – Он должен упасть сегодня ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, и я тотчас же умру.
– Дорогая, милая! – проговорила Сью, прислоняя усталое лицо к подушке. – Подумай обо мне, если тебе на себя наплевать. Как я смогу без тебя?
Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия овладела ею так крепко, что, казалось, окончательно разрывала все узы, связывавшие ее дружбой и с земной жизнью.
День подошел к концу, и даже в сумерках был виден упрямый одинокий лист плюща, стойко держащийся на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно колотил в окна, скатываясь с низкой голландской кровли.
Едва рассвело, Джонси беспощадно скомандовала поднять штору.
Лист плюща по-прежнему был на месте.
Джонси долго лежала, неподвижно глядя на него. А потом она подозвала Сью, которая разогревала куриный бульон для подруги на газовой плите.
– Я дурно себя вела, Сьюди, – проговорила Джонси. – Что-то заставило этот листик удержаться, и он показал мне собственную слабость. Грешно желать себе смерти. Принеси мне немного бульона и чуть молока… нет, прежде всего принеси-ка мне зеркало, да взбей подушки, чтобы я села, буду смотреть, как ты готовишь.
Час спустя она сказала:
– Сьюди, однажды я таки собираюсь нарисовать Неаполитанский залив.
Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.
– Шансы равны, – сказал доктор, пожимая тоненькую руку Сью. – При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь мне нужно к другому больному. Берман его фамилия – тоже какой-то художник, кажется. Тоже пневмония. Он стар и слаб, а случай тяжелый. Он безнадежен, но собирается в больницу, чтобы там ему было поудобнее.
На следующий день доктор сказал Сью:
– Она вне опасности. Вы победили. Хорошее питание и уход – вот и все, что сейчас ей требуется.
В тот же день Сью подошла к кровати, на которой лежала Джонси с вязанием ярко-синего и совершенно бесполезного шарфика, и обняла ее вместе с подушкой.
– Я должна кое-что тебе рассказать, белая мышка моя, – начала она. – Мистер Берман умер сегодня в больнице от пневмонии. Он болел всего два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Его башмаки и одежда были насквозь мокрые и промерзли. Никто не мог понять, куда его носило в такую жуткую ночь. А потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на этот последний листик плюща. Никогда не думала, почему он не падает и не колышется от ветра? Да, дорогая, это и есть шедевр Бермана – он нарисовал его в ту самую ночь, когда упал последний лист.
Из сборника «Сердце запада» (1907)
Выкуп
Я и старик Мак Лонсбури, мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотоносной жилой с прибылью сорок тысяч долларов на нос. Я говорю – старик Мак, но он не был стар. Справедливости ради следует заметить – ему был сорок один год. Но он всегда казался стариком.
– Энди, – обращается он ко мне, – я устал от этой суеты. Мы с тобой только и делали, что пахали три года кряду. Давай сделаем передых и спустим лишние деньжонки.
– Идея недурна, – говорю я. – Давай передохнем чуток, хоть узнаем, как оно. Чем займемся – махнем к Ниагарскому водопаду или будем резаться в фараона?
– Всю жизнь я мечтал, – отвечает Мак, – что если у меня когда-нибудь будут свободные деньги, я сниму где-нибудь хибарку на две комнаты, найму повара-китайца и буду день-деньской сидеть себе в одних носках и читать «Историю цивилизации» Бокля.
– Звучит вполне приятственно, полезно и без вульгарной помпы, – соглашаюсь я. – Думаю, лучшего применения деньгам и не найти. Дай мне часы с кукушкой и «Самоучитель для игры на банджо» Сэпа Уиннера, и я с тобой.
Через неделю мы с Маком попадаем в городок Пинья, что за тридцать миль от Денвера, и находим элегантный домишко – как раз то, что нам нужно. Мы вложили половину наших сбережений в местный банк и лично познакомились с каждым из 340 жителей городка. Китайца, часы с кукушкой, Бокля и самоучитель мы притащили с собой из Денвера; и они тут же придали обжитой вид нашей хибарке.
Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. Мак, сидящий в кресле-качалке, задрав ноги в голубых нитяных носках на подоконник и поглощающий снадобье писаний Бокля сквозь свои очки, – зрелище, которому позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банджо – Старина-молодчина Зип, и кукушка время от времени вставляла свои замечания, и А-Син насыщал атмосферу волшебным запахом яичницы с ветчиной, который затмевал даже запах жимолости.
А когда темнело и становилось невозможно разбирать умозаключения Бокля и наставления самоучителя, мы с Маком закуривали трубочки и беседовали о науке, и добывании жемчуга, и ишиасе, и Египте, и орфографии, и рыбах, и пассатах, и выделке кожи, и благодарности, и орлах, и о многих прочих вещах, о которых прежде не высказывались из-за недостатка времени.
А однажды вечером Мак возьми да и спроси меня, хорошо ли я разбираюсь в нравах и политике женского сословия.
– Ну кого ты спрашиваешь! – говорю я самонадеянным тоном. – Да я знаю их от Альфреда до Омахи[233]. Женскую природу и все такое, – хвалюсь я, – я распознаю так же хорошо, как зоркий осел – Скалистые горы. Я просто собаку съел на всех этих их увертках и выбрыках…
– Понимаешь, Энди, – вздыхает Мак, – мне никогда не приходилось сталкиваться с их расположением. Может, я бы и воспользовался их соседством – да времени не было. Я зарабатывал себе на жизнь с четырнадцати лет, и во мне никогда не находилось места тем мыслям и чувствам, которые, судя по описаниям, должно вызывать особам противоположного пола. Иногда я об этом жалею, – признался старик.
– Женщины – неблагодарный предмет для изучения, – говорю я, – и зависящий от точки зрения. И хотя они отличаются в существенном, я довольно часто замечал, что они очень разнятся и в мелочах.
– Сдается мне, – продолжает Мак, – что гораздо лучше мужчине иметь с ними дело и черпать вдохновение, пока он молод и для этого предназначен. Я упустил свой шанс и, боюсь, теперь слишком стар, чтобы включить их в свою программу.
– Ну, не знаю, – возражаю я, – быть может, ты предпочтешь бочонок, полный денег, и полную свободу от всяческих забот и суеты. А я не жалею, что изучил их. Тот, кто изучил все женские фокусы и уловки, не пропадет в этом мире.
Мы поселились в Пинье, потому что нам там нравилось. Некоторым нравится тратить деньги с шумом, треском и суетой; но нам с Маком надоели бесконечные перетрубации и гостиничные полотенца. Люди были милы, А-Син стряпал еду по нашему вкусу, Мак и Бокль были неразлучны, как два кладбищенских вора, а я научился извлекать почти в точности звуки душещипательной мелодии: «Девочки из Буффало, выходите вечерком».
Однажды я получил телеграмму от Спейта, работника на жиле в Нью-Мексико, с которой я получал проценты. Пришлось ехать, и я застрял там на два месяца. Мне не терпелось вернуться в Пинью и продолжать наслаждаться жизнью.
На подходе к нашей хибарке я чуть не свалился в обморок. В дверях стоял Мак, и, если ангелы вообще плачут, то в этот момент они точно не стали бы улыбаться.
Это был не человек, а настоящее зрелище. Честное слово! На него стоило посмотреть в лорнет, нет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Ликской обсерватории! На нем красовался сюртук и начищенные ботинки, белая жилетка, цилиндр, а впереди была пришпилена герань величиной с пучок шпината. И он глупо ухмылялся, кривлялся и без конца вытирал лицо, словно торгаш в преисподней или мальчишка, у которого схватило живот.
– Привет, Энди, – говорит Мак, вытирая лицо. – Рад, что ты вернулся. А тут без тебя произошли кой-какие изменения.
– Да уж вижу, – говорю я, – и скажу откровенно, это настоящее кощунство. Не таким создал тебя Всевышний, Мак Лонсбури. Зачем же ты так дерзко надругался над его творением, превратив его в такое непотребство?
– Отчего же, Энди, – возражает он, – просто за это время меня выбрали мировым судьей.
Я присмотрелся к Маку. Он был взвинчен и возбужден. А мировой судья должен был кроток и спокоен.
Как раз в этот момент по тротуару проходила молоденькая девушка, и я заметил, как Мак сдавленно хихикнул, замешкался, снял цилиндр, заулыбался и кивнул, и девушка улыбнулась, кивнула и удалилась.
– Ты пропал, – констатировал я, – если в твои годы заболеваешь любовной корью. А я-то надеялся, она к тебе не пристанет. Подумать только – лакированные ботинки! И это за какие-то два месяца!
– Сегодня вечером у меня свадьба… вот эта самая девушка, что прошла мимо… – объявляет Мак воодушевленно.
– Совсем забыл! Мне надо кое-что забрать на почте, – говорю я и исчезаю.
Ярдов через сто я нагнал ту самую девушку. Я поздоровался и представился. Ей было лет девятнадцать, а на вид и того меньше. Она вспыхнула и взглянула на меня холодно, словно на метель из «Двух сироток».
– Я так понял, у вас сегодня вечером свадьба? – спросил я.
– Вы правы, – отвечает она. – А вы что, против?
– Послушай, малышка, – начинаю я.
– Меня зовут мисс Ребоза Ред, – процедила она.
– Знаю, – отвечаю я. – Так вот, Ребоза, я уже немолод, я тебе в папаши гожусь. А эта старая, разряженная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая скачет, кудахтая, в своих лакированных ботинках, как наскипидаренный индюк, – мой лучший друг. Ну и на кой тебе сдалось втягивать его в брачное предприятие?
– Да ведь некого больше, – отвечает мисс Ребоза.
– Вздор! – говорю я, бросая тошнотворный взгляд восхищения на ее черты лица и сложение. – С твоей-то красотой ты подцепишь кого угодно. Послушай, Ребоза. Старикашка Мак тебе не походит. Ему было двадцать два, когда ты стала урожденной Рид, как пишут в газетах. Этот расцвет у него не продлится долго. На самом деле он насквозь пропитан старостью, целомудрием и трухой. У старины Мака просто приступ бабьего лета. В юности он прозевал свою получку, а теперь надеется получить у природы проценты по векселю, который ему достался от Амура вместо наличных. Ребоза, вы уверены, что этот брак вам нужен?
– Вполне, – говорит она, поправляя анютины глазки на шляпе, – и, уверена, ни одна я.
– И во сколько это состоится? – спрашиваю я.
– В шесть, – говорит она.
В этот миг я понял, как надо действовать. Я сделаю все возможное, чтобы спасти старину Мака. Чтобы хороший, пожилой, совершенно не подходящий для супружества человек погиб из-за какой-то девчонки, не отучившейся еще грызть карандаши и застегивать платье на спине, – нет, это превышало меру моего равнодушия.
– Ребоза, – начал я серьезно, сосредоточив весь свой запас знаний касательно женских доводов, – неужели не найдется ни одного молодого человека в Пинье, который вам по душе?
– А то, – возражает Ребоза, кивая своими анютиными глазками, – еще как есть! Спрашиваете тоже!
– А ты ему нравишься? – спрашиваю. – Как он к тебе относится?
– Да с ума сходит, – отвечает Ребоза. – Мамаше приходится ступеньки водой поливать, а то сидел бы там все время. Но, думаю, сегодня вечером этому придет конец, – вздыхает она.
– Ребоза, – говорю я, – так вы не питаете к старикашке Маку никаких трепетных чувств, называемых любовью, так ведь?
– Боже! Нет, конечно! – восклицает девчонка, качая головой. – По-моему, он сух, как дырявый бочонок. Тоже мне, выдумали!
– А как зовут того парня, что тебе нравится? – спрашиваю ее.
– Это Эдди Баулис, – отвечает девушка. – Он работает в лавочке Кросби. Едва зарабатывает тридцать долларов в месяц. Элла Ноакс когда-то по нему сохла.
– Старик Мак сказал мне, – говорю я, – что свадьба сегодня в шесть.
– Да, именно в это время, – подтверждает она. – В нашем доме.
– Ребоза, – убеждаю я, – послушай. Если бы у Эдди Баулиса была тысяча долларов – а, заметь, на эти деньги можно купить собственную лавочку – так вот, окажись у Эдди Баулиса такая спасительная сумма, согласилась бы ты обвенчаться с ним сегодня в пять вечера?
Девушка с минуту смотрит на меня, и я чувствую, какие терзания она испытывает – как любая женщина в подобной ситуации.
– Тысяча долларов? – переспрашивает она. – Конечно, согласилась бы.
– Пошли, – говорю я. – Пошли к Эдди.
Мы подошли к лавочке Кросби и попросили Эдди. Вид у него был почтенный и веснушчатый, и его просто бросило в жар и в холод, когда я изложил ему свое предложение.
– В пять вечера? – спросил он. – За тысячу долларов? Ой, не будите меня! Я все понял, вы богатый дядюшка, отдыхающий от торговых дел в Индии! Я выкуплю магазин у Кросби и займусь им сам.
Мы зашли в лавочку и переговорили со старым Кросби. Я выписал чек на тысячу долларов и вручил ему. Если Эдди и Ребоза обвенчаются сегодня в пять, он отдаст им этот чек.
А потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Присев на бревно, я принялся размышлять о жизни, о старости, зодиаке, женской логике и различных перипетиях нашей жизни. Я мысленно поздравил себя, что, кажется, мне удалось спасти старика от приступа бабьего лета. Я знаю, что когда ему полегчает и он скинет свои сумасбродства вместе с лакированными ботинками, сам же еще спасибо скажет. Удержать старину Мака от подобных выходок, – размышляю я, – да это стоит не одну тысячу долларов. А больше всего я радовался тому, что Мак теперь изучил женщин, и ни одна из них теперь не проведет его своими выходками и уловками.
Было что-то около половины шестого, когда я вернулся в дом. Я вошел и вижу – старина Мак развалился в своем кресле-качалке, ноги в голубых носках на подоконнике, на коленях «История цивилизации».
– Что-то не слишком похоже, что у тебя свадьба в шесть, – говорю я как можно более невинным тоном.
– О, – говорит Мак и тянется за табаком, – все было перенесено на час назад. Мне прислали записку, что время поменялось. Все уже свершилось. А где ты так задержался, Энди?
– Ты уже знаешь о свадьбе? – спрашиваю я.
– Да я сам их венчал, – говорит он. – Я же тебе рассказывал, меня избрали мировым судьей. Священник подался куда-то на Восток, навестить родню, и я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии. Я обещал Ребозе и Эдди, что обвенчаю их, еще месяц назад. Он толковый малый, однажды обзаведется своей лавочкой, вот увидишь.
– Обзаведется, – соглашаюсь я.
– На свадьбе было столько женщин, – рассказывает Мак, закуривая трубку. – Но я как-то не понимаю их. Разбираться бы мне во всех их повадках и уловках, как ты мне рассказывал…
– Это было два месяца назад, – говорю я, беря в руки банджо.
Справочник Гименея
Я, автор сего, Сандерсон Пратт, полагаю, что образовательная система Соединенных Штатов должна находиться в ведомстве бюро погоды. Могу привести вам неопровержимые доводы. Ну, скажите на милость, почему бы университетских профессоров не перевести в метеорологический департамент? Читать они умеют, так что с легкостью могут просматривать утренние газеты и сообщать в главный офис, какой погоды ожидать. Но у этого вопроса есть и другая, более интересная сторона. Сейчас я расскажу вам, как погода преподала мне и Айдахо Грин светский урок.
Мы искали золото в горах Биттер-Рут, за хребтом Монтана. Один бородатый малый в местечке Уолла-Уолла, бог весть на что возлагая надежды, вручил нам аванс; и теперь мы понемногу ковыряли горы, располагая запасами продовольствия, способными прокормить целую армию в период мирной конференции.
Однажды приезжает к нам из Карлоса почтальон, делает у нас привал, проглатывает три банки консервов и оставляет нам свежую газету. А в газете были сводки прогноза погоды и карта, которую она сдала горам Биттер-Рут с самого низа колоды, означала: «Тепло и ясно, легкий западный ветерок».
В тот же вечер пошел снег и подул сильнейший восточный ветер. Мы с Айдахо перенесли свою стоянку выше, в старую хижину, полагая, что это всего лишь налетела ноябрьская метелица. Но когда уровень снега достиг трех футов, мы поняли, что дело принимает серьезный оборот, а также то, что нас занесло. Топливом мы основательно запаслись еще до того, как его засыпало, продовольствия у нас было достаточно на два месяца вперед, поэтому мы предоставили стихии бушевать, как ей заблагорассудится.
Если вы хотите поощрить ремесло человекоубийства, заприте двоих на месяц в одной хижине размером восемнадцать на двадцать футов. Человеческая натура не в силах вынести такое.
Когда упали первые снежинки, мы похохатывали над остротами друг друга и нахваливали бурду, которую извлекали из котелка и называли хлебом. К концу третьей недели Айдахо выдает:
– Мне никогда не приходилось слышать звук, который издают капли кислого молока, падая с воздушного шара на дно кастрюльки, но, уверен, они – сказочная музыка по сравнению с бульканьем вялой струйки дохлых мыслишек, истекающей из ваших разговорных органов. Полупрожеванные звуки, которые вы ежедневно издаете, напоминают мне коровью жвачку с той только разницей, что корова – существо благовоспитанное и держит свое при себе, а вы нет.
– Мистер Грин, – не остаюсь в долгу я, – мы были приятелями, и потому я сомневался, признаваться ли вам, что, будь у меня выбор между вашим обществом и обществом кудлатой колченогой дворняги, один из обитателей этой хижины сейчас бы вилял хвостом.
В таком духе мы переговариваемся два или три дня, а потом и вовсе не молвим ни слова. Мы делим кухонные принадлежности, и Айдахо готовит на одном конце очага, а я – на противоположном. Снега навалило уже по самые окна, и приходилось поддерживать огонь целыми днями.
Признаться, ни у меня, ни у Айдахо не было образования, не считая умения читать и вычислять на доске: «Если у Джона было три яблока, а у Джеймса пять…» Мы никогда не чувствовали особой потребности в университетском дипломе, ведь, колеся по свету, мы приобрели достаточно истинно полезных знаний и умений, чтобы не пропасть в критической ситуации. Но, заточенные в заснеженной хижинке в Биттер-Рут, впервые в жизни мы почувствовали, что, изучай мы в свое время Гомера, греческий, дроби и прочие высокие материи, мы имели бы сейчас гораздо больше пищи для ума и предметов для размышлений. Я наблюдал множество юнцов, вышедших из восточных колледжей и работающих в ковбойских лагерях по всему Западу, и пришел к выводу, что образование было для них меньшей помехой, чем это могло казаться. Например, однажды на Снейк-Ривер лошадь Андру Мак-Уильямса подцепила чесотку. Так он погнал за десять миль тележку за одним из тех чудаков, что величают себя ботаниками. А лошадь все равно сдохла.
Однажды утром Айдахо шарил поленом по высокой полке, до которой невозможно было дотянуться рукой. На пол упали две книги. Я бросился к ним, но напоролся на взгляд Айдахо. И он заговорил, впервые за эту неделю.
– Не ошпарьте пальчиков, – сказал он. – Хоть вы годитесь в компаньоны только спящей черепахе, я, так и быть, поступлю с вами благородно. И это, заметьте, больше того, что сделали ваши родители, выпустив вас в жизнь с общительностью гремучей змеи и отзывчивостью мороженой репы. Играем с вами до туза, кто выиграет – выбирает себе книгу, проигравший довольствуется оставшейся.
Мы сыграли. Айдахо выиграл. Он выбрал себе книгу, я забрал свою. Мы разошлись по своим углам и набросились на чтение.
В жизни не был я так рад и самородку в десять унций, как этой книге. Айдахо смотрел на свою, как дитя на леденец.
Моя книжонка была небольшая, размером пять на шесть дюймов, и называлась «Херкимеров справочник необходимых познаний». Может, я и ошибаюсь, но, кажется, это величайшая книга из всех когда-либо написанных. Она хранится у меня до сих пор, и с ее помощью я любого пятьдесят раз обставлю в пять минут. Куда до нее Соломону или «Нью-Йорк трибьюн»! Херкимер обоих заткнет за пояс. Должно быть, человек путешествовал лет пятьдесят и преодолел миллион миль, что набрался такой премудрости. Тут тебе и популяция всех городов, и способ, как узнать возраст девушки, и количество зубов у верблюда. И про длиннейший туннель в мире, и количество звезд, и через сколько дней высыпает ветряная оспа, и параметры женской шейки, и права на вето у губернаторов, и даты строительства римских акведуков, и сколько фунтов риса можно купить, не выпивая три кружки пива в день, и среднегодовая температура в Огэсте, что в штате Мэн, и сколько нужно семян моркови, чтобы засеять один акр рядовой сеялкой, и какие бывают противоядия, и количество волос на голове у блондинки, и как хранить яйца, и высоту всех гор в мире, и даты всех войн и сражений, и как приводить в чувство утопленников и пораженных солнечным ударом, и сколько гвоздей идет на фунт, и как обращаться с динамитом, цветами и постельным бельем, и что предпринять до прихода доктора – и еще пропасть всяких вещей. Может, Херкимер чего-то и не знал, но по книжке этого было не заметно.
Я просидел за чтением четыре часа кряду. В ней были заключены все чудеса познания. Я забыл про снег, я забыл про разлад между мной и стариной Айдахо. А он притаился на стуле за своей книжкой, и какая-то мягкость и загадочность светились на его лице сквозь ржавую бороду.
– Айдахо, – обращаюсь к нему, – а у тебя что за книга? Айдахо, должно быть, тоже позабыл обо всем на свете и ответил мне спокойно, без злости и раздражения:
– Да вот, – ответил он, – какой-то Омар Ха-Эм[234].
– Омар X. М. А дальше? – не понимаю я.
– Ничего дальше. Просто Омар X. М., – отвечает он.
– Врешь, – говорю я, несколько раздражаясь, что Айдахо думает провести меня. – Какой дурак станет подписывать книжку инициалами. Если он Омар X. М. Снупендук, или Омар X. М. Мак-Свини, или Омар X. М. Джонс, то так и скажи, а не жуй конец фразы, как теленок конец рубахи, вывешенной на просушку.
– Да говорю же тебе, Санди, – говорит Айдахо вкрадчиво, – это книга стихов Омара X. М. Сначала я не очень понял, а теперь вижу, что в них определенно что-то есть. Я бы не променял эту книгу и на пару шерстяных одеял.
– Ну и читай себе на здоровье, – говорю я. – Я предпочитаю беспристрастное изложение фактов, чтобы было над чем поработать мозгу, и как раз такая книжка мне и попалась.
– Твоя книжка, – возражает Айдахо, – статистическая, самая низкопробная из всей литературы. Она отравляет сознание. Нет, мне больше по душе система намеков этого господина Ха. Эм. Он, похоже, что-то вроде агента по продаже вин. Его коронный тост – все нипочем, и он был бы излишне желчен, если бы не разбавлял желчь спиртом. А так даже самая бесстыдная его брань звучит приглашением распить бутылочку. Да, это истинная поэзия, – говорит Айдахо, – и я презираю твою расчетную контору, где пытаются раскроить чувства по фунтам и дюймам. А что до выражения философских идей с помощью искусства, через природу – так мой Ха. Эм. твоему умнику сто очков даст – включая объем груди и среднегодовой процент осадков.
Вот так и шло у нас с Айдахо. Круглые сутки всего-то и радости у нас было, что заниматься нашими книжками. Несомненно, снежная буря принесла нам уйму всяких познаний. Если бы в то время, когда снег начал таять, вы вдруг спросили меня: «Сандерсон Пратт, а сколько стоит покрыть квадратный фут крыши железом двадцать на двадцать восемь, ценою девять долларов пятьдесят центов за ящик?! – я бы ответил вам с быстротой, с какой свет пробегает по ручке лопаты – со скоростью в сто девяносто две тысячи миль в секунду. А многие из вас способны на такое? А разбудите кого угодно среди ночи и потребуйте ответа, сколько костей, не считая зубов, в человеческом скелете, и какой процент голосов требуется в парламенте штата Небраска, чтобы отменить «вето». Скажет он вам? А вы попробуйте, и убедитесь.
А вот что Айдахо нашел в своей книге – ума не приложу. Он только и делал, что нахваливал своего винного агента – стоило ему открыть рот, но для меня это не звучало убедительно.
Этот Омар X. М., как виделось мне из своеобразного изложения его творчества, представленного мне Айдахо, был вроде собачонки, которая смотрит на жизнь как на консервную банку, привязанную к ее хвосту. Набегается, измотается до полусмерти, сядет отдохнуть, высунет язык, посмотрит на банку и скажет: – Ну, что ж, не удалось от нее избавиться – потащим ее в кабак на углу и наполним за мой счет.
Кроме того, он, кажется, был персом, а Персия никогда не производила ничего стоящего, если это не касается турецких ковров и мальтийских кошек.
В ту весну мы с Айдахо напали на богатую жилу Мы взяли за правило все быстренько распродавать и двигаться дальше. Мы сдали нашему подрядчику золота на восемь тысяч долларов каждый, а потом отправились к маленькому городку Роза, что на реке Салмон, чтобы отдохнуть, поесть по-человечески и соскоблить отросшие бороды.
Роза не была приисковым поселком. Она разместилась в долине, и в ней не было места шуму и распутству, словом, напоминала любой городок сельской местности. В Розе была трехмильная трамвайная линия, и мы с Айдахо целую неделю катались в одном вагончике, вылезая только на ночь у отеля «Закат». Будучи начитанными, к тому же путешественниками, мы вскоре стали вхожи в высшее общество городка, и нас приглашали на самые изысканные и бонтонные вечеринки. Вот на одном таком благотворительном вечере-конкурсе на лучшую мелодекламацию и на большее количество съеденных перепелов, устроенном в здании муниципалитета в пользу пожарной команды, мы с Айдахо и познакомились с миссис Д. Ормонд Сэмпсон, королевой общества Розы.
Миссис Сэмпсон была вдовой, а также владетельницей единственного двухэтажного дома во всем городе. Он был выкрашен в желтый цвет, и, откуда бы вы ни смотрели, сразу заметите его, так же ясно, как остатки желтка в постный день в бороде ирландца. Двадцать два человека, помимо нас с Айдахо, заявляли претензии на этот домишко.
Когда из зала были выметены последние ноты и перепелиные кости, начались танцы. Тридцать три кавалера галопом бросились к миссис Сэмпсон с приглашением на танцы. Я отступился от тустепа и добился разрешения сопровождать ее домой. И вот тут уж я показал себя.
По дороге домой она восклицает:
– Какие сегодня чудесные яркие звезды, не правда ли, мистер Пратт?
А я ей:
– Учитывая их возможности, они выглядят довольно мило. Видите вон ту, большую? Она находится на расстоянии шестидесяти шести миль от нас. Свет от нее идет до нас тридцать шесть лет. В восемнадцатифутовый телескоп можно увидеть сорок три миллиона звезд даже тринадцатого порядка, и, если какая-нибудь из них сейчас погаснет, мы будем видеть ее еще тридцать семь тысяч лет.
– Надо же! – восклицает миссис Сэмпсон. – Никогда об этом не знала. Ох, как мне жарко! Я вся вспотела от этих танцев.
– Ну конечно, – отвечаю я, – это несложно предугадать, учитывая, что на вашем теле одновременно работают два миллиона потовых желез. Если бы все ваши потопроводные трубки длиной в четверть дюйма каждая присоединить друг к другу концами, они вытянулись бы на семь миль.
– Царица Небесная! – удивилась миссис Сэмпсон. – Вы так описываете, словно речь идет об оросительном канале. Откуда у вас столько познаний в таких областях?
– Из наблюдений, миссис Сэмпсон, – отвечаю я. – Путешествуя, я не закрываю глаза.
– Мистер Пратт, – говорит она, – меня всегда восхищали образованные люди. Среди тупоголовых идиотов нашего города так мало умных людей, что истинное наслаждение побеседовать с культурным джентльменом. Буду рада видеть вас у себя в гостях в любое угодное вам время.
Вот так я заполучил благосклонность госпожи желтого дома. Я приходил к ней по вторникам и пятницам и рассказывал о чудесах вселенной, открытых, классифицированных и воспроизведенных с натуры Херкимером. Айдахо и другие донжуаны города улучали любую минутку в прочие дни недели, им оставшиеся.
Я даже не подозревал, что Айдахо пытается воздействовать на миссис Сэмпсон приемчиками ухаживания старикашки X. М., пока однажды утром не вздумал принести ей корзинку диких слив. Я встретил миссис Сэмпсон в переулке, ведущем к ее дому; ее глаза недобро сверкали, а на глаза была угрожающе надвинута шляпка.
– Мистер Пратт, – начала она, – насколько понимаю, этот мистер Грин ваш давний друг.
– Вот уже девять лет, – подтверждаю я.
– Порвите с ним! – выпаливает она. – Он не джентльмен!
– Постойте, сударыня, – возражаю я, – он обыкновенный житель гор, которому присуще хамство и обычные недостатки расточителя и лгуна, но никогда, даже при самых критических обстоятельствах, мне не приходилось обвинять его в не-джентльменстве. Вполне возможно, что своим мануфактурным снаряжением, наглостью и всем своим видом он противен глазу, но по своему нутру, сударыня, он так же не склонен к подлости, как и к тучности. И после девяти лет, проведенных в обществе этого человека, мне, миссис Сэмпсон, – я задохнулся от волнения, – у меня бы язык не повернулся порицать его, и я не позволю порицать его другим.
– Это очень похвально с вашей стороны, мистер Пратт, – говорит миссис Сэмпсон, – так вступаться за своего друга, но это не опровергает факта, что он сделал мне предложение достаточно оскорбительное, чтобы возмутить скромность всякой женщины.
– Да быть того не может! – говорю я. – Чтобы старина Айдахо… Да скорей я на такое сподоблюсь. За ним водится лишь один грех, и в том повинна метель. Однажды снег задержал нас в горах, и мой друг попал под влияние вульгарных и недостойных стихов, которые, должно быть, и развратили его манеры.
– Именно, – подтверждает миссис Сэмпсон. – Со дня нашего знакомства он без конца декламирует мне совершенно бесстыдные стихи какой-то Рубай Атт – так он называет автора, и, судя по ее стихам, она та еще штучка.
– У, это старина Айдахо напал на новую книгу, – говорю я, – автор той, что у него была, пишет под nom de plume[235] X. М.
– Вот лучше бы за нее и держался, – вздыхает миссис Сэмпсон. – Не знаю, что там была за книга, но сегодня он перешел все приличия. Получаю от него букет цветов, а к ним пришпилена записка. Вы, мистер Пратт, вы знаете меня, знаете, что такое воспитанная женщина, знаете, какое положение я занимаю в обществе Розы. И можете вообразить, чтобы я побежала в лес с мужчиной, с кувшином вина и буханкой хлеба, и пела и скакала с ним под деревьями? Я выпиваю немного красного вина за обедом, но совершенно не собираюсь распивать его кувшинами в кустах и тешить дьявола подобным манером. И, конечно, он захватит с собой книжку этих стихов. Так он и сказал. Нет уж, пусть сам ходит на свои скандальные пикники! Или пусть захватит с собой свою Рубай Атт. Уверена, если она и будет брыкаться, так только что он взял хлеба больше, чем вина. Ну, и что вы теперь скажете про своего дружка, мистер Пратт?
– Понимаете, – пускаюсь в объяснения я, – вероятно, приглашение Айдахо было исключительно поэзией, и он ничего такого не имел в виду. Скорей всего, это то, что называется фигуральными стихами. Они противоречат законам, однако почта их пропускает, потому что в них написано вовсе не то, что имеется в виду. Был бы рад за Айдахо, если вы не воспримите это так всерьез, – говорю я, – и пусть наши мысли взлетят от низших областей поэзии к высшим сферам факта и расчета. Наши мысли, мисс Сэмпсон, – продолжаю я, – должны соответствовать такому чудесному утру. Хотя тут у нас и тепло, не стоит забывать, что на экваторе линия вечного холода находится на высоте пятнадцати тысяч футов. А между сороковым и сорок девятым градусом широты она находится на высоте от четырех до девяти тысяч футов.
– Ах, мистер Пратт, – говорит миссис Сэмпсон, – так чудесно слушать ваши прекрасные факты после невыносимых стихов этой ужасной Рубай!
– Присядемте на вот это бревно на обочине, – предлагаю я, – и забудем о бесстыдстве и развращенности поэтов. В длинных столбцах удостоверенных фактов и общепринятых мер и весов – вот где истинная красота. Вот в этом бревне, на котором мы, миссис Сэмпсон, сидим, – вещаю я, – заключается статистика, и она прекрасней любых стихов. Кольца на срезе показывают, что дерево прожило шестьдесят лет. На глубине двух тысяч футов, через три тысячи лет оно превратилось бы в уголь. Самая глубокая угольная шахта в мире находится в Киллингворте близ Ньюкасаля. Ящик в четыре фута длиной, три фута шириной и два фута восемь дюймов вышиной вмещает тонну угля. Если порезана артерия, стяните ее выше раны. В ноге человека тридцать костей. Лондонский Тауэр сгорел в тысяча восемьсот сорок первом году.
– Продолжайте, мистер Пратт, – просит миссис Сэмпсон. – Ваши идеи так оригинальны и успокоительны. По-моему, статистика – самое прелестное, что только может быть.
Но по-настоящему оценить Херкимера мне довелось лишь две недели спустя.
Однажды ночью я проснулся от страшного шума и воплей: «Пожар!» Я вскочил, оделся и вылетел из отеля поглядеть, что стряслось. Увидев, что это горит дом миссис Сэмпсон, я испустил пронзительный вопль и через две минуты был там.
Весь первый этаж пресловутого дома был охвачен огнем, и тут же столпилось все мужское, женское и собачье население Розы и орало, и лаяло, и мешало пожарным. Я увидел Айдахо, вырывающегося от шести полисменов, однако те крепко его держали. Они пытались втолковать Айдахо, что весь этаж заполонило пламя и живым оттуда не выбраться.
– Где миссис Сэмпсон? – спрашиваю я.
– Никто ее не видел, – отвечает один из пожарных, – ее спальня наверху. Мы пытались туда добраться, но не смогли, а лестницами мы еще не располагаем.
Я выбегаю на открытое место, освещенное пламенем пожара, и вытягиваю из кармана справочник. Почувствовав его в руках, я даже засмеялся – кажется, я слегка очумел от возбуждения.
– Херки, дружище, – говорю я ему, лихорадочно листая страницы, – ты никогда не врал мне, ты никогда не оставлял меня в беде. Подскажи, дружок, подскажи же! – прошу я.
Я наткнулся на Действия при несчастном случае на странице 117. Пробежал глазами страницу и захлопнул книгу. Старина Херкимер, в любой ситуации выручишь! В книге говорилось: «Удушение от вдыхания дыма или газа. – Нет ничего лучше льняного семени. Вложите несколько семян в наружный угол глаза».
Я засунул справочник обратно в карман и схватил пробегавшего мимо мальчишку.
– Вот, – выпалил я, вручая ему монетки, – беги в аптеку и купи на доллар льняного семени. Живо, и получишь доллар за работу. Теперь, – объявляю толпе, – мы добудем миссис Сэмпсон! – и сбрасываю пиджак и шляпу.
Четверо пожарных и граждан хватают меня. Идти в дом, по их словам, – идти на верную смерть, ведь уже начал проваливаться пол.
– Да как же, черт побери! – кричу я, все еще смеясь, хотя мне уже не до смеха. – Ну как же я вложу льняное семя в ее глаз, не имея глаза?
Я двинул локтем пожарного по лицу, лягнул одного гражданина и столкнул другого. И затем я ринулся в дом. Если я умру раньше вас, обещаю выслать вам письмо и описать, насколько лучше в аду, чем было в тот момент в желтом доме, но пока не делайте выводов. Я прожарился куда больше, чем те цыплята, которых подают в ресторанах по срочным заказам. Огонь и дым дважды сваливали меня с ног, и я чуть было не посрамил Херкимера, но пожарные помогли мне, пустив струю воды, и я наконец добрался до комнаты миссис Сэмпсон. От дыма и чада она потеряла сознание, и я завернул ее в простыню и перекинул через плечо. Так что пол не настолько уж проваливался, как меня пугали, – иначе я бы никогда не проделал того, что мне удалось.
Я отнес ее на пятьдесят ярдов от дома и положил на траву. Тогда, конечно, все остальные двадцать два претендента на руку миссис Сэмпсон столпились вокруг с ковшиками воды, готовые спасать ее. Тут прибежал мальчик с льняными семенами.
Я раскутал голову миссис Сэмпсон. Она открыла глаза и спрашивает:
– Это вы, мистер Пратт?
– Тс-с-с, – прошу я, – вам нельзя говорить, пока не примете лекарство.
Я обвиваю рукой ее шею и осторожно приподнимаю ее голову, другой рукой разрываю мешочек с льняными семенами и, склонясь над ней, бережно вкладываю несколько семян в наружный уголок ее глаза.
Тут галопом прилетает деревенский доктор, фыркает во все стороны, хватает миссис Сэмпсон за пульс и интересуется, что, собственно, значат мои идиотские выходки.
– Ну, понимаете, клистирная трубка, – объясняю я, – я не занимаюсь постоянной врачебной практикой, но, тем не менее, могу сослаться на авторитет.
Мне приносят мой пиджак, и я извлекаю справочник.
– Откройте страницу 117, – говорю им. – Удушение от вдыхания дыма или газа. Льняное семя в наружный угол глаза, так ведь? Я не сумею сказать, действует ли оно как поглотитель дыма, или побуждает к действию сложный гастро-гиппопотамический нерв, но Херкимер его рекомендует, а он был первым приглашен к пациентке. Если хотите устроить консилиум, я ничего не имею против.
Старый доктор берет книгу в руки и рассматривает ее при помощи очков и пожарного фонаря.
– Ну знаете ли, мистер Пратт, – заключает он, – вы, очевидно, ошиблись строчкой. Рецепт от удушья гласит: «Вынесите больного как можно скорее на свежий воздух и положите его на спину, приподняв голову», а льняное семя – это средство против «пыли и золы, попавших в глаз», строчкой выше. Но, в общем-то…
– Послушайте, – перебивает миссис Сэмпсон, – послушайте, думается, мое мнение важно на этом консилиуме. Это льняное зернышко несказанно мне помогло, просто как никакое другое лекарство в моей жизни. А потом она поднимает голову, снова опускает мне на плечо и говорит: – Положи еще и в другой глаз, Сэнди, милый…
И теперь, если вам вздумается остановиться в Розе, и завтра, и через год вы увидите чудесный новый желтый домик, осчастливленный и украшенный присутствием в нем миссис Пратт, бывшей миссис Сэмпсон. А если вам доведется ступить через его порог, то вы увидите на мраморном столе посреди гостиной «Херкимеров справочник необходимых познаний», заново переплетенный в красный сафьян и готовый дать совет по любому вопросу, касающемуся человеческого счастья и мудрости.
Пимиентские блинчики
Когда мы сгоняли гурт скота с тавром «Треугольник-О» в долине Фрио, торчащий сук сухого мескита зацепился за мое деревянное стремя, я вывихнул себе ногу и неделю провалялся в лагере.
На третий день своего вынужденного бездействия я выполз к фургону с провизией и был повержен словесным обстрелом Джадсона Одома, нашего повара. Джад был рожден оратором, но судьба, как всегда, ошиблась, навязав ему профессию, в которой он большую часть времени был лишен аудитории.
Таким образом, я оказался манной небесной в пустыне Джадового молчания.
Своевременно во мне заговорило естественное для больного желание поесть чего-нибудь эдакого, не предусмотренного описью нашего пайка. Меня посетили видения матушкиного буфета, «безбрежного, как первая любовь, источника горьких сожалений», и я спросил:
– Джад, а ты умеешь печь блинчики?
Джад отложил свой шестизарядный револьвер, которым собирался отбивать антилопье мясо, и встал надо мною в позу, показавшуюся мне недоброй. Впечатление усилилось холодным взглядом его блестящих голубых глаз, устремленным на меня.
– Слушай, ты, – сказал он с очевидным, хоть и сдержанным гневом. – Ты что, издеваешься, или серьезно? Тебе что, никто из ребят не рассказывал про эту переделку с блинчиками?
– Что ты, Джад, – заверяю его, – я бы, кажется, собственную лошадь и седло отдал за горку масленых зажаристых блинчиков с горшочком свежей новоорлеанской патоки. А что, была какая-то история с блинчиками?
Увидев, что я не имею в виду никакой хитрости, Джад сразу смягчился. Он принес из фургона какие-то таинственные мешочки и жестяные баночки и разместил их в тени куста, под которым я примостился. Я наблюдал, как он не спеша начал их расставлять и развязывать многочисленные веревочки.
– Ну, не то что бы история, – начал Джад, не прерывая работы, – просто логическое недоразумение между мной, красноглазым овчаром из лощины Шелудивого Осла и мисс Уиллелой Лирайт. Если хочешь, пожалуй, расскажу тебе.
Я пас тогда скот у старика Билла Туми на Сан-Мигуэле. Однажды мне ужас как захотелось пожевать чего-нибудь такого консервированного, что никогда не мычало, не блеяло, не хрюкало и не отмеривалось гарнцами. Ну, я и вскочил на свою малышку да и махнул в лавку дядюшки Эмсли Телфэра, что у Пимиентской переправы через Нуэсес.
Около трех пополудни я накинул поводья на сук мескита и пешком прошел последние двадцать шагов до лавки дядюшки Эмсли. Я вскочил на прилавок и провозгласил, что, по всем приметам, урожаю фруктов по всему миру грозит гибель. Через минуту я являлся обладателем мешка сухарей, ложки с длинной ручкой и по открытой банке абрикосов, ананасов, вишен и сливы, а рядом старался дядюшка Эмсли, вырубая топориком желтые крышки. Я чувствовал себя, как Адам до скандала с яблоком, вонзал шпоры в прилавок и орудовал своей двадцатичетырехдюймовой ложкой, как вдруг бросил взгляд за окно во двор дома дядюшки Эмсли, что как раз возле магазина.
Там стояла девушка, незнакомая девушка в полном снаряжении; она вертела в руках крокетный молоток и изучала мой способ поощрения фруктово-консервной промышленности.
Я скатился с прилавка и вручил лопату дядюшке Эмсли.
– Это моя племянница, – сказал он, – мисс Уиллела Лирайт, приехала погостить из Палестины[236]. Хочешь, познакомлю?
Вот так дядюшка Эмсли выволок меня во двор и отрекомендовал нас друг другу.
Я никогда не испытывал смущения при женщинах. Никогда не понимал мужчин, которые способны на раз уложить мустанга и побриться в кромешной тьме, но становятся паралитиками, заиками и еще черт знает кем при виде куска миткаля, обернутого вокруг того, вокруг чего ему и полагается быть обернутым. Не прошло и восьми минут, как мы с мисс Уиллелой гоняли крокетные шары, дружно, словно двоюродные брат с сестрой. Она подколола меня относительно количества поглощаемых мною консервированных фруктов, я не остался в долгу, напомнив ей про некую даму по имени Ева, устроившую скандал из-за фруктов на первом же свободном пастбище.
– Кажется, это ведь в Палестине было? – говорю я так легко и непринужденно, словно заарканивая однолетку.
Вот как я расположил к себе мисс Уиллелу Лирайт, и со временем наша приязнь росла. Она проживала на Пимиентской переправе ради поправки здоровья, очень хорошего, и климата, на сорок процентов жарче, чем в Палестине. Поначалу я ездил повидаться с ней раз в неделю, а потом смекнул, что, если буду ездить два раза, то буду видеть ее в два раза чаще.
А однажды я решил поехать в третий раз за неделю. Вот тут-то и вступили в игру блинчики и красноглазый овчар.
В тот вечер я сидел верхом на прилавке, во рту у меня был персик и две сливы, и спросил у дядюшки Эмсли, что там поделывает Уиллела.
– Да вот, – ответил дядюшка, – поехала кататься верхом с Джексоном Птицей, овцеводом из лощины Шелудивого Осла.
Я так и проглотил персиковую косточку и две сливовых. Думаю, кто-то держал прилавок под уздцы, когда я слезал. А потом я пошел прямо, пока не уперся в мескит, где был привязан мой чалый.
– Она поехала кататься, – прошептал я на ухо своей конячке, – с Птицсоном Джеком, Шелудивым Ослом из Овцеводной лощины. Понимаешь, ты, мой парнокопытный друг?
Мой чалый заплакал на свой манер. Это был урожденный ковбойский конь, и он не любил овцеводов. Я вернулся и спросил дядюшку Эмсли:
– Так, значит, вы сказали с овцеводом?






