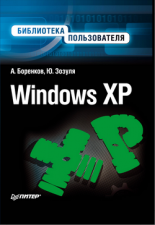Аватара клоуна Зорин Иван
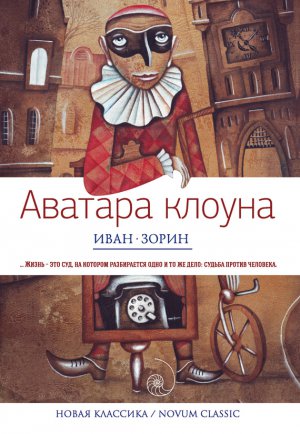
– Хочешь сказать, я пишу лучше?
– Смеёшься?
И тогда Лялин стал хохотать. Он никогда так не смеялся – ни до, ни после, и был не в силах остановиться, даже когда жена взяла его за руку.
– Что, что с тобой? – встревожено повторяла Лиля, впервые видевшая мужа в таком состоянии. – Неужели… – Её лицо отразило внезапно пришедшую мысль. – Неужели ты… – Она ткнула в него пальцем. – Ты!
Теперь они хохотали оба, опустившись на грязный по ловик.
– Гамбургский счёт! – в изнеможении захлёбывался Лялин. – Гамбургский счёт!
– А ты-то, ты-то! – заливалась Лиля.
Из-под двери сквозил холод, на кухне пробили часы.
– Ну, мы же его опубликуем, – немного успокоившись, сказал Лялин.
– Конечно, дорогой! В порядке очереди.
Маятник качнулся, и всё пошло своим чередом. Лялин по-прежнему мастерил романы, писал заказные статьи и дружил с нужными людьми, которых в глубине презирал. Грудина он больше не видел, а когда в памяти иногда всплывала их встреча, вспоминал, что его роман целиком так и не прочитал. Жена по-прежнему готовила ему кофе, и он оставался в счастливом неведении относительно той ночи, когда она по телефону призналась подруге: «Прочитала гениальный роман, но ради мужа пришлось его отклонить».
Петербургский реквием
«Всё, что с нами случается, случается помимо нас, – бубнил Семён Захарович, работая могильным заступом. – И жизнь нам дают не спрашивая, и смерть». Но думал о том, почему оказался на кладбище, заживо гниющим среди мертвецов, могильщиков и забулдыг-сторожей.
Семёну Захаровичу за шестьдесят, и ещё недавно он считал свой возраст нежным, как у младенца: «То сердце, то печень, тронь – сломаются». А теперь моросил дождь, комья сырой земли липли к железу, но простуды он не боялся. У его сверстников толпились в прихожей врачи, карманы оттопыривали лекарства, а речь перемежали слова из медицинского справочника. Но Семён Захарович не мог поддерживать разговоры, которые крутились вокруг болезней, не мог жить согласно принципу: «Лечусь – значит существую!», ему вдруг стало всё безразлично, и он не мог ответить себе, зачем и дальше тянуть лямку.
Так он очутился в Александро-Невской лавре.
Раньше Семён Захарович работал редактором и теперь ухаживал за могилами так же тщательно, как раньше чистил рукописи. Ему отвели просевшую, жмущуюся к забору привратницкую, из-за двускатной крыши похожую на гроб, с окошком таким низким, что мужчину от женщины можно было отличить лишь по обуви. Семёну Захаровичу было всё равно. Он давно носил привычки, как улитка дом, прячась в них, чувствовал себя везде на своём месте.
И всюду оставался чужим.
Когда-то в юности Семён Захарович, мечтая осчастливить мир, запускал в него бумажные кораблики надежд, для прочности подкладывал в его основание обожжённые болью кирпичики своих стихотворений. Но мир оставался глух, до него было не докричаться, а все попытки Семёна Захаровича оставались звонками в пустую квартиру. И всё же мысленно он продолжал писать книгу, в которой ответил бы сразу на все вопросы. Потому что все вопросы для него сводились к одному – отчего мир такой огромный, а он живёт в нём, будто в собачьей конуре. С годами книга пухла, а вопрос по-прежнему сверлил мозг. И теперь он пытался найти ответ в окружавших его эпитафиях, которые слагали заключительные главы его книги. В плывших рассветных сумерках он перелистывал свои замогильные записки, не в силах разобрать, видит их во сне или наяву.
Вечерами Семён Захарович выходил за кладбищенские ворота, кормил с дощатого моста крикливых чаек, рассыпая пригоршнями хлебные крошки, глядел на уток, скользящих по лениво текущей Монастырке, пока не замечал в холодной прозрачной воде желчное старческое лицо, похожее больше на посмертную маску. Тогда он отправлялся в город, который умер ещё сто лет назад, в сгустившемся тумане разглядывал старинные дома с каменными львами, и ему казалось, что за их тускло светящимися окнами живут загадочные гномы из сказочного прошлого. Но он знал, что эти квартиры давно населяют другие, что завтра увидит жильцов на прямых, как палки, улицах, по которым они будут рыскать с такими лицами, будто продолжается ленинградская блокада.
И говорить на языке, которого недостойны.
В прошлом у Семёна Захаровича осталась жена. Он помнил, как в электрическом свете её волосы тонкими тенями секли лицо, как шрамами, как, целуя их, шептал: «Женщины делятся на тех, кто красивее на улице, и тех, кто в постели. Ты из последних». Жена улыбалась, клялась, что посвятит ему жизнь, но очень скоро её слова выцвели, как застиранное бельё.
Так что, выйдя на пенсию, Семён Захарович привычно завтракал в одиночестве, а за ужином говорил с самим собой.
Уходя из дома, Семён Захарович припомнил жене всё.
– Ты оказалась нахрапистая, – поставил он точку в их затянувшемся диалоге. – Нахрапом можно взять – удержать невозможно.
– Нашёл тоже, – покрутили ему у виска, – жизнь прошла, а ты всё балаболишь.
Однако Семён Захарович не прожил пустоцветом, у него вырос наследник, и было кому передать опыт. Когда сын был маленьким, он гладил ему волосы и напутствовал: «Вот повзрослеешь, и случится тебе попасть в трудное положение. Так ты подумай тогда: „А как бы поступил мой отец, что бы он сделал?“ И поступай наоборот». Сын оказался хорошим учеником и, разменяв четвёртый десяток, звонил родителям, только когда ругался с женой. Тогда он вспоминал детство, клял свою теперешнюю жизнь и обещал приехать.
Но так ни разу и не появился.
В старинных родовых усыпальницах, своротив ржавый замок и набросав ворох прелой листвы, ночевали бомжи. «От мёртвых не убудет», – вздыхал Семён Захарович, разгребая железным прутом тлевшие на рассвете костры. С утра бомжи, как стая перелётных птиц, тянулись мимо привратницкой – заспанные, опухшие, подбирали окурки, лениво приставали к прохожим и, стуча грязными ботинками в низенькое окошко, просили воды.
По воскресеньям Семён Захарович ходил на службу, протискиваясь меж огромных колонн собора, ставил свечи у темноликой, в серебряном окладе Богородицы, крестился, отвешивая земные поклоны мощам святого Александра, которого в душе считал мальчишкой. Под высоким, как небо, куполом ему становилось душно, он поспешно выходил и, задирая голову поверх барельефов на фронтоне, разбирал лепные буквы «Бгъ». В Бога Семён Захарович не верил, а в церковь ходил, чтобы не косилось начальство.
И всё равно слыл богоборцем.
– Как думаешь спасаться? – гудел в его каморке моложавый батюшка, потягивая красный, как кровь, кагор.
Семён Захарович не мечтал о воскресении, он видел жизнь такой, какая она есть, и понял вопрос по-своему.
– Каждый спасается, как умеет, – развёл он руками, – одни за жену прячутся, другие – за работу. Главное – забыть, что живёшь. Жизнь-то, как попрошайка: привяжется – не отпустит…
Округлив глаза, батюшка смахнул с усов липкие капли.
– Живёт не человек, – гнул своё Семён Захарович, – живёт беспокойство внутри него, а человек свою жизнь под него подстраивает.
Отодвинув стакан, батюшка поднялся.
– Человеку другого не понять, – прочитал его мысли Семён Захарович. – А когда нет понимания, остаётся Бог.
Возвышая голос, он рубил воздух ладонью, приставляя к груди сведённые в горсть пальцы.
Пока не уставился на пустой стул.
«У каждого своя правда, – пожал он тогда плечами. – Один Бог всё видит, а Его нет…»
А батюшка, не разбирая дороги, шёл домой.
«Старики злые, как осенние мухи, – вздыхал он, – помирать скоро, вот и хотят мир за собой утащить».
Дорогу к лавре по обеим сторонам занимали нищие, выставляя увечья, клянчили, прогоняя сквозь строй. Подать Семёну Захаровичу было нечего, и он выбирал окольные пути. «Люби себя, – читал он на установленных там рекламных щитах с нагими женщинами, – счастье – это твоя красота!»
Тогда его мысли делались особенно тяжёлыми. Он думал, что в жизни, как в кино, самое важное остаётся за кадром, что именно это не проявленное и определяет события, которые иначе представляются случайными, и что некрополь Александро-Невской лавры – это средоточие непроявленного Петербурга, то место, в котором сходятся все остальные его места. Вглядываясь в черневшие надгробья, он различал шпили, дырявившие сырое небо, видел площади как чернильные кляксы, и дворы как фьорды. Он видел и некрополь Александро-Невской лавры, свою каморку, себя, беседующим с моложавым батюшкой, видел свою ненаписанную книгу, постаревшую жену, несчастливого в браке сына, видел дома-колодцы и людей с такими лицами, будто не кончалась блокада. А над всем этим, нависая тенью гигантской птицы, по улицам, прямым как чертёжные линии, двигался город-призрак, город без настоящего, который шёл, словно против ветра, спиной вперёд.
Летом заходила Соня, сирота лет пятнадцати, в пыльном платье, беспокойная, с вечными царапинами на коленках.
– До свадьбы заживёт, – заговаривая боль, смазывал их йодом Семён Захарович. – Хочешь детей, Соня?
– Нет, – серьёзно отвечала она, кусая грязные заусенцы, – рожать – преступление, потому что жить – наказание.
Смутившись, Семён Захарович поил её чаем, который она выпивала так быстро, что он не успевал налить себе, а, отсыпая на дорогу леденцов, думал, что они с Соней похожи, как пустые чашки на столе, – в одной ещё ничего нет, в другой уже ничего не будет.
«Будь я моложе, удочерил бы», – обманывал он себя, когда осенью Соня исчезла. Сироту обидеть легко, он ясно представлял, что стало с ней в бездушном городе среди людей-масок, которые говорят на одном языке, но друг друга не понимают.
И испытывал угрызения совести оттого, что их не испытывал.
Семён Захарович носил свои мысли, как в коробочке, – для внутреннего употребления, а исповедовался могильным камням.
«Хорошая компания, говори – не хочу», – разгребал он раз осеннюю листву в «писательском» уголке некрополя, где на расстоянии вытянутой руки лежали кости Карамзина, Жуковского и Дельвига. Была безлунная ночь, возле побелённого забора тускло бил уличный фонарь, и Семён Захарович то и дело спотыкался о выступавшие корни старой липы. «Растащили вас на цитаты, как вороны – объедки, – отставив грабли, обратился он к зиявшим в темноте надгробиям, – молотят языком, а народ безмолвствует. – Он сердито засопел. – Красота спасёт мир… А никому даром не нужна красота-то, её саму бы спасти!»
Поплевав на ладони, он снова взялся за грабли. Пот заливал глаза, и ему казалось, что мир перевернулся и город отбрасывает тень на звёзды, которых от этого не видно.
«А коли не подлец человек, тогда мало жить, нужно делать», – глухо донеслось из-под серого валуна. И Семён Захарович, подняв глаза, увидел, как на бронзовом изваянии Достоевского повисла кривая усмешка. «Эх, Фёдор Михайлович, мы своё пожили, знаем, что мира не переделать… – Он вздохнул. – Здесь каждый сам себя делает – хорошо ли, плохо, а приводит к одному… – Разведя руками, он указал на грудившиеся вокруг мраморные саркофаги. – И какая разница, что жили вы в столице империи – кости ваши лежат в столице провинциальной культуры».
Он тяжело замолчал.
Ветер раскачивал фонарь, в подвижной тьме замелькали тени.
«Тварь я дрожащая или право имею?» – пискнули за позеленевшей от слизняков решётчатой оградой. И Семён Захарович увидел, как в светящемся от фонаря пятне вокруг постамента разыгрывается спектакль. Крохотные фигурки поочерёдно выходили на сцену, толпились у подножия памятника, повторяя вложенные в них слова. «Как люди за Творцом», – подумал Семён Захарович, удивляясь их тонким голосам. Пока не разглядел, что это дети. «Страшно, когда некуда пойти», – признавался мальчик с нарисованной, как у пьяниц, красноватой паутиной на щеках. «А если за гробом нет никакой вечности, а только деревенская баня, закоптелая, с пауками?» – меланхолично спрашивал другой, с белым, будто в муке, лицом и холёными, пухлыми пальцами.
Семёну Захаровичу стало страшно. Он вдруг понял, что люди, как и литературные герои, не взрослеют, раз и навсегда застыв в том возрасте, в котором родились, а ему довелось появиться на свет стариком и прожить в городе чужой мечты. Он понял также, что всякая судьба трагична по-своему, что подлец-человек ко всему привыкает и что натура людская самый тонкий расчёт подсекает. А ещё понял, что умирает. Он перевёл взгляд в темноту и увидел там свою книгу, целиком уместившуюся в эпитафию, которая никогда не будет выбита на его могиле:
Некуда пойти.
Второе пришествие Диогена
«Свой среди призраков – чужак на земле, – чесал затылок Демьян Самокрут, разгоняя вшей. – Рождённый под луной – под солнцем умирает». Его не слушали. Мало ли кто топчет дороги Руси. Но Демьяну было всё равно. Припадая на деревянную ногу, он переходил из деревни в деревню, а впереди катил бочку с тугим железным обручем. Днём он ставил её рядом с харчевней, откуда на задний двор выносили объедки, а на ночь переворачивал вверх дном. Упёршись в него макушкой, он слушал тогда, как стучит дождь и падают звёзды.
У Демьяна не было шеи, зато были глаза телёнка, а нос ходил по лицу, как смычок по скрипке. Он мог носить глаза на затылке, а язык, как гвоздику, за ухом. Впрочем, его лицо так заросло, что уже не отличалось от темени. Демьян шёл из ниоткуда в никуда, и его прошлого никто не знал. Полагали, что он беглый монах, иудей или мусульманин. Говорили, будто он проглотил беса и с тех пор носит свою судьбу за пазухой. Это писано вилами по воде, но любая биография – вымышленная.
Целыми днями Демьян, как жаба, ловил мух, ожидая вечера. Петухи по плетням кривили на него шеи, а деревенские, сгрудившись вокруг, грызли яблоки и травили комаров самосадом. Наконец жара спадала.
– Демократия – это когда, не разрешая говорить, запрещают молчать! – взобравшись на бочку, бил он тогда кулаком в грудь. – Да и что толку болтать, когда ваши разговоры, как у немого с глухим?
Он вёл жаркие речи, опираясь на непристойности, как на костыли, безбожно врал и божился квашеной капустой, запах которой висел в бочке, как топор. Ему нравилось дразнить гусей, но толпа равнодушно зевала. В век телевидения чудаки не в диковинку. От обиды у Демьяна вставали волосы, а голос садился, как у простуженного евнуха.
– Измельчал народ! – издевался он, притворяясь, что за спинами видит прошлое до седьмого колена.
– Мала свистулька, а звону… – усмехались ему, запуская руку в штаны.
Но Демьян не сдавался.
– Миску щей здесь дают со скрипом, а бока мнут с удовольствием, – доставал он последний козырь. Тут в него летели огрызки. Он топал протезом, и бочка гудела, как колокол. Его уже грозили подвесить на колодезном журавле.
– Так всегда, – ворчал он, – встречают по одёжке, а провожают по этапу.
И забросив язык за ухо, седлал дорогу.
Бывало, он служил вместо собаки, приспособив бочку, как конуру, лаял по ночам и, как сторож в колотушку, стучал по доскам протезом. Кормили его больше от удивления, чем из милости, а секли чаще, чем кормили. Раз хозяева застали его у телевизора. Самокрут щёлкал кнопкой, будто колол орехи. «Ищу людей», – оправдывался он, когда его выталкивали за дверь. Однако с тех пор дурная слава шагала за ним, как вор, и его всё чаще провожали до околицы свистом и камнями.
Дорога к себе бесконечна. Но Самокрут прошёл её всю. И теперь ему не нужны были проводники. Горланя на обочине, он не слышал эха и врастал в себя, как пень. Однажды мимо его стоянки проезжал губернатор. Лицо у него было таким толстым, что, заглянув в бочку, накрыло её, как блин сковородку.
– Что надо, проси… – глухо зашептал губернатор.
На носу были выборы, и голоса шли на вес золота. Самокрут до крови закусил губы. Он задыхался, ему хотелось вытолкнуть губернатора. Но страх перед розгами оказался сильнее.
– Ты загораживаешь солнце, – ощупал он свесившийся сверху нос, делая вид, что перепутал со своим. В темноте легко потеряться, и губернатор выскочил, как пробка.
– Я бы и стал Самокрутом, – оправдывался он, часто моргая, – не будь раньше губернатором.
Мылся Демьян в водосточной канаве, от которой несло, как из хлева. «Зараза к заразе не липнет!» – дразнили его мальчишки с перекошенными от вони глазами. «В чистоте хорошо умирать», – хрюкал он, пугая рой жёлтых мух. И ему всё было божья роса. Свободный, как плевок на асфальте, он изменял женщине, едва воображал другую. «Можно сойтись, но легче обойтись», – мастурбировал он посреди площади, чумазый от сажи, ныряя в бочке, как поплавок. Его вой подхватывал ветер, и окрестные псы беспокойно дёргали цепью, шаря небо блестевшими глазами.
– Похоть у всех в крови! – орал он, когда ему пересчитывали рёбра.
– Блуд блуду рознь! – выдворяли его за эксгибиционизм.
В ту же пору посреди русского бездорожья объявился упырь. Он сидел на корточках, протыкая бородой свою тень, и никому не давал прохода. «Его нет, однако его легко потерять, а найти невозможно?» – загадывал он встречным загадку. Слыша молчание, упырь вынимал глаз. «Зачем он тебе, – смеялся он, – ты смотришь, но не видишь!» Щурясь, как в монокль, одноглазые, случалось, прозревали. И тогда в досаде вырывали оставленный им глаз. Упырь подбирал и его, прикалывая орденом на волосатое бугристое тело.
Хлестал дождь, а ветер, как кабан, ломал ветки. Смешивая брызги, Самокрут мочился в кустах, когда упырь прихватил его за мошонку. Место было глухим, как город: кричи, не кричи – не помогут. Однако отчаяние – тоже помощник. Задрав от боли колено, Демьян притиснул упыря деревянным копытом. Тот завизжал и выставил ножом свою загадку.
– Это смысл жизни, – не раздумывая, выбил её Самокрут.
– Пусти, – пробормотал упырь, – дай мне повеситься… Скрипела сосна, а его тело смотрело вниз тысячью вынутых глаз.
После этого случая Демьян уже не искал мест, куда Макар телят не гонял. Помыкавшись по свету, он облюбовал себе людную корчму, в которой одиночество развязывало язык наперегонки с водкой. Раз проездом на воды в ней сидел столичный профессор с женой. У обоих уже кустами цвела седина и на очках кисла улыбка. Вчера они весь вечер кололи друг друга, как янычары, но сегодня были счастливы: жена оттого, что настояла на поездке, а муж, что сократил её вдвое. Они ели кулебяки, а объедки относили караулившему под дверью Самокруту.
Профессор вышел первым и, дырявя тростью тень, сел на бревно. Его разморило, и, вставив спички в слипавшиеся глаза, он стал наблюдать, как бродяга набросился на лохань с помоями. Самокрут ел, словно голодная птица, пронося куски мимо рта и разбрасывая крошки. От запаха грязного тела у профессора закружилась голова. «И даёт же Господь здоровье…» – брезгливо поморщился он, уперев подбородок в ладони. Самого его уже год мучила язва, а диеты потихоньку сводили в могилу. Раньше он мог утешиться, обняв жену за плечи, а теперь представил дорогу, во время которой она наберёт в рот воды, а он будет вертеть головой, чувствуя себя брошенным, как лопух в поле. «И куда едем? – с завистью покосился он на бродягу. – Луна везде одинаковая…» А Самокрут веселел с каждым куском. «Держи девку за уши, а тарелку за края!» – перевернув лохань к солнцу, вылизывал он дно красным, коровьим языком. Улыбка на его лице гуляла, как кошка – сама по себе. Но он был старше своей улыбки.
– Ты думаешь, смерть за горами, – подсел он на бревно, – а она идёт следом, как март за февралём.
Профессор отодвинулся и начал чертить тростью на песке. Его горло стянул воротник.
– Ты носишь привычки под шляпой, – зашёл Самокрут с другого конца, – но учти: если лягушку бросить в кипяток, она выскочит, а если медленно греть – сварится…
Профессор поёжился, у него вдруг защекотало в носу, и он громко чихнул.
– Вот-вот – поддержал Самокрут, – ты родился стариком, а твоя жена умирает всю жизнь. Но на будущей неделе тебя хватит удар, а она будет продолжать курс, чтобы потом ещё дважды выйти замуж.
Воротник превратился в испанский сапог, и профессор расстегнул пуговицу.
– Пальцем в небо… – отмахнулся он.
– Я не гадалка, – возразил Самокрут, – это ты живёшь сослагательным наклонением, а на ладони у тебя не хватает линий.
Профессор непроизвольно глянул на руки, которые тут же вспотели. Они не знали мозолей и были отвратительно белы. А бродяга, перейдя на шёпот, гнул своё.
– Человек ищет, где лучше, а находит, где раки зимуют, – читал по его губам профессор, – вот и ты, как ручка, нашёл свой колпачок: ты написал множество букв и – ни одного слова.
Правда всегда чудовищна, и профессор отшатнулся.
– Полюбуйся, дорогая, – растерянно пробормотал он, – местный киник…
Появившаяся жена зажимала нос платком: у неё слезились глаза и сводило скулы. В городе она ходила в церковь и теперь смущённо улыбалась, заставляя себя любить ближнего. Но вера пасовала перед вонью, выскальзывая, как обмылок.
– Тебе сорок три года, – меланхолично перечислял Демьян, нагло уставившись на её увядшую грудь, – со дня твоего рождения прошёл век, а со дня смерти – два. Тебя назвали Евой, но ты забыла своё имя и стала кукушкой. Теперь ты клянчишь дни у мёртвого бога, но твои мысли стареют вперёд тебя.
Жена обомлела. Никто ещё так не говорил с ней. Она посмотрела на мужа, ей захотелось, чтобы он, как раньше, обнял её за плечи, но тот отвернулся, продолжая чертить на песке.
Женщина покраснела, её вид взывал к приличию.
– Есть только одно приличие, – ухмыльнулся Самокрут, – не мочись на свою тень!
И тут же, спустив штаны, его нарушил.
Дорогой жена опять молчала. А профессор думал, что на свете только один спектакль, который смотрят кто с университетской кафедры, а кто сквозь щель в бочке. На горизонте дыбились облака, и он чувствовал себя мертвецки уставшим, волоча бесконечную гирлянду тусклых дней, неотвязных, как лохмотья.
С годами бочка прохудилась, а обруч, проржавев, лопнул. Демьян ставил заплаты, но вёрсты стачивали их, как зубы.
«Нас обдирают, как липку, – думал он, – и накажут всех без разбору: кого за рост, а кого – за хвост». Строя рожу небесам, он стал говорить на языке, в котором не было будущего времени. Но вместе с будущим отступало и настоящее. Зато прошлое всё чаще вспыхивало углями в костре, и он грелся, вороша их хворостиной. Вот осветилось жирное лицо губернатора, которого погоня за голосами довела до инфаркта, мелькнули рябые, как курицы, деревенские, прошла вереница женщин, которых не было, но с которыми он был близок, вот зачернели головёшками ёрзавший без любви профессор и его жена, причащавшаяся от мышиной возни.
Годы, как чёрствые крошки, хрустели на зубах, превращаясь в густую, липкую жижу.
А профессор, вопреки предсказанию, не умер. Он овдовел. И теперь часто видел Демьяна во сне. Презирая и чертей, и ангелов, тот катил бочку мимо рая и ада. «Так честнее», – объяснял он. И профессор, ещё пьяный со сна, чувствовал себя Самокрутом. «Свой среди призраков – чужак на земле, – чесал он плешивую макушку. – Рождённый под луной – под солнцем умирает».
От зимы к лету Демьян дряхлел больше, чем от лета к зиме. Он стал худее тени, чёрен лицом, как грех, и душа в нём цеплялась за скелет. Раз ему в руки попалась Библия. Неграмотный, он вглядывался в буквы, как в морщины, силясь прочитать то, что было за ними. И ему вдруг открылись страницы предательств, мёртвые боги, вереницы страданий и бесконечная скорбь. От невероятной жалости к людям его нос заходил, как челнок в бурю, а ресницы захлопали, как двери. Он увидел, что люди изобрели множество вещей, которые мешают им прозреть, точно глаз, который вынимал упырь. «Одним глазом человек видит мир, другим – себя, – понял он. – Когда упырь ошибался, оставляя не тот глаз, люди слепли, видя только себя. Они держались за свои дома, как улитка за раковину, и думали, что вещи, как вавилонская башня, возносят на небеса, но носили их, как горб…»
Умер Демьян во сне. Ему снилось, будто он идёт по базару, посреди изобилия ненужных ему вещей, в поисках лавки, которой там не было. «Седина? Лысина?» – скороговоркой спрашивали впереди, запуская руку в расписную торбу. Демьян хотел было попросить новую бочку и вечность для размышлений.
Однако его упредили: в этот момент он испустил дух.
Секта Правды
Сын киевского башмачника Нозар Правда в юности учился в униатской семинарии и спускался проповедовать к днепровским порогам. Однажды он попал там в лапы козаков.
– Ты кто? – устроили они пьяный допрос.
– Правда, – простодушно ответил он.
– На свете нет правды, – мрачно ухмыльнулись они, тряся чубами.
Один отрезал Нозару язык, другой проколол ушные перепонки.
– Вот теперь ты и впрямь правда – иди куда глаза глядят! С тех пор Нозар возненавидел белый свет. Пересчитывая его четыре стороны, он злобно плевал против ветра, который всегда дул ему в грудь и никогда – в спину.
Мирона Оныкия он подобрал на постоялом дворе. Мирон был сиротой и кормился объедками – хозяева терпели его из жалости, но лишний рот никому не нужен. Он спал, свернувшись калачиком на соломе, зажимая в угол горб, а в ногах у него умывалась кошка. «Мирошка – за плечами картошка!» – проходя мимо, пинали его хозяйские дети, передразнивая неуклюжую походку. Уродлив он был от рождения: горб давил к земле так, что собака хвостом могла выбить ему глаз, а руки при ходьбе зачерпывали горстями лужи. Прежде чем взять его с собой, Нозар разломил сухарь и дал погрызть, внимательно наблюдая, точно вслушивался в хруст своими немощными ушами, ведь для бродяги, как и для волка, главное – крепкие зубы.
Так глухонемой Нозар стал изъясняться через калечного поводыря.
– Ы-ы… – закатывая белки, мычал он.
– Один друг – уже немало, а тысяча – не так много, – бойко переводил Мирон.
Он овладел грамотой в монастырских кельях, долгими, зимними вечерами переписывая за кусок хлеба Евангелие. Рано убедившись, что миром правит не астрономия, а гастрономия, он первым делом узнавал, на кого из монахов наложили епитимью переписывать новозаветные морали и, пробираясь к нему тайком, корпел над непослушными буквами. У Нозара по ночам ныли кости, пьяный от бессонницы, он много раз пытался представить скрип, когда под утро сквозь дверную щель в комнату проскальзывал лунный свет, а в нём – бледный от усталости Мирон. Плюнув на пальцы, горбун гасил свечу перед образами и, хлестнув волосами темноту, как ворон на добычу, кидался на дощатую кровать.
Из года в год ходили по хуторам, кормились чем бог послал, и ночевали, где придётся. Зимовали при монастырях, ухаживали за скотиной, таская на мороз тяжёлые вёдра помоев, а летом теснились в шалаше, где места и одному мало, зато комары – с ноготь, христарадничали и продавали по сёлам лапти, которые плели из бересты.
«Мирошка идёт – Правду ведёт!» – бежали с околицы дети, распугивая уток и кур.
В тени церковной колокольни, пока на воткнутых в землю палках сушились лапти, Нозар развлекал селян. «Жил-был человек, – громко пояснял Мирон его жесты, – у которого под стеной поселилась змея. Человек подносил к её норе молока, а она берегла дом от порчи. И человек процветал. Но однажды его жена налила молока сыну, змея выползла и стала пить вместе с ним. Ребёнок стукнул её по лбу ложкой, а она его ужалила. Мальчик тотчас умер, – здесь Нозар валился на траву, закрывая глаза, несколько раз дёргал ногами, – а взбешённый отец бросился на змею с ножом. Однако она успела забраться в нору, и он только хвост отрубил… С тех пор дела человека пошли из рук вон плохо. И сказали ему мудрые люди: „Это оттого, что раньше змея принимала на себя твои беды, а теперь ты один несёшь свою судьбу“. И пошёл человек к змее мириться: опять подставил к норе миску с молоком и стал ласково нашёптывать. А она ему отвечает: „Былого не вернёшь, разбитого не склеишь. Если мы даже и помиримся, то как взгляну я на свой обрубок, так и вспыхнет во мне злоба, а как вспомнишь ты про сына, так и зайдёшься в бешенстве. Уж лучше нам жить раздельно!“».
Крестьяне чесали затылки и не могли взять в толк, к чему этот рассказ, а после махали рукой: одно слово – странник.
«Это к тому, – не моргнув, находился Мирон, – что всё обязательно сбудется, но – по-другому».
А бывало, Нозар заводил другую песню. Сядет по-басурмански, скрестив под собой пятки, и шарит глазами, пока все не отвернутся – никто не мог вынести его тяжёлого, беспокойного взгляда.
Однако он умел заговаривать зубы и лечил язвы наложением рук.
Все здоровые похожи друг на друга, каждый калека страдает по-своему. Нозар пропускал время через себя, как ветер сквозь сито, а Мирон копил ночи и хоронил дни, складывая в горб. Но для обоих жизнь маячила за горизонтом, оставаясь журавлём в небе. Их провожали стаи галок, по многу раз успевающие вывести птенцов, пока они размечали дорогу кострами, которые тушили, мочась на угли. И с годами Мирон стал обгонять Нозара на шаг. Где тот выпрашивал копейку, Мирон выцыганивал алтын, Нозар выучился читать по губам, Мирон – по глазам. Однако Нозар по-прежнему угощал приёмыша палкой и целыми днями кормил мочёными яблоками, от которых урчал живот. Отвернувшись, Мирон орал тогда во всю мочь, краснея от натуги, клял Нозара на чём свет стоит. Нозар, однако, понимал это по-своему, трогая за рукав, каялся, забывая, что обида, как камень в сапоге, – точит, пока не достанешь.
А между тем вокруг заполыхало восстание, которое не разбирает ни правых, ни виноватых. Все ненавидели всех, и каждый перетягивал Бога на свою сторону.
От запаха сырой земли Мирона душил кашель, и он, задирая ноздри к солнцу, грел их, упираясь затылком в горб. Уже три дня шли они по лесу, питаясь комарами, сосущими их кровь, и ещё три – топтали степной ковыль, когда невнятное бормотанье Нозара перебил гогот гусей и набат церковного колокола.
Однако к затерянной в глуши деревне вышли не вовремя – на неё налетел отряд Вишневецкого.
Пан Иеремия, как кошка, смотрел на мир вертикальными зрачками, разрубал человека так быстро, что половинки успевали увидеть друг друга, и под солнцем вращал над головой саблю, оставаясь в тени. Он не любил ходить вокруг да около: чтобы познать вещь, ему, как зверю или ребёнку, нужно было положить её в рот. Вокруг него грудились люди в чёрных капюшонах, с косыми скулами и челюстями, как серп. Они уже спалили церковь греческих отступников и теперь, кидая смоляные факелы, поджигали жилища. «Убивайте их так, чтобы они чувствовали, что умирают, – размахивал плетью предводитель. – Пришёл Судный день, и незачем сластить пилюлю!» Рассыпавшись по деревне, вишневцы с гиканьем хватали всех без разбору, вырывая с земли, как сорную траву, отправляли на небо. Их капюшоны уже пропитались семью потами, а они продолжали бесноваться, пока, наконец, не устали.
– Какой вы веры, убогие? – отставив назад локти, растянулся на гумне пан Иеремия.
В зубах он перекатывал соломинку, на которой, как пиджак на гвозде, висела съёжившаяся улыбка. Ударяя кулаком в грудь, Нозар завыл было об униатстве, расплющивая палец о проколотые уши и отрезанный язык. Но обида, как камень в почках, изводит, пока не выйдет. И Мирон подстерёг случай – шагнув вперёд, чтобы спутник не видел его губ, выдохнул:
– Греческой.
Иеремия поморщился и выплюнул соломинку.
– Завтра Пасха, – стеганув плетью по сапогу, вскочил он, – так что одного отпускаю.
Мирону словно нож под ребро сунули, ни жив ни мёртв, он опустился на колени. А Нозар пустился на хитрость.
– Он говорит, – едва успевал переводить Мирон заплетающимся языком, – что ты переживёшь его только на день.
Глаза Иеремии налились кровью.
– Одного из двух, – прохрипел он.
И тут Нозар Правда стал Богом. Ибо только Богу доступно отречься от себя. Обогнув Мирона, он в три шага покрыл расстояние, на которое отстал от него за годы, и, заглянув в кошачьи зрачки, прочитал в них своё будущее.
Иеремия всё понял без слов. Повернувшись, он сделал жест людям в капюшонах, и те поволокли Нозара на площадь. Он едва успел скинуть штаны, как уже смотрел на мир, сидя на колу. Хлынул дождь, капли, смывая кровь, застучали по лужам, а первая же молния, испепелив, вознесла Нозара на небеса. Но Иеремия этого не дождался. Оседлав коня, он поскакал навстречу судьбе, увозя в перемётных сумах преступление и наказание. На другой день он сел разговляться и, закусив мёд солёным арбузом, свалился под стол, предоставив лекарю дивиться скоротечности лихорадки.
А Нозар, возможно, пополнил бы список местных святых, если бы Иеремия не вырезал деревню под корень, пощадив лишь детей. Они выросли в диком, обезлюдевшем крае, вдалеке от дорог, и со временем среди них укрепился культ Правды. «Вы пережили светопреставление, – воздев персты, наставлял их Мирон, – на ваших глазах умер Бог. Царство Господне не от мира сего», – вёл он их по лесам, где сумрак сгущался наперегонки с выплывавшей поверх деревьев луной. И постепенно глухота и немота стали главными атрибутами Бога, наряду с беспомощностью и неприкаянностью. В неокрепших сердцах Кол заменил Распятие, Нозар вытеснил Христа. Мирон Оныкий, его единственный апостол, сын, предавший отца, переписал главы его жития, как раньше переписывал главы библейских преданий. «Прошлое, что мертвец, – оправдывал он себя, – на него всё спишешь». Пройденные дороги зарастали бурьяном, и Мирон понял, что книга и жизнь дополняют друг друга: в жизни давят репей – в книге распускается цветок.
Нищие взрослеют рано. Разламывая краюху мозолистыми руками, подростки хлебали щи без соли и не искушали себя богословскими спорами. Их вера родилась из трагического чувства жизни и презрения к словам. «Не донимайте Бога молитвами, – запрещал сочинённый Мироном катехизис, – он слышит не ваши слова, но – ваши помыслы».
Спустя годы воображение подсказало одному маляру восстановить лик Правды. Но Мирон запретил: икона, как Бог, должна быть одна. И, взяв кисть, сам изобразил сцену суда. Иеремия на картине превратился в сатану, Нозар – в Бога. Однако для многих олицетворением божественной казни стал горшок на шесте, перед которым подолгу стояли, молча царапая ногтями на жилистой шее вертикальную черту, заменившую крест.
Нет Бога, кроме Правды, и Мирон пророк его. Символ не мерк – правду продолжали сажать на кол, но царства рушились, гибли правители, – и в этом видели подтверждение вечного пророчества своего Бога, предрекшего смерть гонителя. «С Правдой и в аду рай, без Правды и в раю ад», – прилизывая слюной брови, щурился Мирон, веря под старость в собственную выдумку. А постарел он в одночасье – так проседает дом, осыпающийся седой штукатуркой. Раз в плывших сумерках глянул в зеркало и вместо себя увидел Нозара, приглашавшего на кол.
– Я уже оплатил зло, – прочитал он по губам, – теперь твой черёд.
– Ты сам себя убил, сам! – замахал руками Мирон. Зеркало треснуло, и он завесил его овчиной.
Но с тех пор ощущал в спине невыносимую боль, будто из горба вместо позвоночника торчал кол, слышал во сне карканье ворон и, выступая на шаг, предавал опять и опять…
Вера без чуда, что каша без масла, и Мирон, став патриархом, от имени своего глухонемого Бога обещал спасение. «Когда-то человек и Бог жили в одном доме, – вспоминал он Нозарову байку, – а потом насолили друг другу, и теперь им не быть вместе». Затем он говорил о предопределении, прислонив к печке горб, судил избранных, а оставшись один, долго качал головой: «Кому астрономия, а кому гастрономия…»
Дни стучали, как рассыпавшиеся бусы, у Мирона оставалось всё меньше зубов и появлялось всё больше морщин, которые, собираясь у рта, заменяли сжёванные за жизнь губы. Его нос оседлали очки, и он всё больше погружался в праздную сосредоточенность: перебирая бумаги, никак не мог отделить в них прошлое от настоящего – путаясь, записи под его руками осыпались, будто сделанные песком. «В изнанке любой правды – ложь», – успокаивал он себя, убеждая, что его Богу было суждено самоубийство. Но в душе его глодал червь. Борясь ночью с постелью, он не знал, куда деть горб, и боялся встречи с Нозаром. Отодвигая этот час, пил отвары из чудодейственных трав, однако перед смертью нашёл в себе мужество взглянуть на мир поверх очков.
«Отправляюсь на тот свет, раз на этом Правды нет» – слова, которые приписала ему молва.
После Мирона секта сразу распалась, и всё же у созданного им учения были все атрибуты религии: миф, пастырь и горстка приверженцев.
Витька
Отца Витька лишился ещё в малолетстве. «Завербовался на север скважины бурить, – рассказывала мать, разглаживая Витькины вихры, – там и сгинул». Витька косился на её худое, постаревшее лицо, на скупые, неискренние слёзы. А повзрослев, узнал про пьянство, ежедневную грызню, принудительное лечение, которое она устроила отцу, и про сожаление, что из тюрьмы шлют скудные алименты. Витька думал навестить отца, но не успел. Читая извещение о смерти, он представлял убогие, казённые похороны, и ехать за тридевять земель на могилу с наспех сколоченным крестом не захотел.
Школу Витька закончил с грехом пополам. А после выпускного вечера, на котором он выделялся залоснившимся отцовским пиджаком с подвёрнутыми рукавами, мать сбила машина. За шаткой оградой на далёком загородном кладбище Витька размазывал кулаком слёзы, а потом возвращался в неуютную, разросшуюся от одиночества квартиру. И, получив повестку в армию, был рад.
Россия большая, и Витька служил в захолустном гарнизоне на другом конце земли, а вернувшись, где только не работал. И гардеробщиком, и банщиком, и официантом. Он раздобрел, его круглое, с ямочками, всегда чисто выбритое лицо стало привлекательным, а услужливость приносила хорошие чаевые. Он прятал их в розовую свинью с прорезью на спине, а когда она переполнялась, разбивал, относя деньги в банк, и заводил новую.
Рядом с домом, через шоссе, было рабочее общежитие, куда Витька ходил по воскресеньям. Там он иногда дрался и оттуда приводил женщин. Если познакомиться не удавалось, подолгу сидел в буфете: рассказывал про армию, пил водку и ругал «жидов». Так бы всё и шло, но надоело быть на побегушках. Он продал родительскую квартиру, взял угол на окраине, а разницу пустил в оборот. Одолжился, добавил нажитое и всё вложил в дело. Когда оно прогорело, Витька заперся дома. Целыми днями тряс лохматой головой, сплёвывая между колен на грязный линолеум, подливал водку в треснувший стакан. Он щурился, поднимая стекляшку на просвет, крутил так, чтобы не пораниться, пока не валился под стол. А когда однажды очнулся, за столом сидели крепкие ребята, совавшие под нос кулаки и бумагу. Витька подписал – и его угол пошёл за проценты. С него требовали и долг, грозили включить счётчик. А для «науки» сломали ребро.
В палате встретили неприветливо. «Иван Ильич», – сухо представился долговязый преподаватель философии, согнувшийся, как колодезный журавль. Пётр Прокопьевич, отставной полковник, безразлично кивнул. Уже на другой день Витька понял, что они – мертвецы, но отметил это с полным равнодушием – своё горе заслоняло чужое. Лёжа в темноте с открытыми глазами, Витька слушал, как во сне охают соседи, и видел впереди только сгустившийся мрак.
Внизу находился морг. Хмурым, серым рассветом философ, сухо кашляя, наблюдал, как вывозят покойников. «Представляешь вселенскую трагедию, – шевелил он распухшим языком, – а ждёт каталка и пьяный санитар». Сгорбленный, он становился похож на ворона, и Витька ёрзал от холода, залезавшего под одеяло.
А философ не отступал. «Жалок человек, – расхаживал он по палате в рваных кальсонах. – В лесу – болото, в болоте – мох, родился кто-то, потом – подох…» Он обводил всех мутными голу быми глазами, ожидая возражений, но слова повисали в воздухе.
Рукомойник плевал ржавчину, обмылок выскальзывал из рук. Причёсываясь перед треснувшим зеркалом, Иван Ильич видел среди морщин набухшую венку. От лекарств шелушился лоб, высотой которого он гордился в молодости, а теперь лоб был ему противен, и он спешил отвернуться, зачёркивая венку на пыльном стекле.
Коротая время, засиживались в столовой с решётчатыми окнами, пили чай, соря на скатерть хлебные крошки.
– Думаете, только у нас плохо? – ворчал Иван Ильич. – Везде каннибалы. Что сейчас, что при царе Горохе…
Давясь, он сделал глоток. Полковник криво ухмыльнулся:
– А если и Бога нет?
– Может, и есть, да не про нашу честь. По горлу полковника заелозил кадык.
– Хотите сказать, при жизни гадаем, а по смерти недостойны и краешком глаза?
Начинался русский спор, бесконечный, как ночь. А Витька вдруг вспомнил тёплый туман, который висел клочьями над лесом, таился в оврагах. Выплеснулось солнце, перламутром вспыхнула роса. И вдруг – грибной дождь! Маленький, счастливый, он шлёпал босиком по лужам рядом с матерью, стегая палкой заросли кусачей крапивы. Куда всё девалось? Неужели исчез навсегда лес, туман, мокрое лицо матери, неужели всё смыто дождём?
Развесив уши высохших листов, в кадке чернела пальма.
– У нас юродство в крови, – с раздражением резал Иван Ильич. – Царю угодничают, а псарю – козью морду! У своих же, нищих, воруют… Богат – ненавидят, беден – презирают…
Он уже раздразнил полковника и теперь подливал масла:
– Родился русским – терпи! А зачем? Византия исчезла через тыщу лет, это и наш срок…
Пётр Прокопьевич в растерянности смотрел на Витьку.
– Не вам решать! – оскалился он. – Народу!
– Народ… – заскрипел зубами философ. – Завистлив, злораден. Близких хоронят – крестятся, что сами живы, у соседей горе – и слава богу, не одни на свете бедные-несчастные…
– Так бедные-несчастные! – взвизгнул полковник. – Жалеть надо!
– Конечно, – качнул головой Иван Ильич, – только всё равно стервятники.
«Он прав, – подумал Витька, угрюмо собирая в тарелке размазню, – народец-то с гнильцой…»
Он вспомнил дедовщину, искалеченных новобранцев, вспомнил, как унижали его и как издевался сам.
Мест не было, и шулера Акима Волина бросили с радикулитом в коридоре. Ему было чуть за тридцать, но курчавая бородка уже серебрилась. Он слегка картавил, а общительность была частью его профессии. «Евгопа, – слушал Витька через час после знакомства, – это стагуха в буклях. – Для солидности Волин делал паузы, дёргая жёсткий ус. – Молодится, а нутго давно чег-ви съели…» Витьке такие разглагольствования были в диковинку, жадно прислушиваясь, он путался, стуча слепыми костяшками домино. «Каков негодник!» – с деланым изумлением сопровождал его ходы Аким. А когда Витька проигрывался, возвращал деньги: «Возьми, возьми, мне только зуд унять…»
А бывало, и играть лень. Растянувшись на дощатом, лупившемся краской полу Аким подсовывал под поясницу подушку с торчащим пером. «Люди, Витёк, дгянь, – позёвывал он. – Дай мизинец – по локоть откусят…» И опять Витька перебирал свой небогатый опыт, и опять соглашался.
Раз в сутки щербатый врач прописывал лекарства. После него мир сужался до булавочной головки. «Сколько осталось, кукушка?» – гадал философ. Ему хотелось геройствовать, хотелось любви, хотелось жить.
И опять всё упиралось в разговор:
– Учишь, учишь, а потом, глядь, выросло поколение, которое тебя не понимает…
– Выросло-то сорной травой, – живо откликался Пётр Прокопьевич.
Или менялись местами – толочь воду в ступе можно и по очереди.
– А кто виноват? Отцы ели мёрзлую картошку, чтобы страну поднять, а дети всё по ветру пустили. И откуда в их поколении червоточина?
– А может, из мёрзлой картошки?
– Не мелите чепухи!
Ругаться не было сил, и спустили на тормозах.
А иногда заводился Аким, вещавший с каким-то кощунственным глумлением: «А хоть бы и война – нам тегять нечего!» Он задиристо вскидывал бородку, плоское лицо его краснело. «Ишь, аника-воин», – хмыкал про себя Витька, вспоминая, как быстро исчезает храбрость после ударов сапогом, как слетает бравада вместе с багровеющими рубцами от шомпола.
Витька ждал беды. И дождался. Как-то утром явились гости. Витька соскочил с кровати, сцепив руки за спиной. «Плати!» – выстрелил один, выпятив подбородок. «Иначе – край!» – на-бычив шею, перепилил её ребром ладони другой. Их глаза превратились в лезвия. Витька оторопел, а они, наслаждаясь, впитывали его ужас. Витька заюлил, мечтая забыться, зарывшись в подушку. Дав сроку неделю, они удалились, зыркнув для острастки в дверях.
– Каково? – встрепенулся Иван Ильич, повторяя ладонью зловещий жест.
– Лиходеи! – покосился Пётр Прокопьевич, не вставая с кровати. – У меня сын – ровесник.