Смута Бахревский Владислав
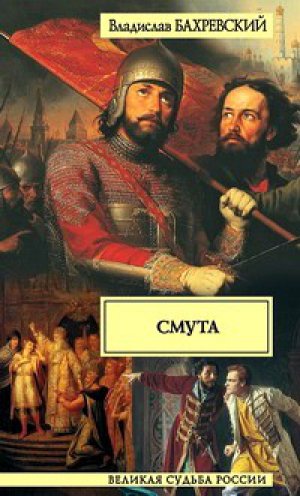
Матвей воззрился на жену, соображая: прикрикнуть на больно смелую или смолчать?
– Ты вот что, – сказал он, совсем вдруг оттаяв, – вели баню затопить и пошли ко мне Настырю. Это он за домом Ивана Федоровича поглядывает?
– Кто же еще?! Ночью он. А днем я Феклу милостыню просить поставила, под дубом, напротив ворот троекуровских. А со двора Парамон с братьями смотрит.
– А Ногтевы? – спохватился Матвей о других соседях. – И Ногтевы живут, как жили.
– Это и мы живем, как жили. Зови Настырю.
Настыря ростом был в два сапога да еще лапоть сверху.
– Чего высмотрел? – спросил Матвей глядельщика.
– Все видел! – выступая чеботом вперед и наклоняясь всем телом, сообщил Настыря. На его хитрой, заросшей рыжей шерстью роже изобразился таинственный ужас.
– Коли видел – говори. Кого видел?
– Саму их светлость Ивана Федоровича.
– И что же?
– В лиственницы ходит.
– В какие лиственницы?
– У них во дворе молодые лиственницы посажены, кругами. Пушистые. Мне по шапку.
– Что же Иван Федорович прячет под лиственницами?
– Добрецо свое.
– Я и спрашиваю, что зарывает. Сундуки?
– Ничего не зарывает. Он… как сказать… – Настыря подергал себя за порты. – Присядет, и готово. Иголки у лиственниц мягенькие, а смолка, видать, дух перешибает.
– Ну и дурак же ты, Настыря! Уж такой дурак, как в сказке!
– Мы люди маленькие, господин. Велено глядеть, глядим. Я и в лопухах сидел, и на липе, что у конюшен.
– Ладно, ступай, – отпустил Плещеев Настырю, не показывая своей досады.
В голове простонала злорадная мыслишка: а может, Иван Федорович дознался, что за его домом приглядывают, нарочно в лиственницы ходит?
Сели обедать: ничто глазам не любо, нечем чреву угодить. Семужка нежная, розовая, резанная лепестками, и та, кажется, горло обдирает.
Дуклида Васильевна, вторя мужу, тоже вся исстрадалась.
– Не горюй, Матвеюшка. Федор Кириллыч, воровской воевода, чай, не брат тебе. Не будет же государь Василий Иванович за одну фамилию казнить.
– Эх ты! Эх ты! – взвился Матвей, треская деревянной узорчатой ложкой о стол. – Прямомыслящая корова! Шуйский не токмо боярству, он крестьянину не страшен. Ему бы титьки! Сидел бы с дочкой своей скороспелой и агукался.
– Нечего человека корить, коли детей любит! – рассердилась Дуклида Васильевна. – А то, что младенец раньше срока родился, мамкам да повитухам кнута надо всыпать. Зачем на меня зверем кидаешься? Не любо, что тебя жалею, так я и глаз на тебя поднимать не стану.
Матвей обмяк… Повинился.
– Прости, голубушка… Голова кругом идет. Нынче у всех одно на уме, что полукавишь, то и поживешь, а какое во мне лукавство! Я служить умею. Да в том и беда – служить некому.
Рассерженная Дуклида Васильевна не успокоилась.
– Ладно бы орел, а то прилетел гусь на святую Русь, и вот уж ни одного прямого человека по всей Москве не сыскать!
– Я бы порадел Шуйскому, да боюсь остаться один. Укорить человека проще пареной репы. Ты оглянись, Дуклида Васильевна, оглянись! Вся Москва сундуки в землю зарыла, у каждого котомка припасена. Митька Трубецкой – уж боярин. Царь шатровый, боярин шатровый, но боярин! Митька Черкасский – боярин, Сицкий, Засекины, Бутурлин – в самых близких людях. А мы? Нас, Плещеевых, Васька Шуйский на краешек стола своего никогда не посадит. Вот и стой за него!
– Кто стоял, тот награжден и утешен.
– Да ты за Шуйского, что ли?! – изумился Матвей. – При истинных царях как жили? Не Москва государю указ, государь Москве. Шуйский крикнет кошке – брысь, кошка в его сторону башки не поворотит.
– Я одно знаю, – вздохнула Дуклида Васильевна. – Какова постель, таков и сон.
– Да я на перинах твоих уж давно глаз не смыкаю. Нет, Дуклида Васильевна, я своего не упущу. Что откусишь, то и съешь. Ты, голубушка, чем лясы точить, готовь мне каравай побольше.
Дуклида Васильевна сидела, положа розовый локоток на стол, утопив белый пальчик в румяную щечку. Матвей даже вздохнул, на жену глядя. Потянулся по головке погладить, так не дали. Явились вдруг гости, соседи братья Ногтевы Борис да Василий.
– Слышь, сосед! – Глаза чумовые, лица потные. – Князь Юрий Трубецкой с тремя возами через Серпуховские ворота к тушинцу удрал. Ты-то как?
Плещеев опешил. О тайном, о наитайнейшем его спрашивали, будто о новых сапогах: жмут или не жмут?
– Я-то? – переспросил Матвей, понимая, что уж само промедление с ответом есть измена царю. – Велел жене каравай испечь.
– Да у нас уж испечены. Сколько тебе надо?
– А это как будем уходить! – словно в омут, весело, с головой, нырнул Матвей. – На подводах или пешочком. – Шуйский вратников вчера поменял. С возом не уйдешь.
– А верхами?
– Да ведь и верхами спросят: куда?
Сели, призадумались.
– У них там в лагере купцы объявились. Может, в купцов нарядиться? – предложил князь Борис.
– Кто же пустит к ихним купцам? – возразил брату князь Василий. – Зачем переодеваться? Надо выйти в поле вместе с войском и перебежать. И конь с тобой, и оружие, и одежда достойная.
– Изменять своим в бою?! – сощурил глаза Матвей. – То уж не бега, а иное…
– Иное, – согласился князь Василий.
– В крестьянском платье надо уходить, – решил князь Борис.
– Дворянина за ворота не пустят, а крестьянину дорога, что ли, открыта?! – рассердился князь Василий.
– Воротников подкупить надо.
– Подкупишь! Они и деньги возьмут, и тебя под белые ручки.
– Вот что! – придумал Матвей. – Возьмем три телеги, оденемся просто. Как стычка случится, выедем подбирать раненых. Тут и еды взять не возбранно, и запасная одежда к месту, попачканную кровью поменять. Фартуки еще нужны – раненых да мертвых носить.
Придумке обрадовались. Побежали готовиться к отъезду.
Одни гости за порог, а другие вот они. Приехал Наум Михайлович Плещеев со Львом Осиповичем Плещеевым.
Дуклида Васильевна кинулась стол накрывать, но Лев Осипович остановил хозяйку:
– Не до угощений. Дело спешное, строгое. Посмотри лучше, Дуклида Васильевна, чтоб никто нашего разговора не подслушал ненароком.
– Собираешься? – спросил Матвея, глядя ему в глаза, Наум Михайлович.
– Собираюсь.
– Лев Осипович тоже отъезжает.
– А ты, Наум Михайлович?
– Я первому Самозванцу хорошо услужил. Этот должен «помнить» мою службу… И промахнуться нельзя. А вдруг Шуйский верх возьмет? Я буду свой здесь, вы – там. С кем отъезжаешь, один?
– С князьями Ногтевыми. Решили завтра бежать. Нарядиться в могильщиков и за ворота.
– С Ногтевыми многовато будет, ну да как-нибудь… Переодеваний не надобно. Отъезжайте нынче в первом часу ночи, через башню в Заяузье, там наши люди сегодня караул несут. С Богом!
Наум Михайлович обнял Матвея, поклонился его жене.
– А я уж с возами к тебе прибыл, – сказал Лев Осипович.
– С возами?
– Четыре воза набралось. Так что людей моих не забудьте, хозяева добрые, накормить и нас, грешных, добрым московским ужином. В Тушине, пожалуй, нахолодуемся, наголодуемся.
– Может, и не надолго вся эта сутолока, – сказал Наум Михайлович, обнимая родственников. – Да не оставит Плещеевых Господь. Поеду к Петру Васильевичу. Ему надо быть в Москве. Отец в Кахетии голову сложил, хоть в царствие Бориса, но за дело общее, христианское… Шуйский благоволил к Василию Тимофеевичу. Петр да Наум в Москве будут за Плещеевых стоять и просить, если горькая чаша выпадет на вашу долю.
Бегство совершилось так просто и нестрашно, будто не в измену отъехали, а на охоту, толпой. Слуг прихватили, ружья, панцири, шатры, питье, пищу, шубы, дорогую одежду – тушинскому царю дворцовые службы служить.
Государь держал, как перышко, у груди своей царевну свою ненаглядную.
– Ах, не дал Бог мальчика! Не ропщу, Марья Петровна, радуюсь. А о наследнике молюсь.
– Я рожу тебе, государь, миленький! Мальчика рожу! Пусть десять воров придут – рожу и выпестую. – Марья Петровна горела отвагою, хотя после тяжких родов никак не могла оправиться, все мерзла, все давала Василию Ивановичу ладошки свои ледяные, чтоб согрел.
Жизнь дочки трепетала, как пламя крошечной свечи, уж очень слабенькая уродилась.
– Минул бы этот год, а там было бы много иных лет, покойных и добрых, – сказал государь, передавая свое перышко в руки пышнотелой мамки.
Поспешил в Грановитую палату.
Дума сидела, словно у погасшего, у холодного очага. Василий Иванович, садясь на трон, даже плечами передернул. – Печи, что ли, не топили?
– Тепло еще на дворе, – отозвался дворецкий. – А впереди зима…
Призадумались. Перекроют тушинцы все дороги, без дров Москва насидится.
Первым о делах заговорил государев свояк князь Иван Михайлович Воротынский:
– Вчера, на ночь глядя, бежали к Вору двумя толпами, через Заяузье и через Серпуховские ворота.
Государь слушал, уткнув глаза в ладони, и будто прочитал по ним нечто утешительное.
– Господи, убереги от срама русский народ! – сказал он голосом ровным, разумным. – Ладно бы холопы бежали, люди обидчивые, зависимые. Князья бегут. От кого? От России? От царя Шуйского? Но к кому? К человеку безымянному, бесчестному, ибо имя у него чужое… В казаки всем захотелось? Но от кого воли хотят, от гробов пращуров? Кого грабить собираются? Свои села, крестьян своих?
Замолчал, слеповато вглядываясь в сидевшее боярство, в думных.
– Вот что я скажу, господа! Не срамите себя и роды свои подлой изменой. Я всем даю свободу. Слышите, это не пустое слово, в сердцах сказанное, а мой государев указ. Не желаю вашего позора в веках! С этой самой минуты все вольны идти куда угодно. Кто хочет искать боярство у Вора, торопитесь! Кто хочет бежать от войны и разора в покойные места, если они есть на нашей земле, – торопитесь! Я хочу, чтобы со мной остались верные люди. Я буду сидеть в осаде, как сидел в приход Болотникова. – Снова обвел глазами Думу. – С Богом, господа! Я удалюсь, чтобы не мешать вам сделать выбор.
Шуйский поднялся с трона, но к нему кинулись Мстиславский с Голицыным.
– Остановись, государь!
Послышались возгласы:
– Евангелие принесите! Дайте крест!
И поставили патриарха Гермогена с крестом и Евангелием возле престола русского царя, и прошли всей Думой, целуя крест и целуя Евангелие, и каждый восклицал от сердца свои хранимые слова.
– Умру за тебя, пресветлый царь! – ударил себя в грудь Иван Петрович Шереметев, а брат его Петр Петрович расплакался, как дитя.
Воодушевление Думы разнеслось ветром по Москве, крася лица отвагой, ибо все глядели прямо и не отводили глаз от встречного вопрошающего взора.
А наутро, хуже разлившейся желчи, жалкая, позорная весть. К тушинцу бежали Иван Петрович да Петр Петрович Шереметевы, те, что вчера выставляли перед царем и Богом верность свою, – краса дворянства русского.
В тот же день царь Василий Иванович приказал все войска, стоящие вокруг Москвы, собрать за городскими стенами, не проливать крови своей и своей же, ибо в бесчисленных, в бессмысленных стычках с той и с другой стороны гибли русские.
– Не надеется царь на войско, – сообразили умные.
Государыня Марина Юрьевна утром 16 сентября, радуясь последнему осеннему теплу, ездила с братом Станиславом и с Павлом Тарло в поля… ловить птиц.
В купеческом таборе нашелся некий забавник, который поднес государыне золотую клетку с чижами. Вот государыне и взбрело в голову самой сделаться птицеловом. Измученная гадливым ожиданием встречи с «супругом», она была рада хоть на час отвлечься от безобразия, которое ее окружало. Лгали и подличали все, и все ждали от нее «не очень-то страшной жертвы» – лечь в постель негодяя, у которого под подушкой сразу две короны, для себя и для нее. На ловлю птиц взяли русского мужика из тушинского села.
Небо между пепельными гладкими облаками голубело, трава была зелена, лес зелен. Но на великолепной березе, на самом ее верху, осень свила уже золотое гнездо.
У Марины Юрьевны слезы на глаза навернулись от какого-то нового в ней, от материнского чувства, когда она увидела березку, росшую из корня березы-матери. Одна прядочка на березке была совершенно золотая. Дочка старилась раньше матери.
Тушинский мужичок, покхекав для приличия, спросил у господ панов, каких птиц надобно, и получил ответ:
– Какие прилетят.
Тогда мужичок раскинул сеть на пригорке, швырнув пару горстей зерна в траву.
– Да разве птицы увидят приманку? – удивилась Марина Юрьевна.
– Кто их знает, – сказал мужик, дергая себя за ухо. – Мы всегда приманку сыплем. Надобно-то не чижиков, не клестов, не жаворонков, а воробьи увидят.
Воробьи и впрямь увидели, налетели стаей. Ловец их всех пленил.
– Нет! – сказала Марина Юрьевна. – Этих отпустим. Я сама хочу поймать.
Воробьев отпустили, но эти же самые, покрутясь, посновав вокруг да около, опять сели на опасное, но вкусное место и были пойманы уже царскими ручками.
Птиц посадили в мешок, и Марина Юрьевна, заплатив мужику алтын, отправилась в купеческий табор.
Купцы были все очень молоды и все обрадовались государыне.
Марина Юрьевна чувствовала во взглядах жадное любопытство подданных, но и восторг мужчин. Эти взгляды качнули сердце, будто маятник. Марина Юрьевна иглою воображения позвала из памяти могучие руки Дмитрия Иоанновича, но, к ужасу, ясно и жарко ощутила на себе тяжесть ярославского стрельца. Государыню подвели к фургону почтенного, убеленного сединами купца Варуха.
Варух поклонился и сказал, улыбаясь глазами:
– У Господа Бога нашего – правда, а у нас, иудеев, – стыд на лицах. Именно так и сказано в книге древнего пророка.
Марина Юрьевна взглянула на брата Станислава, она не поняла мудрости.
– Я хочу сказать, ваше величество, – объяснил старый купец, – что если конь государыни не в серебре, а сама она не в золоте, то это позор на головы всего торгового народа.
Он ласковыми жестами пригласил царицу в свой шатер, где показал драгоценные камни, парчу, золотые и серебряные изделия.
– Это же сокровищница! – воскликнула Марина Юрьевна.
– О нет, ваше величество, – возразил Варух. – Это всего лишь лавка. Выберите то, что обрадует сердце. Впрочем, я и по глазам вашего величества прочитал: браслет с каплями изумрудов доставил вашему величеству истинную радость.
– Да, эта работа изумительная, – согласилась Марина Юрьевна. – Камни излучают безупречный свет, но… Я получила от моего супруга столько подобного, мне целого года не хватило бы, чтобы всем налюбоваться… Судьба дала, и судьба взяла. Теперь меня если и захотят ограбить, то взять будет нечего.
– Вы – императрица. К этому великому титулу одинаково приложимы и роскошь и простота, – поклонился Варух и поднес государыне браслет на бархатной подушечке. – Это подарок, ваше величество.
– Не очень ли вы торопитесь, поднося такую дорогую вещь? – спросила Марина Юрьевна, темнея взором. – Пока что мои владения в этой стране умещаются под покровом солдатского шатра.
– Все в руках Божьих, – согласился Варух.
Марина Юрьевна взглядом попросила брата принять подношение.
– Это для грабителей… Для себя я хочу купить нефритовое ожерелье.
Она показала на дешевое ожерелье из вытянутых треугольных пластин темно-зеленого нефрита.
– А расплатиться я хочу птицами. По рукам?!
– По рукам! – рассмеялся Варух.
Марина Юрьевна приняла от Павла Тарло мешок с воробьями и раскрыла перед купцом.
– Получайте!
Птицы порхнули с писком на волю, закрутились по шатру, шарахаясь от людей.
– А это вам на память. – Марина Юрьевна положила в ладонь Варуха золотую монету.
– О государыня! – воскликнул Варух. – Сие золото отныне есть реликвия всего нашего рода.
Марина Юрьевна приблизилась к купцу и спросила его почти шепотом:
– Все говорят, что иудеи – трусливое племя. Но как же так? В этом таборе я вижу одних иудеев. Вы приехали в самое жерло войны.
– Государыня, и смелость и трусость у каждого народа свои. Я не беру в руки арбалета и шпаги, ибо я трус. Но я привез сюда все мое состояние. Я очень храбрый человек, ибо могу потерять за единый час то, что собрано годами, но я, однако, рассчитываю удесятерить свое состояние. Тогда я куплю корабли и снова буду рисковать, отправляя их в просторы океанов. Эти корабли, если только возвратятся, привезут мне товары, которые по редкости своей дороже золота. Отправляя надежду, я надеюсь на свое купеческое счастье.
– Скажите, пан Варух, а что означает подарок, который мне поднесли вчера: золотая заморская клетка с русскими чижами?
– Ваше величество, дозвольте и мне спросить – а что означает плата птицами?
– Шалость.
– Золотая клетка и птицы – не шалость, а скромное желание развлечь ваше величество. Иного скрытого смысла в подарке нет.
– Благодарю вас, пан Варух. Вас и ваш смелый табор.
– Большой разбой они почуяли, вот и слетелись, как воронье, – сказал пан Станислав по дороге в лагерь Сапеги.
Ему не нравилось, что царица жалует вниманием иудеев.
А в лагере был переполох.
– Где же ты? Где же ты?! – отирая с лица пот платком, кинулся к дочери сандомирский воевода. – Государь едет к нам. Узнав о вашем отсутствии, он вынужден двигаться с остановками.
Марина Юрьевна, не отвечая, прошла в свой шатер, приказала фрейлинам найти серое платье, сняла перстни и серьги. И единственно, чем украсила себя, так только что купленным за стаю воробьев нефритовым ожерельем.
Государь соскочил с коня в десяти шагах от шатра Марины Юрьевны и эти десять шагов пробежал, но сразу за пологом переменил и шаг и взор. Осторожно ступая, робея глазами, не смел приблизиться к сидящей на белом костяном стуле супруге.
Вслед за государем вошел один Юрий Мнишек и стал у порога, чтоб никого не пустить в тайну.
– Я пришел, Марина, – сказал Вор, – потому что надо же было прервать затянувшуюся немоту.
Она подняла на него глаза и отвернулась.
– Непохож?!
– Ах, тише, государь! – умоляюще прошептал старый Мнишек.
– Вы тот самый, иначе какой же вы Дмитрий Иоаннович, – сказала Марина Юрьевна.
– Да, я тот самый. – Он сделал шаг, другой, осмелел, приблизился к Марине Юрьевне, взял ее за руку, поцеловал. – Вы – прекрасны.
Он потянулся, чтобы поцеловать в лицо, но Марина Юрьевна отпрянула, заслонясь руками, и дважды крикнула:
– Прочь! У вас изо рта дурно пахнет!
Отец схватился за голову, подбежал к государю.
– Простите ее, ваше величество!
– Простить? Прощаю. Однако ж за триста тысяч да за четырнадцать городов можно бы, кажется, и по-нежнее себя вести. – Ухмыльнулся.
Марина Юрьевна вскочила, кинулась из шатра, но ее поймал отец.
– Приставьте к ней стражу, пан воевода, – мрачно сказал Вор.
– Я сам буду на часах.
– Ваше дело – завтра же! – доставить мне мою супругу в мой лагерь. – Ударил в ладоши.
В шатер вошел посол Николай Олесницкий.
– Окружите шатер, но так, чтоб не бросалось в глаза, преданными людьми. Здесь, в шатре, тоже чтоб было не менее… да хоть десять человек держите, лишь бы ни единого волоска не уронено было с головки драгоценнейшей моей половины. – И бешеными глазами уставился на Мнишка. – Пан воевода! Если завтра лицо вашей дочери не будет сиять, как солнце, я сделаю все, чтоб ваше было белым, как дрянное русское полотно.
Сел на костяной стульчик Марины Юрьевны, воззрился на Юрия Мнишка.
– Угощайте же меня, угощайте, батюшка! Негоже мне выскакивать как ошпаренному от любезной супруги.
Марина Юрьевна, дрожа в ознобе, набросила на себя толстую, грубую, купленную в Ярославле шаль.
Ей тоже подали кубок. Налили вина. Она отпила глоток, глядя перед собой.
– Я не желаю вам ничего дурного, – сказал Вор. – Мы оба – жертвы необычайного обстоятельства.
Осушил кубок. Прищурив глаз, глядел на капельки изумрудов, ниспадавших с браслета. Браслет лежал на столе.
– Это, – он толкнул кубком браслет, – у вас будет в изобилии. Со временем, разумеется. В Москве… Я повторяю, не наша вина в том, что мы обязаны быть вместе.
– Я умру! Я наложу на себя руки! Я никогда, никогда, никогда не лягу в вашу постель! – закричала Марина Юрьевна и, схватив браслет, швырнула его к порогу.
– Вы еще прекраснее, когда сердитесь! – сказал Вор, подавая кубок Мнишку, чтобы тот наполнил.
Пил маленькими глотками, сопя и хмыкая.
– Я могу очень долго прощать и совершенно не сердиться, – сказал доверительно Олесницкому, – но сержусь я безобразно.
Встал, подошел к порогу, поднял браслет.
– Пока мы не в Москве, мы очень бедны, ваше величество. Смотрите, не пробросайтесь. Боюсь, хлеб зимой будет дорог, а зимовать нам здесь, в поле.
– Как же так?! – удивился Мнишек.
– Не сегодня завтра князь Рожинский отдаст приказ – рыть землянки… Впрочем, есть хорошее предложение: брать в селах добротные избы, свозить их сюда и ставить. Я сегодня видел, как люди моего боярина Дмитрия Трубецкого такой дом собрали в мгновение ока. Теперь кроют крышу, кладут печь… – Вор любезно поклонился Марине Юрьевне. – Для нас с вами, государыня, ставят деревянный дворец. Совершенно новый.
Поднялся и, не сказав ни слова на прощание, вышел. Тотчас раздался цокот копыт.
– Уехал! – ужаснулся пан Мнишек. – Марина, ты вела себя… дико!
– Он гадок, отец! Я не предполагала, что он так гадок. Неужели иного не нашлось – в Дмитрии Иоанновичи? Отец, это невозможно!
– Марина, ты кричишь на меня, будто я его выдумал, сыскал и привел сюда! – Мнишек взял из рук дочери кубок и допил ее вино. – Это судьба, дочь. Твоя судьба, моя судьба и его судьба. Кто бы он ни был. Судьба всего Русского царства, а может быть, даже и Польского.
Стражами в шатре Марины Юрьевны были поставлены ее брат Станислав и дядя Николай Олесницкий.
Отец бросился перед упрямицей на колени.
– Дочь, спаси честь Речи Посполитой!
– Я спасу честь Речи Посполитой, – ответила твердо Марина Юрьевна. – Я не лягу в постель к человеку без совести, без имени.
Сандомирский воевода зарыдал, но Марина Юрьевна легла спать.
Олесницкий, пошептавшись с Мнишками, отцом и сыном, уехал к Вору. Возвратился очень быстро, привезя с собой ксендза, иезуита Антония Любельчикова. Марину Юрьевну заставили подняться с постели.
Ксендз был невысок ростом, не смел глазами и даже, видимо, не речист. Смущенно вошел в походную спальню – другого места для уединенной беседы не было, – смущенно благословил и замолчал.
Марина Юрьевна удивленно воззрилась на человека, присланного внушить ей – подчиниться воле обстоятельств и высшей воле.
– Позор, – сказал наконец ксендз, закрывая лицо руками.
– Отчего же вы согласились участвовать в моем бесчестье? – спросила Марина Юрьевна. – Я – законная царица, я – дочь ясновельможного пана, я – шляхтянка, я – полька, но меня продали. Не турки или разбойники казаки – меня продал мой отец, а моя Церковь спешит благословить работорговлю.
– Вы правы, дочь моя, – согласился ксендз, сокрушенно всплескивая руками, – мне нечего сказать вам.
Марина Юрьевна глядела на этого странного утешителя во все глаза. Ксендз был далеко не стар. Строгость лица смягчалась растерянным взглядом серых страдающих глаз.
– Я знаю! – рассердилась Марина Юрьевна. – Папе, римской курии православная Россия представляется мерзкой соломенной куклой в мраморном дворце с античными статуями. Если бы удалось соединить две разрубленные части единого тела Христа, получился бы великан, который легко бы попрал мир мусульман и прочих язычников.
– Да, это борьба за власть, за единение, за богатство, – согласился ксендз. – Это вечное дело, которое никогда не увенчается успехом той или иной стороны. Но вот теперь все сошлось на противостоянии вашего величества всем алчущим своих выгод. Если вы не подчинитесь, вы будете правы, но затеянное предприятие рухнет, потерявшая себя Россия воспрянет, и множество наших друзей, которые потому и друзья, что им это выгодно, обернутся мстительными врагами.
– Что же вы мне посоветуете? – спросила Марина Юрьевна.
– Ничего.
Она смотрела на этого человека, ища в нем необычайно искусную ложь, но лжи не было.






