Смута Бахревский Владислав
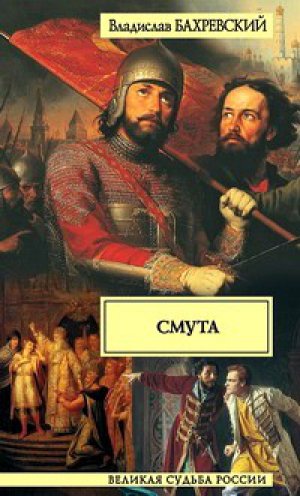
Икнул, гыгыкнул и хохоча поехал прочь.
Все уже знали: в стан Лжедмитрия пришел с пятью тысячами донских казаков атаман Иван Мартынович Заруцкий.
Ах, как вовремя прибыл Иван Мартынович! Пан Рожинский вполне удовлетворился похмельным извинением государя и удалился в Кромы к своему войску.
Одно было нехорошо: Заруцкий привез к родному дяде сына государя Федора Иоанновича царевича Федора Федоровича. То был здоровенный, с бычьей шеей детина, обожравшийся, ожиревший. Царевича носили в золоченом стуле семеро телохранителей и поставляли ему на каждую ночь невинную девицу.
– Да православный ли он? – удивился государь. – Замашками султан турецкий.
К очам своим Федора Федоровича не допустил, поглядел на него в потайную щель и вежливо попросил Заруцкого: – Что-то казаки до самозванцев сделались охочи. Всякий дурень у них уже и царевич. Иван Мартыныч, избавь меня от такого племянничка! И не тайно. Такое дело тайно уж не справить.
– Он и впрямь дурак, – согласился Заруцкий и, кликнув казаков, пошел тотчас к «царевичу».
Беднягу выволокли на улицу, зарубили не мудрствуя – петухам так головы не рубят. Приткнули к пеньку и саблей по шее.
Наутро даже красного места не осталось, снегом завалило. Такие ухнули снегопады, что пришлось воинству по избам разойтись, ждать, когда купцы дороги протопчут обозами. Но в ту зиму купцы дома сидели.
В новогоднюю ночь Марина Юрьевна молилась в своих покоях с тремя монахами-бернардинцами. Когда ехали в Москву, в ее свите их было семеро. Теперь осталось двое: Антоний из Люблина и Бенедикт Ансерын, да к ним присоединился душехранитель царя Дмитрия, прошедший с государем от Путивля до Москвы, кармелит Иоанн, родом испанец из Калагоры. Папа римский Климент VIII, посылая кармелита в Россию, дал ему второе имя – Фаддей. После молитвы Марина Юрьевна пригласила монахов за стол для беседы. Были выставлены братины с медом – подношение, а скорее милостыня ярославских купцов. Все меды были выдержанные, хмельные.
– Что народ пьет, таков и народ, такова душа у народа, – сказал Иоанн-Фаддей, черпая из пенной братины уточкой-чарочкой. – Пьешь – вкусно, не постережешься – станешь скотиной. Русские – коварны.
Антоний молитвенно сложил руки и, смягчая слова тембром голоса, возразил:
– Зачем так говорить о людях, которые, почитая нас за врагов, кормят сытно, поят пьяно и, главное, не держат зла про запас.
Марина Юрьевна подняла глаза на отца Бенедикта, ожидая, что скажет строгий этот человек. Бенедикт молчал. На ярославском ядреном морозе, на простецких, но добрых харчах все расцветали, а он голубел, усыхал. Безучастные глаза его, переходя с предмета на предмет, замирали, и в них зияла пустота.
– Есть ли в ваших сердцах, умах какие-либо предчувствия о перемене в нашей общей участи? – спросила Марина Юрьевна.
– Ваше величество, дом гудит как улей! Все только и говорят, что его величество Дмитрий Иоаннович сражается под Москвою. Наши рыцари вызывают москалей на герцы и, превосходя в искусстве сабельного боя, неизменно побеждают. – Иоанн-Фаддей говорил, подняв чашу, и все завороженно смотрели на жемчужную в прозолоть неубывающую пену. – Добрейший отец Антоний, может, вы и на это возразите?
– Ах, если бы всякий разговор, что заводится в нашем доме, как заводится по углам плесень или мороз, – был правдой.
– Святой отец! Вы не верите, что государь спасся?! – Казалось, Марина Юрьевна тотчас расплачется.
– Я призываю всех и вас, ваше величество, набраться терпения. Бог не оставит нас. Бог вознаградит мужественных и кротких. Тяжело и больно слыть упрямцем. О государыня! Для меня нет более драгоценного сосуда, чем сосуд вашей жизни, ибо, наполнен до краев превосходной чуткой жизнью, он, не в пример этой чаше, каждой пролитой каплей обжигает и ранит меня, не умеющего защитить ваше величество от неумолимой судьбы. Я – молюсь, ваше величество! Я молюсь!
Глаза Марины Юрьевны наполнились слезами, но она смеялась.
– Спасибо! Спасибо, святой отец! – И остановила взгляд на Бенедикте Ансерыне.
Монах вдруг прочитал на латыни стихи:
- Здесь закопан одер, работяга послушный.
- Загонял его до смерти возчик бездушный.
- Злой и юный к годам состраданья не знает.
- Плохо старцам, коль ими юнцы понукают.
Стихи были неуместные. Антоний, грохнув чарой по столу, вдруг запел:
- О милая, милая, милая, милая Родина.
- Я листочек с дерева твоего,
- Унесенный бурей.
- Я летел, безумный, наслаждаясь
- Полетом,
- Чужою, чужою, чужою, чужою красой,
- И вот я – один-одинешенек.
- Я искал, безумный, и нашел тоску.
- Бездонную бочку тоски.
- Сколько бы я ни пил —
- Напитка не убывает.
- Нет тебя милее,
- Милая, милая, милая, милая Родина.
– Родина?! – Иоанн-Фаддей улыбнулся, как всегда, уверенно, все зная наперед, и нежданно для себя выказал растерянность. – Я родился в Испании, я жил в Риме, я жил в Кракове. Я ныне в России, но имею послание руководящих мною нести послушание в Персии… Родина – как детство. Прекрасно, но очень далеко. – Мне понятны чувства отца Бенедикта, – поддержала беседу Марина Юрьевна. – Но я должна признать, что моя судьба имеет сходство с судьбой отца Иоанна-Фаддея: им руководит Рим, а мною – Небо. Я – чужестранка – государыня всея Руси. Моя жизнь на Родине, милой Родине, была только приуготовлением к служению великой земле, чужому, но великому народу. – А моя родина там, где моя королева, – изумив всех, прошелестел сухими, мертвеющими губами Бенедикт. Марина Юрьевна восторженно вспорхнула и поцеловала монаха.
– Благодарю вас, святые отцы. Близится первый час нового года! Помолитесь за всех нас.
Ей не терпелось остаться одной, чтобы уловить пророческие дуновения новорожденного Завтра. Увядшие минуты дряхлого старого года ничего уже не обещали, ни лучшего, ни худшего. Но за ними, за безвкусными, бесцветными, ложившимися на порог перед закрытой дверью, за которой первое мгновение всех надежд на надежду…
Марина смотрела на стрелки часов. Вот уже слились. Вот большая – дрогнула…
Марине показалось, что в комнате сквозняк. Дрожа, леденея пальцами, постукивая зубами, погасила свечи, кроме одной.
Достала из походного ларца сулею с драгоценным заморским вином, не налила, капнула на донышко своей, в виде кувшинки, чарочки. Прикоснулась к вину губами, растворяя себя в стихии нежного и пронзительного.
О капля вина! Ты способна наполнить человека до краев, потому что в тебе не память о жизни, а жизнь.
Марина Юрьевна засмеялась и языком, сложенным трубочкой, стрельнула по-змеиному в золотое донце.
Погружаясь в пучины наслаждения, закрыла глаза и внутренним взором вызвала трон Дмитрия – дивное сооружение из чистого золота, называемое у русских престолом. И засиял он перед нею, и осматривала она его, словно искала что-то. Высотою трон был в четыре локтя, покрыт сверху четырьмя скрещенными щитами, над которыми на золотом куполе грозно щерился клювом, когтями и вздыбленными перьями золотой двуглавый орел. Со щитов над пилястрами свешивались с обеих сторон престола жемчужные кисти с вплетенными нитями алмазов и яхонтов. Это было похоже на белопенную струю водопада, исторгающего радугу. Кисти из серебра ниспадали на грифонов. Грифоны, поднявшись на задние лапы, поддерживали щиты и купол. Сами грифоны опирались лапами на серебряных львов, которые если и были меньше, чем настоящие львы, так не потому, что не хватило серебра, но чтобы не заслонить царственного первенства у сидящего на престоле. Передними лапами львы держали золотые подсвечники, освещая и престол, и шесть ступеней к нему, покрытых золотой парчой.
Марина Юрьевна вызывала в себе видение престола перед каждым своим погружением в счастливое минувшее.
Сегодня, в первый час нового, 1608 года, она переживала день 3 января 1606 года, когда от Дмитрия прибыл Ян Бучинский с настойчивым требованием отправляться в Москву… Дабы разжечь охоту к путешествию, Дмитрий прислал отцу триста тысяч серебром, а ее брату Станиславу – пятьдесят…
В дверь постучали нерешительно, но и нетерпеливо. Кто-то из своих. Запыхавшись, вошла фрейлина Барбара Казановская.
– Ваше величество! Марина! Милая наша королева! Скорее пойдемте смотреть на луну. Луна являет чудо. Все наши на улице. Все в волнении. Все признают, что это добрый знак.
В ту ночь земля была из золотисто-белого, из веселого серебра. Луна, наклоня лик, сияла простодушием, и всем было видно, что она еле сдерживается поведать всему миру о своей детской счастливой тайне. Три цветные, яркие, как при солнце, радуги окружали полный, превосходной округлости диск.
– Луна, Марина Юрьевна, сегодня про вашу царскую честь! – сказал государыне стрелец из караула.
Стрелец был чернобров, русобород. Так хорош статью, что Марина Юрьевна нечаянно вздохнула.
– Какие новости в белом свете? – спросила она стрельца тихонько.
– Петрашку, говорят, в Москве повесили.
– Кто это?! – Марина Юрьевна, чтоб выглядеть православной, перекрестилась.
– Тот, что царевичем себя называл, сыном царя Федора. Он в Туле с Болотниковым сидел.
– А с Болотниковым что?
– Да что? В тюрьме, чай, в цепях, – и, как заговорщик, понизил голос: – Есть и для вас весточка. Самых болезных из ваших, чтоб ненароком не заразить ваше величество, велено в Архангельск отослать.
– Дева Мария! – отшатнулась царица. – Да кто же между нашими здоровый? Все хворы! Архангельск – это же на Белом море! С архангелами хорошо только в небе.
– Может, и обойдется! – утешил стрелец. – В Москве то одно надумают, то другое, а остается все по-прежнему. Чай, не Иван Васильевич в государях.
Стрелец отошел, но Марина Юрьевна его окликнула.
– Мой Дмитрий Иоаннович любил в снежки играть. Скажи стрельцам, пусть потешатся.
– Мороз большой, ваше величество! – Стрелец руками развел. – На морозе снежка не скатаешь. Вот придет Масленица, снег отволгнет, коль тепло будет, тогда за милую душу, потешим.
Марина Юрьевна взяла снега, помяла варежками, пустила в стрельца, но снег рассыпался в воздухе алмазной пылью. И похолодела. О неверная память! Вспоминая трон Дмитрия, забыла о топазе. Ведь был топаз под орлом. Огромный топаз, величиной с придорожный камень. Наверняка превосходил ценой алмазы и жемчуг.
Уже дома, у печи, счастливая от превосходной красоты ночи, от бодрости всех домашних, подумала: «Столько было драгоценностей!»
И снова мысли стремниной.
«Остался ли в сердце, в печени или где там еще хоть какой-то добрый след от того обладания? Была царицей, была первой дамой среди поляков, русских и множества народов. Но где он, кристалл этого первенства?»
Желала вот сию же минуту быть со стрельцом, ласковым, могучим. Он – раб. А она, царица, и над рабом не вольна… А весь ужас в том, что она – царица, обладавшая превосходнейшими сокровищами мира, – желает раба. Чем больше клокочет гордость, тем ненасытней рабское желание…
Расплакалась.
Марина Юрьевна стояла над рекою Которослью. Стрельцы открыли для нее калитку и сами попрятались, чтоб не мешать царице. Марина Юрьевна вышла с Барбарой Казановской, любовалась розовым небом. С береговых круч катались на санках детишки. Девочки выбирали пологие склоны, чтобы катиться не очень быстро, но очень долго, чуть ли не до другого берега. Мальчикам нравилась опасная езда. Они разгоняли санки, падали на них и круто летели вниз, целя на выступ. Выступ бросал их санки в воздух, и не всякий справлялся со скоростью. Санки – в одну сторону, седоки в другую, но не то было дорого – никто из мальчиков не выбирал легкого пути. Хоть голову сломи, да не трусь.
– Наши рыцари уверяют, что много смелее русских, – сказала Марина Юрьевна фрейлине. – Вон тот, самый маленький! Я считала – он двенадцать раз упал. И опять лезет в гору, чтобы упасть в тринадцатый.
– А я на женщин смотрю, – призналась Барбара, показывая на прорубь, где местные хозяйки черпали воду и несли деревянные тяжелые ведра на коромыслах. – Как они ходят! Загляденье. И все хороши собой. Все!
– Мир не знает русских. – Странная улыбка кривила Марине Юрьевне ее тонкие, посиневшие на морозе губы. – Мы одни могли бы соединить этот дикий русский остров со всем миром, но русские не верят нам.
– Ваше величество, не пора ли домой? Вы озябли!
Марина Юрьевна закрыла рот пуховой рукавичкой и пошла к калитке, стрельцы, постукивая нога о ногу, улыбались царице.
– Но ведь это другие стрельцы! – догадалась Марина Юрьевна. – Не те, что нас охраняли вчера. И, однако, их лица знакомы. Я их всех где-то уже видела.
Марина Юрьевна говорила по-польски, но один из стрельцов понял, о чем речь, и сказал:
– Мы, царица, пришли из Карелии на смену. А с вашим царским величеством мы шли сюда из Москвы, стерегли вас год тому назад.
– Я помню вашу роту! – обрадовалась Марина Юрьевна. – Я помню, вы были добры к нам.
– Мы тебя, царица, жалеем, – сказал стрелец. – Всякое слово твое исполнили бы, да с нас присягу берут, чтоб были до твоего царского величества и до людей твоих – как псы, а мы, однако, люди.
В комнатах Марину Юрьевну нетерпеливо ожидал ясновельможный пан Мнишек.
– Нам сменили охрану! Нужны деньги, чтобы поскорее купить доброе к нам отношение.
– Батюшка, ты считаешь, что платить должна я?
– Но это дело государственное! Ты – государыня, а я – частное лицо.
– Когда у меня выйдут все деньги, тогда я тоже буду частным лицом? Или, может быть, вашей служанкой?
От гнева лицо Марины Юрьевны стало белым: мелочность отца была ей ненавистна.
– Я не дам вам ни полушки! У меня нет дел в этом мире, я – пленница.
– Но дочь моя! Я подготавливаю людей, которые смогут дойти до короля и рассказать о нашем бедственном положении. У меня множество забот и трат.
Марина Юрьевна показала на свою беличью шубку.
– Разденьте меня, разуйте! Я буду ради ваших хитроумных планов сидеть целыми днями возле угарной печи.
Отец поклонился дочери, попятился к двери.
– Не сердись. Не обижайся… От твоих денег – больше удачи… Потому и прошу именно твоих денег.
И тут прибежали с улицы.
– Ваше величество! Ваша милость! На небе знамения!
Дом уже гремел под торопливыми сапогами, все спешили во двор. Под серебряным пологом из облаков, скрывавшим солнце, ходили огромные огненные столбы.
– Марина! – подбежал к дочери пан Мнишек. – Ты видишь?! Небо что-то предвещает. Но кому?! Им, – он указал рукою в сторону стрельцов, – или нам?
Он положил обе руки на грудь, где билось ясновельможное, брызжущее отвагой сердце, и склонил перед небесным знамением величавые свои седины.
Утром Барбара принесла Марине Юрьевне сразу три новости:
– Царь Шуйский послал на императора Дмитрия огромное, многотысячное войско. Но как только это войско покинуло Москву, солдаты возроптали, желая присягнуть их императорскому величеству, стало быть, и вам тоже, ваше величество. Царские воеводы испугались, поспешили отступить к Москве. И все же восемь тысяч добропорядочных воинов покинули нечестивого царя и присягнули государю Дмитрию Иоанновичу… Но это не все, драгоценная моя повелительница. В Астрахань вошло войско, которое взяло город на имя истинного царя. А истинный царь один – ваш коронованный супруг. Шуйский совсем потерял голову, когда он узнал об измене, то хотел сложить свой скипетр, но его клевреты уговорили не оставлять царства. Они-то и настояли, чтобы Шуйский сыграл наконец свадьбу с нареченной своей невестой, с Буйносовой. Говорят, царь оставил все дела, заперся в Кремле и предается любви, ибо супруга его хороша собой, в летах самых юных, тогда как сам Шуйский глубокий старец.
– Я тоже хочу любви! – сказала Марина Юрьевна. – Если вы не найдете мне стрельца, о котором я вам говорила, я – умру. Я – императрица, но я не имею даже той малости, которая доступна любой бабе, таскающей воду на коромыслах! – Марина Юрьевна ударила рукой по столу и ударяла все сильней и сильней. – Мой супруг застрял в снегах. Чтобы вызволить нас из Ярославля, достаточно одного полка, но он даже письма мне не прислал! У него в постели снова какая-нибудь Ксения, Матрена, Фекла!
И сделала знак, чтоб ее оставили одну.
Кровь шумела в ушах, сердце падало, да так, что Марина Юрьевна тихонечко ойкала. Боясь за свое сердце, она стиснула груди руками и с ужасом ощутила, что все в ней недвижимо. Слезы, которые должны были хлынуть, не пролились, расплетенные волосы не рассыпались, сама жизнь, кончившаяся уж два года тому назад, не убывала, но ее и не было.
По календарю Минувшего она была на дороге к Москве.
Сегодня для нее существовал день 16 апреля, когда после Минска десять дней ожидали в Орше переправы через весенний бушующий Днепр, который снес мосты. Марина Юрьевна попыталась воссоздать в себе реку, паромы, на которых перебирался с берега на берег ее огромный поезд… Поезд действительно был внушительный. Ее свита, свита отца, брата, дяди – красноставского старосты, его сына – лукомского старосты, князя Константина Вишневецкого и прочих, прочих: 1969 человек при 1961 лошади… Марина Юрьевна спохватилась, она – перечисляла не видя. Картины не шли в голову. Тогда она властно перелистнула листы календаря, и, живая, до ощущения дыхания, явилась ей – ночь с Дмитрием, в женском кремлевском монастыре. Греховная, грубая, почти скотская. Ах, какой он был скот в любви, царственный Дмитрий Иоаннович! Весь случившийся с нею ужас и стыд стали для нее самым сокровенным воспоминанием о незабвенном, лучшем из лучших, о государе, о любовнике ее, о вздыхателе. Царь не царь, да увенчан в священном Успенском соборе. И кто бы он ни был, он был! И есть! Слава богу, есть!
Вечером Марина Юрьевна снова выходила за калитку глядеть на Которосль. Ко-то-росль! Чудились родные звуки родного языка, завораживали женщины, ходившие по воду. Марина Юрьевна невольно поводила станом, покачивала бедрами, пытаясь уловить величавую, воистине лебединую красоту движений русских простушек баб. Кажется, они по воду шествовали не ради воды, а чтобы пройтись под взглядами случившихся зрителей, чтоб у глядельщика ноги к тропке приморозило, чтоб от розовых губ, от алых щек запела бы кровь, заходила по жилам не хуже, чем весной, от весенней воды, смывающей плотины и запруды.
Над избами за рекой подымались белые прямые дымы. Небо быстро синело, и Марина Юрьевна уже искала звездочку. Но вдруг на главном дворе поднялся гвалт. Тотчас стрельцы вежливо показались царице, молчаливо приглашая за изгородь.
Бучу поднял кузнец пан Струсь. Ходил на базар продавать и покупать, да и схватился с ярославским коновалом из Коровницкой слободы, что за Которослью.
Коновал уличил Струся в мошенничестве, дескать, подковы его из пережженного железа. Железо и впрямь было самое скверное, но другого у пана Струся не было. Он очень старался из худого сделать хорошее. Ему как раз и нужно было новехонькое железо для своих польских коней. Ужасно возмутясь, что русский коновал оказался совсем не дураком, пан Струсь в сердцах пообещал своему обличителю:
– Царь Дмитрий идет и со дня на день будет на престоле. Вот тогда мы вашему царю Шуйскому воткнем в зад кол и не пожалеем колов для его бояр! А всех дураков, защищавших из корысти и по дурости злодея Шуйского, – четвертуем, чтоб излечить русских от их скудоумия, от врожденного предательства!
Базар всполошился, возроптал. Струся кинулись ловить, но он был роста огромного, силы невероятной. Когда ему загородили путь, он поднял в воздух сани и бросил на изумленных ярославцев.
Теперь все обиженные пришли требовать выдачи кузнеца на справу и расправу.
Пришлось закрыть ворота. Ярославцев было много, стрельцов мало. Шляхтичи явились к Юрию Мнишку за оружием. Царь Шуйский позволил шляхтичам не сдавать сабли и кинжалы властям, но, чтобы предотвратить кровавые столкновения между русскими и поляками, повелел держать оружие под замком, ключи от которого хранились у сандомирского воеводы под его полную ответственность.
Юрий Мнишек, слыша угрозы за тыном своего двора, был готов исполнить просьбы шляхтичей, но к осажденным на выручку подошел с конным отрядом воевода Ярославля князь Федор Борятинский.
С польской стороны к народу вышел Станислав Мнишек, просил прощения за безобразия кузнеца, обещал наказать виноватого плетьми и тюрьмой.
Ярославцы сердились, но ослушаться своего воеводу не посмели. Пан Струсь уцелел. Его посадили в чулан на цепь, позвали стрельцов, удостоверили, что возмутитель покоя наказан. Однако ночью в доме шло буйное веселье. Шляхтичи в очередь шли в чулан, пили со Струсем, пели, хаяли русское, славили польское.
А от Борятинского наутро прислали три воза рыбы: кушайте ради дружества. Вот вам осетры, стерлядка, судаки, для ушицы сладкая мелочь – язи, ерши, щучки, подлещики, голавлики…
Марина Юрьевна могла заснуть только днем, ночью в постели металась, часами сидела перед замерзшим окном. Желание было таким нестерпимым, что она даже на отца не могла смотреть: глаза блудили, стыднее некуда.
Поутру, поднявшись с постели, она снова ложилась поверх кружевного покрывала и выдавливала из памяти видения ночей, проведенных с Дмитрием.
Барбара Казановская, спасая повелительницу, проявила замечательную сметливость и сноровку. Начальнику караула шепнули о непростой болезни царицы, о тоске-сухоте. Стрелецкий начальник, всполошась, рассказал о болезни Марины Юрьевны жене, жена побежала к соседке, соседка к соседке, и наконец было указано на сильную знахарку в Толчковской слободе. В этой слободе толкли кору для дубильного дела. Тот, кто дружен с лесом, с деревом, – себе на уме, из слобожан многие знали тайное слово.
Знахарку из самых сильных привез на польский двор ухарь ямщик. Ямщика повели в людскую, а оттуда Барбара доставила его в покои царицы. Уговор с ним у Барбары был строгий: госпожа за стол пригласит – пей и ешь, в постель положит – ублажай, но маски с лица госпожи не снимать, ни о чем не спрашивать, недовольства не выказывать.
Знахарку Барбара сама приняла. А «ямщиком» был чернобровый стрелец. Как увидел он алые губки под бархатной черной маской, да кожу белую, да волосы волной – так обо всем и догадался. Юная дева, однако, помертвела перед ним, и, даже не поглядев на стол, на яства и вина, взял он красавицу на руки, отнес в постель, а что дальше делать, усомнился. Тихо царственная лежит, как неживая. Уйти, не уйти? Да ведь не для того зван. Посомневался, посомневался, а из-под маски глаза так и тянутся к нему, так и молят…
Пожалел стрелец таинственную просительницу, как мог, пожалел. И так его дева целовала, так его гладила, что и не ушел бы он от нее, но стукнули в дверь.
Стрелец – человек военный, мигом собрался, на постель не оглядываясь, оберегая полюбовницу свою потаенную от своего нечаянного нескромного взгляда. А она сама из постели выпрыгнула, как есть ни в чем! Налила вина пресладчайшего в серебряные чары. Одну чару поднесла, другую сама пригубила. Он-то не стал уж церемониться, до дна хватил. И она ту чару за пояс ему положила. Тут еще раз стукнули. Махнула ему полюбовница белой ручкой, и пошел он за дверь, а там его в людскую, в тулуп, во двор. Сани уж запряжены, знахарка в санях пресердитая. – Где тебя носит, мужик? Заспался, что ли?
– Да заспался.
– Ну так поехали!
– А чего стоять? Поехали.
Отворились перед санями ворота и затворились.
А Марина Юрьевна весь вечер песенки пела… Тут пожаловал к ней сандомирский воевода, загадочный, как сфинкс.
– Шубу надень, доченька! Хочу тебе кое-что показать на дворе.
Марина Юрьевна встревожилась, глянула на Барбару, но та – сама безмятежность.
Вышли на задний двор. Комнатный слуга воеводы, размотав холстину, поставил перед паном Мнишком снегоступы! Пан Мнишек надел их и пошел по снегу, по сугробам, нисколько не проваливаясь.
– Поняла? – спросил пан Мнишек, сверкая глазами.
– Нет, батюшка.
– О женский ум! – Отец возвел глаза к небу. – Добудем снегоступы для каждого из нас и можем уйти в леса.
– В леса?! – удивилась Марина Юрьевна.
– В леса, в поля! В Речь Посполитую!
Марина Юрьевна согласно кивнула головкой, и поспешила к себе, и хохотала в покоях своих, да так, что и строгая Барбара Казановская рассмеялась.
10 марта 1608 года в Ярославль привезли казака Ивана Исаевича Болотникова.
Марина Юрьевна посылала Барбару смотреть казака, и Барбара рассказывала о нем с подробностями:
– Человек он статный и очень большой. В плечах широк непомерно, лицом груб, взглядом хмур. Один из русских спросил его: «Говорят, ты своего повара повесил на тульской стене. Пошто такая лютость?» – «Потому и повесил, что хотел отравить меня», – ответил любопытному Болотников. «А отчего ты ходишь без цепей, как свободный человек, как любой из нас?» – спросили казака. Болотников вскипел и закричал на толпу: «Я сам вас скоро буду заковывать и обшивать медвежьими шкурами!» У него не было ни сабли, ни палки, но он так страшно сказал это, что люди поспешили разойтись, чтоб он их не запомнил.
Болотникова везли в ссылку в Каргополь, самое надежное место в России, – вотчины князя Скопина-Шуйского.
Через день, как проследовал в ссылку Болотников, сандомирский воевода устроил в доме большой пир, на который пригласил обоих приставов, смотревших за поляками. Приставы были куплены с потрохами, угодничали. Один из них сказал пану Мнишку:
– Близится время вашей радости.
Другого спросили о верблюдах, вдруг появившихся в Ярославле:
– Откуда на Севере верблюды? Куда их ведут?
– Верблюды из Сибирского царства, – отвечал пристав. – А отведут все туда же, в Москву. Хотят напускать на вашу конницу, когда царь Дмитрий придет, чтоб кони пугались.
Не ради приставов устраивал пир великомудрый сандомирский воевода. Польский двор был охвачен волнением и тревогой. Ходили слухи: князь Борятинский получил из Москвы приказ взять у пана Мнишка семьдесят человек и отправить в Вологду. Видимо, четыре сотни опытных воинов, жившие в Ярославле одним домом, тревожили царя Шуйского.
Все, что было хмельного в доме, перелилось в глотки гостей – приставов, детей боярских, стрельцов. За ночь прокис и пропах блевотиной самый чистый дом в Ярославле, как считали поляки. Бахус помог ясновельможному пану Мнишку отправить на двух санях в крестьянском платье восьмерых шляхтичей. Убыли из Ярославля по Ростовской дороге. Все восемь безупречно отважные, был среди них особо доверенный человек царицы Ян Бельчинский. Марина Юрьевна наказала ему разыскать мужа и удостовериться: он или не он. И, если он, Бельчинскому велено было сказать государю: «В Ярославле государыню Марину Юрьевну жалеют и любят. Пусть поспешит в Ярославль. На Москву идти надо с Севера. Сила Москвы в ее Севере. Отнять Север – все равно что срезать розу с ветки».
В эти же мартовские дни из-под Орла посылал своего человека к королю Сигизмунду их царское величество Дмитрий Иоаннович. В посланники был избран Арнульф Калиский, родом иудей. Арнульф пришел с отрядом Ивана Мартыновича Заруцкого, который взял его к себе за искусство приготовлять блюда, которые подают в Вавеле. Хвастая поваром, Заруцкий пригласил Дмитрия Иоанновича на гуся, сваренного в сладком вине, с шафраном, с восточными специями.
Гуся вынес сам Арнульф. Тут они посмотрели друг другу в глаза, царь и повар. Два сияния, как две молнии, скрестились и родили свет, который идет из глубины веков и уходит в века. Зазвенели в их душах струны Давидовой Псалтыри, и, словно колонны, подпирающие небо, поднялись, сверкая очами, Авраам, Иов, Иосиф, Моисей, Иисус Навин, Давид и Соломон! Не слова приводят человека к человеку, но глаза. Уже через неделю после сладкого гуся отправился Арнульф Калиский в Краков, имея «полное полномочие для переговоров во всех делах с Речью Посполитой, в военных и в коммерческих». Лжедмитрий обещал Сигизмунду пятьсот тысяч золотых ежегодно!.. И Сигизмунд Арнульфа принял, выслушал. Ответа, однако, не последовало, а был отдан приказ задержать посла и посольство…
Короля одолевали конфедераты. Он предпочел вести дело с Шуйским, нежели с человеком без роду-племени, несомненно бесчестным, ничем не владеющим, плывущим по ветрам, которые вздували авантюристы: Роман Рожинский, Адам Вишневецкий, Юрий Мнишек со сворою родственников…
Страшно было королю в Кракове, в Вавеле. Проснувшись, не знал, чем владеет, ложась спать – сомневался, владеет ли он чем-либо.
И в Москве было страшно. Москву одолели слухи. Некоему человеку был пророческий сон. Вот стоит он на холме, на белой на женской груди, и на том холме, на той белой женской груди, – сам-де собор Успенский. И вот сошла с черного неба звезда и, войдя через Царские врата, озарила храм светом великим, чудным, и в том свету явился Иисус Христос, а стены храма заговорили, ужасая каменными словесами: «О московский лукавый народ! Ты есть новый Израиль, и дела твои подобны делам Иудиным: на словах одно – на деле иное, на груди крест – в груди же святотатство. Всяк от малого до старого сквернословит, бороды мужчин бриты и стрижены, всякий чужой обычай – лучше своего. Нет истины ни в царе, ни в патриархе, ни в церковном чине, ни в целом народе. Правда – в тюрьме и на плахе, ложь – за столами, ухоженная, наряженная. Посему – царю и патриарху за их немочь духовную будет казнь. Всему же царству Русскому – истребление и погибель».
Сие видение на исповеди поведал благовещенскому протопопу некий человек, заклявший протопопа Господом не называть царю его имени.
Царица Марья Петровна, прослышав про тот вещий сон, плакала.
Государь же Василий Иванович ни страха, ни гнева не выказал. Не чужие сны его заботили, но казна. Дабы одолеть ее печальную пустоту, повелел он вынести на московский торг все царские, все царицыны старые вещи, всю рухлядь – меховую, парчовую, сапоги, чеботы, шапки, рукавицы. Кто хочет в царском платье хаживать – плати!
Многие пришли на небывалый торг и брали рухлядь, прибавляя цену, вдвое и втрое, по грехам своим. Ибо государство впадало в нищету.
Спросил Василий Иванович деньги с монастырей, и монастыри дали ему не отказывая.
На те деньги собрал Василий Иванович войско. Весна скатывала в Москву-реку, в Оку-реку, в Волгу-реку обильные от больших снегов воды, земля выступала из-под воды, просыхала, и чем больше становилось земли, тем меньше оставалось времени до прихода к Москве Самозванца. Не плох был царь. Не хуже других, но от рока не улететь, не зарыться.
Когда войско выходило из стен Москвы, направляясь к Волхову, чтобы остановить Самозванца, ударили колокола, и у самого большого, у самого громогласного кремлевского колокола отвалился язык, колокол стал нем. Не гул, но вихрь вылетел из его огромного чрева. Немой, крутящийся вихрь.
Стрелецкий полк окружил польский двор. Отсчитал семьдесят человек, увели. Приставы напускали на себя строгий вид: «Это вам наказание за побег восьмерых. Мы к вам сердечно, а вы к нам как сатаны».
Почему понадобилось уводить семьдесят, а не сто, не двести? Куда увели? В Архангельск? В Сибирь? Нигде потом не сыскали этих несчастных, ни один не объявился. Под лед пустили? То было модно при царе Шуйском. Любимец купцов, по-купечески жил: все грязные, все стыдные концы – под белый снег, под прозрачный лед в черную воду! Русские реки далеко текут, или в Волгу, или в студеное море.
На Пасху, 6 апреля, разлилась Которосль.
14 апреля сокрушила льды Волга. Почернела, вздулась, понесла ледяное месиво мимо города, сотрясая и круша берега.
Польский двор затопила полая вода, да еще и созорничала, дрова унесла. Дом охолодал, помертвел.
Та же полая вода преградила путь вестям и слухам. Последнее, что дошло до Марины Юрьевны: войско Шуйского под Волховом, войско их императорского величества в Орле.
Сон упирался, не уходил, но топоры тюкали, тюкали…
– Что это за дятлы?! – выскочила из постели Марина Юрьевна, свирепая, как рысь.
– Их милость пан Мнишек приказал лодки строить, – объяснила фрейлина.
– По двору плавать? По Которосли? Или бежать по Волге в Каспийское море, из которого ходу никуда, кроме как к падишаху Аббасу, пану – в рабы, пани – в гарем?
Одевшись, Марина Юрьевна послала за братом.
– Станислав, у меня мигрень от верфи в сенях.
– Марина! – рассмеялся брат. – Ты отца, что ли, не знаешь? Сегодня первая лодка обязательно будет готова, опробована. И она обязательно или утонет, или рассыплется.
– Не лучше ли нам всем улететь?
– Марина, упаси тебя боже навести отца на эту мысль. Он тотчас купит все перо в Ярославле, нам и на хлеб не останется.
Марина Юрьевна махнула рукой, злость сошла с нее.
– У тебя тепло, – сказал брат, – а мы ужасно мерзнем… На лодке, кстати, можно вылавливать дрова.
– Новости какие-нибудь есть?
– Нет новостей, Марина. Сама видишь, власти о нас словно забыли. К худу ли, к добру ли…
Марина Юрьевна вдруг посмотрела брату в глаза.
– Ты веришь, что тот, кто под Орлом, – Он?
Брат вспыхнул, заморгал.
– Марина! Я… Я верю… Как можно не верить, если… если Шуйский собирает войска, если… в этом войске множество перебежчиков. Астрахань присягнула, Орел…
– Это не Он, – сказала Марина Юрьевна, сама не зная почему, и резко, капризно закричала: – Пусть отец прекратит этот стук! Гроб, что ли, всем нам сколачивает?!
Схватила со стола глиняный кувшин, ударила о печь. В кувшине было молоко, которым Марина Юрьевна умывалась.
Убирать осколки, подтирать лужу пришла служанка из русских. Платок, как крыша, закрывал ей лицо. Глядела в пол, делала свое дело быстро, беззвучно.
– Ты знаешь, где ты и кто я? – спросила Марина Юрьевна бабу.
Баба распрямилась, отвела платок с глаз, смотрела на царицу с любопытством, но без подобострастия.
– Кто? Кто я?
– Говорят, царица. Соломенная вдовушка.
– Как это – соломенная?
– Да ведь замужем, чай, не пожила.
– Не пожила, – согласилась Марина Юрьевна.
У русской были красивые серые глаза, лицо строгое.
– Ты какого звания?
– Никакого. В слободе живу. Мой муж рыбак.
– Расскажи, что говорят ваши люди обо мне.
– Иные жалеют.
– Не все?
– Не все.
– Отчего так? Разве не горька моя судьба?
– Горька-то горька, – согласилась баба.
– А чем же я не угодила?
– Поляков своих навела!
– Я никому никакого худа не сделала. Я желаю русским людям одного добра. Будь в Москве, я бы заступалась за русских женщин.
– А чего за нас заступаться?
– Но вас мужья бьют. Жестоко бьют! Я знаю.
– Побьют – пожалеют.
– Значит, ты не печалишься, что я не царица?
Женщина бросила тряпку в ведро, отерла руки о подол. – Не печалюсь. Была бы ты царицей в Польше, ну и господь с тобой.
Ярость клокотала в груди Марины Юрьевны.
– Всем скажи! Всем, кого встретишь. Я есть русская государыня. Моя голова короной венчана. Бог корону на голову возлагает. Бог! Кто против царей, тот против Бога! – Топнула ножкой. – Кланяйся! Кланяйся государыне своей!
Баба, не меняя участливого выражения лица, опустилась на колени, поклонилась, поднялась.






