Смута Бахревский Владислав
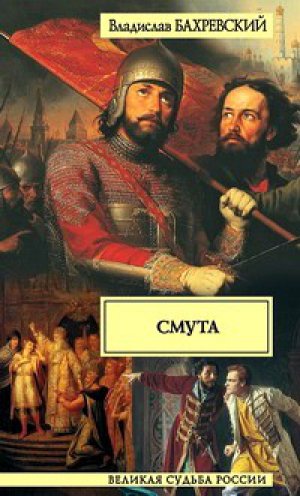
– Спасибо, генерал, – просиял князь. – Что бы я без тебя делал?! А башню ты поставил отменную! Мой государь наградит тебя за службу по-царски. Шуйские дорого ценят верность.
Полегчало на сердце у Михайлы Васильевича. Ждал Делагарди с нетерпением, встречу он назначил здесь, у новой башни. Совет Зомме был уже тем хорош, что приготовлял Скопин для союзника и друга одну нечаянность, а их получилось две.
Делагарди приехал с офицером-толмачом.
Наслаждаясь легким морозцем, румяными облаками, инеем на огромных березах, генерал улыбался князю уже издали, заранее раскрывая объятия. Оба были высокие, молодые, и среди пышнотелого, изнемогшего от важности боярства, среди своих умудренных войной и жизнью солдат они чувствовали себя заговорщиками. Не войдя еще в серьезный возраст – люди завтрашнего царства, – вершили юные полководцы судьбы народов и государств. Генерал Яков Делагарди был старше воеводы Михаила Скопина на три года, Якову исполнилось двадцать шесть.
– Как спалось, князь? – спросил Делагарди через толмача.
Михайла Васильевич от столь невинного вопроса растерялся, вспыхнул, помрачнел.
– Смутные вижу сны.
Делагарди возвел руки к небу.
– Надо женщину с собою класть в постель! У вас, русских, такие все красавицы!
– Моя жена в Москве. А я человек православный.
– Это тоже по-русски – Делагарди напустил на себя серьезности. – У вас множество совершенно непонятных запретов, условностей… Впрочем, как и у нас. Сказано же: в своем глазу бревна не видно.
Де ла Гарди по крови был французом, его род происходил из провинции Лангедок. Отец, Понтус де ла Гарди, поступил на службу шведским королям и много досадил Иоанну Грозному, обращая его рати в бегство.
Де ла Гарди некогда сходился с отцом князя Михаила на поле брани и в посольском словопрении. Будучи товарищем новгородского воеводы, князь Василий Федорович писал эстонскому наместнику, барону и фельдмаршалу: «Ты пришлец в Шведской земле, старых обычаев государских не ведаешь». На что получил такой же гордый и дерзкий ответ: «Я всегда был такой же, как ты, если только не лучше тебя… Вы все стоите в своем великом русском безумном невежестве и гордости, а пригоже было бы вам это оставить, потому что прибыли вам от этого мало».
Отцы ссорились, а дети Божьим промыслом стали и союзники и друзья. Яков отца не помнил, барон умер, когда сыну было чуть больше года.
Поднялись на башню. Опытный воин, Делагарди так и кинулся к бойнице.
– Князь! Посмотрите!
На слободу, так зримо на белых снегах, так страшно в спокойной неотвратимости, надвигалось многотысячное войско. Михайла Васильевич торжествовал. Напугал храбреца генерала!
С воеводами Иваном Куракиным и Борисом Лыковым у князя было заранее условлено, в какой час прибыть к Александровской слободе. Полки эти пришли от царя, из Москвы, чтобы разрозненные силы соединились наконец в единую государеву мышцу, роковую для врагов России.
– Подарок нам от государя Василия Ивановича, – улыбался Скопин. – Молодцы! Хорошо идут, споро! Подождем еще боярина Федора Ивановича Шереметева из Владимира и двинем на Сапегу. Избавим Троице-Сергиев монастырь от польского ошейника.
– Надо ли затягивать наше бездействие? – осторожно спросил Делагарди. – А если монастырь, устояв год и еще полгода, не сможет вдруг продержаться считаные дни? Я слышал, в монастыре был великий мор, силы защитников совершенно истощились.
– Но мы же помогли монастырю! Воевода Жеребцов привел за стены Троицы почти тысячу ратников.
– Это было в октябре, а сегодня второе января.
Скопин поднял свои слишком кроткие для воителя глаза и посмотрел в глаза Делагарди.
– У моего царя и у всего русского царства – наше войско единственная и последняя надежда. Если нас побьют, Россия погибнет… Многие, многие предрекали ей погибель…
– Я писал моему государю, что Сигизмунда вернее всего поразить можно в России, под Смоленском. Именно в России, когда поляки так далеко от Речи Посполитой. В Ливонии поразить польское войско будет много сложнее.
– За братскую любовь и помощь мой государь воздаст твоему государю полной мерой, – сказал князь. – Я жду обещанные твоим королем четыре тысячи солдат из Выборга. Как только они придут, мы выступим на Москву и на Смоленск. – И не выдержал серьезной мины, просиял. – У меня нынче большая охота порадовать тебя, нашего друга. Нынче мы заплатим твоему войску пятнадцать тысяч рублей, соболями.
– Ах, князь, мне так нравятся ваши хитрости! – Делагарди нашел и пожал руку Михайле Васильевичу. – Пойдемте же встречать московских воевод. Сердце всегда стучит веселее, когда силы прибывают.
И тотчас остановил князя, чуть обняв за плечи.
– Я на всю жизнь запомню ту мерзкую тоску, охватившую меня, когда мои наемники под Тверью объявили, что не желают идти в российские дебри, когда, свернув знамена, они отправились в Новгород. Я тогда обнажил меч, я проклинал их и скоро остался на дороге один… Как же хорошо, что мы вместе, как хорошо, что нас много и становится все больше!
Им было радостно от их дружества. Они, разноплеменные и столь недавно враждебные друг другу, ныне ради интересов своих государей и отечеств могли, волею Божией, быть едины, стоять друг за друга, как за самих себя. Все мелочное – сокровенные государственные корысти, повседневные утайки, опасливая подозрительность – все это ушло, и они были счастливы. Счастье это было особое, высшее, Господнее.
Соснув после обеда, румяные, расслабленно-неторопливые, беспричинно улыбчивые воеводы и духовенство собрались в бесстолпной просторной зале обсудить дела минувшие и предстоящие.
Скопин-Шуйский занимал в совете первое место, но умел до поры до времени «потеряться», помалкивать, поддакивать, хотя среди обросших, вполне одаренных мужскою красотой советников своих был он очень даже приметен. Ни бороды, ни усов у Михаила Васильевича по молодости не росло. Вернее, росло, да так редко, что он брился, впрочем, скрывая это заморское заведенье, такое обычное при дворе Самозванца. Про этот грех своего полководца воеводы и вся высшая власть знали, но не судили. Скопин-Шуйский был многим люб. Он покорял даже противников царя, был предан ему сам и в других не допускал ни малейшей шаткости. Духовенство, бояр, воевод, дворян, ратников едино восхищало в Скопине непостижимое по летам его непоспешание. Семи раз не отмерив, князь не то чтобы шага ступить, колыхнуться не позволял ни себе, ни войску. Воистину сын Отечества и русский человек.
На совете речь пошла о продовольствии, кто, сколько и откуда доставил и доставит. Были укоризны в сторону пермячей, которые не поторопились во спасение Отечества ни единым человеком, ни единой копейкой.
Ради дружбы с Делагарди и ради скорейшего прибытия еще одного шведского войска была зачитана грамота, направляемая шведскому королю. Писал ее Скопин от имени Василия Ивановича. «Наше царское величество Вам, любительному государю Каролусу, королю, за Вашу любовь, дружбу и вспоможение… полное воздаяние воздадим, чего Вы у нашего царского величества по достоинству ни попросите: города, или земли, или уезда».
Ради победы над польским королем Сигизмундом, осадившим Смоленск, ради устроения тишины на Российской земле царь и его воеводы были готовы потесниться, пожертвовать толику от своих просторов.
С насущными делами совет покончил, пришел черед выслушать рязанцев, присланных думным дворянином Прокопием Ляпуновым с какой-то особой надобностью. Надобность сию рязанцы заранее объявить никак не захотели, а только чтоб самому князю Михайле Васильевичу с его преславными воеводами да чтоб во всеуслышание.
И такое рязанцы сказанули, что Скопин-Шуйский обомлел.
– «Могучий витязь святорусский, душою и умом краше всех, кого родила и носит ныне Русская земля! – восклицая на каждом слове, читал посланец Ляпунова. – Истинным благородством благородный, возлюбленное чадо Господа Иисуса Христа, царь отвагою, царь государственным разумением, царь любовью к Отечеству и народу! Прими же ты, свет наш, царский венец, ибо ты есть во всем царь! Не твой дядя, дряхлый и ничтожный, но ты сам – первый спаситель России. Не лжесвидетель государь Василий Иванович, который грехом своим губит всех нас, россиян, но ты, чистый и светлый, спасешь и возродишь православие и православных…»
Князь Михайла Васильевич вскочил, зажал уши, вырвал из рук рязанца грамоту, разодрал надвое, еще разодрал.
– Взять изменников! В цепи! В Москву их! К государю! К великому и славному царю Василию Ивановичу на суд, на жестокую казнь!
Рязанцы повалились в ноги воителю.
– Не мы сие говорим! То – Ляпунов! Мы – люди маленькие! Что нам сказали читать по писаному, то и читаем. Смилуйся! Князь Михайла Васильевич, пощади! Мы – верные слуги царя Шуйского.
– Увести их! – приказал Скопин, отирая пот с лица. – Прочь с глаз! На хлеб да воду!
И, огорченный, удрученный, прекратил совет, поспешил в Троицкий собор всенощную стоять.
На молитве и вспомнил свой сон, поутих сердцем: «Не будет казни, не будет суда над слугами злых и глупых господ. За свои писания пусть Ляпунов перед царем отвечает».
Утром рязанцев выпроводили прочь из Александровской слободы, их следы метлами замели.
Решиться воевать, имея восемнадцать тысяч русских да более пяти тысяч шведов против четырех тысяч Сапеги, все-таки можно было. И, собравшись с духом, 4 января 1610 года в разведку к Сапегиному лагерю был отправлен воевода Валуев и с ним пятьсот человек конных. Валуев ночью проник за стены монастыря, а рано утром, соединясь с отрядом Жеребцова, ударил на польский лагерь и, захватив пленных, возвратился в Александровскую слободу, убежденный, что поляки слабы и развеять их возможно, хоть завтра.
Князь Скопин, однако, и теперь не торопился. И победил без войны.
12 января Сапега, рассорившийся с гетманом князем Рожинским, бросил свой обустроенный лагерь, который превращался в смертельную ловушку, и бежал к Дмитрову.
Только через несколько дней в саму собой освобожденную Троицу пришло войско победителей князя Скопина-Шуйского и генерала Делагарди.
Однако и теперь князь Михайла Васильевич не поторопился к Москве. Ждал крепких настов, чтобы войско по дороге не вязло, не выбивалось из сил понапрасну. Да и зачем воевать, когда у иных тушинских воевод можно было сторговать города незадорого. Поляк Вильчик за Можайск взял сто ефимков и ушел подобру-поздорову.
Стоял Скопин-Шуйский, как стоит гроза на краю неба, обещая громы, молнии и ураган.
Не дождавшись вразумительного ответа от Сигизмунда, гетман Рожинский в ясный мартовский день запалил тушинский лагерь и, развернув знамена, под звуки труб, пошел прочь от Москвы. Громко, красиво уходил, но злые слезы сами собой катились по лицу храброго воина. Ах, коли бы не дубовое упрямство Сигизмунда! Кабы не гордыня Сапеги! Кабы не подлости друг против друга при дележе шкуры неубитого медведя! За горло Россию держали. Восемнадцать месяцев! И без славы, с пустыми карманами, неведомо в какие дали уноси ноги, покуда дают уйти.
12 марта 1610 года Москва отворила ворота, встречая освободителя, отца Отечества юного князя Скопина-Шуйского и сподвижника его, шведского воителя генерала Делагарди.
Народ, встретив полководцев хлебом-солью, стал на колени от первой заставы до Кремля и Успенского собора. Смирением изъявлял восторг перед мудростью юноши, посланного России и Москве не иначе как от самого Господа Бога. Народ кричал Скопину:
– Отец Отечества! Царь Давид!
Сам государь Василий Иванович, плача и смеясь, как младенец, обнимал и целовал обоих полководцев, ибо у него, государя всея Руси, наконец-то была не одна осажденная Москва, но и вся Россия, с городами, с народами, от края и до края. То был воистину день искренних слез, искренней благодарности и торжества всего народа.
Но пришла после светлого дня первая мирная, покойная ночь. Не вся Москва заснула благодатно, помянув доброе добрым словом. Во тьме боярских хором пошли шепоты, свистящие, ненавистные. О нет! Не всякое утро вечера мудренее! Кто со злом ложился, тот со злом и проснулся.
Горе-воеводы, поганые «перелеты», порхавшие, как летучие мыши, от царя Василия в Тушино, к Вору, и от Вора к царю, поехали друг к другу, да все с вопросами: «А от ковой-то Скопин-то спас-то нас? Пан-то Рожинский сам ушел, Сапега тоже сам. Кого побил-то княжич-то? Давид-то новехонький?»
Эти говорили еще вползлобы, с полной злобой к царю поспешали. И первым явился к Василию Ивановичу братец его, князь Дмитрий, Большой воевода, всегда и всеми битый.
– Ты что змею на грудь себе посадил?! – кинулся открывать глаза царю-брату. – Не слышал разве, что Ляпунов уж повенчал племянничка нашего твоим царским венцом? И племянничек рад-радехонек! Говорят, сидел-слушал, мурлыча будто кот. С дарами отпустил рязанцев!
Дмитрий Иванович клеветал на Скопина при царице Марье Петровне.
От таких-то злодейских слов Дмитрия Ивановича царица заплакала. Стыдно стало царю за брата, хватил он его посохом поперек спины.
– Вон, брехун! Собаки лают, а он, помело, носит! Услышу еще от тебя навет – на Красной площади велю выпороть!
Дурака прогнал, царицу утешил, а как сел один в царской комнате своей, так глазки-то свои и сощурил: народ и впрямь души в Михаиле не чает… Страшнее же всего прорицание Алены. И это донесли, не пощадили. Алена на Крещение выкрикивала, будто шапка Мономаха впору Михаилу, тот Михаил тридцать три года будет носить венец пресветлый русский.
Была любовь царя к воеводе золотая, стала бронзовая. Блестит, да не озаряет.
Когда Боярская дума принялась судить-рядить, не пора ли отправляться Скопину с Делагарди под Смоленск, государь Василий Иванович смалодушничал и не то чтобы отстранил племянника от войска, но промолчал, не сказал, кому далее над полками воеводствовать. Тотчас и причина приличная сыскалась. На князя Михаила Васильевича был подан извет, что он своею волей, не спросясь государя, отдал шведскому королю город Корелы и обещал впредь отдать другие многие города и земли.
Князь Михайла Васильевич ударил государю челом, и царь позвал племянника к себе на Верх.
– Что же это делается, государь мой? – спросил Скопин, опускаясь перед Василием Ивановичем на колени. – Завистники мои низвергли меня пред твоим царским величеством во врага и злодея.
– Упаси господи, чтобы я поверил наветам! – воскликнул Шуйский, поднимая племянника с полу и усаживая на стул. – Однако скажу правду. Сам знаешь, возле царя отираются те, кому в поле да на коне страшно. Ты терпел в Новгороде, в Александровской слободе, наберись терпения и в Москве.
Снял из божницы икону Георгия Победоносца, поднес князю.
– Прими. Я тебя люблю, как никого.
– Государь! – Скопин припал к царской руке. – Ты для меня вместо отца родного. Дозволь все же сказать наболевшее.
– Милый мой! Дружочек мой! Тебе ли оправдываться? Ты есть крепость моя! – Царь порозовел, распалил себя словесами.
– Но, государь! А как быть с изветом о городах и землях? Разве я своею волей передал шведам Кексгольм, хотя они, домогаясь сдачи города, оставили меня в минуту ужасную, переломную?
– Извет есть напраслина. Я подтверждаю все твои договоры, князь. Я заплачу Делагарди и его войску из казны, сполна.
Скопин поднял свои осторожные глаза на царя и встретил улыбку.
– Знай, государь! – сказал Скопин, единственный раз за всю встречу не отведя взора. – Другого такого слуги, как я, у тебя не будет. Умоляю царское твое величество. Не держи меня и Делагарди в Москве. Меня на пиры, как медведя, водят. Боюсь, государь! Очень боюсь, как бы не пропировать Смоленска. На Сигизмунда надо идти теперь, пока его сенаторы не сговорились у нас за спиною со шведским королем.
– Без пиров тоже не обойтись, – сказал вдруг царь. – Москва два года почти в осаде сидела. Народ по праздникам соскучился. Но и то правда, уже хорошо попраздновали. Собирай, князь, думных людей, позови генерала Делагарди. К походу на короля подготовиться следует достойно.
– По зимнему пути выступить уже не успеем, – вздохнул Скопин.
В понедельник 23 апреля в полдень генерал Делагарди с офицером-толмачом навестил Скопина-Шуйского в его доме. Целуясь по-московски троекратно, Делагарди весело говорил князю:
– Приветствую моего друга в день святого Георгия Победоносца! И, хотя твой ангел-покровитель архистратиг Михаил, думаю, что и святой Георгий был за твоими плечами, когда мы шли к Москве.
– Со времен святого князя Даниила Московского, вот уж почти триста лет, Георгий, поражающий змея, – герб нашего стольного града.
– Не обменяться ли нам в память нашего похода и наших побед мечами?
Они обменялись оружием и выпили из братины боярского земляничного меда.
– Святой Георгий был у Диоклетиана комитом, – говорил Делагарди, останавливая взгляд на иконе Георгия Победоносца, Он знал, чей это подарок. – Комит – немалое придворное звание, член императорской свиты. Но мы с тобой, пожалуй, повыше чинами, архистратиги.
– Хочу прочь из Москвы, – сказал вдруг Скопин. – При дворе половина «перелетов», половина «похлебцев». Все ведь князья, бояре, но ни у кого я не видел ни благородства, ни великодушия. Поступки рабов, помыслы подлых. Горько быть одним из них по сословию, еще горше родственником по крови.
– Но скоро ли в поход, Михаил? – легко, беспечно спросил Делагарди о самом важном.
Скопин ответил просто:
– Государь уклончив, но он вчера вручил это дело мне. И тебе. Нам надо собраться с думными людьми и решить, когда мы выступаем.
– Виват! – Делагарди выхватил из ножен и поцеловал рукоять своего нового меча. И загляделся на изумруды. – Каков обмен! Выходит, я в прибыли. Ты получил мое солдатское оружие, а я твое дворцовое. Отдарю, но у себя дома, в Стокгольме.
– Пора бы за стол, – спохватился Скопин, – но мы с тобою нынче приглашены на крестины к князю Ивану Михайловичу Воротынскому.
– Два застолья – это чересчур для тощих шведов! – Хохоча и размахивая руками, Делагарди приблизил лицо к другу и рукою придвинул своего толмача. – В Москве все говорят, что у тебя ссора с царем.
– Неправда. Только дружба.
– В Москве все говорят, что Дмитрий Шуйский ищет способ устранить тебя. Передают его слова при нашем вступлении в Москву: «Вот идет мой соперник».
– Дядя Дмитрий? – Скопин потупился. – Это все из-за безумца Ляпунова. Но я чист перед домом Шуйских. Государь мне поверил.
– Ты говоришь – государь! Но Дмитрий сам метил в цари!
– Дядя Дмитрий? В цари? – Скопин удивленно улыбнулся, но улыбка таяла, таяла, и на лбу обозначилась глубокая тонкая трещинка. – Дмитрий и впрямь наследник.
– Берегись и сторонись его. – Лицо Делагарди было серьезно и озабоченно. – От света любви, какую народ выказывает тебе, как и у всякого света, есть тень. То зависть. А Дмитрий сама тьма. Он ненавидит тебя. Лучше бы нам быть уже под Смоленском, в окопах.
Скопин растерянно тер шею то левой, то правой рукой.
– Позволь мне удалиться. Переоденусь. На крестины опаздывать нельзя. Я для княжича Алексея зван в крестные отцы.
– А кто же крестная мать?
– Княгиня Екатерина Григорьевна.
– Супруга Дмитрия?
Делагарди вдруг побледнел.
– Прости меня, князь! Я не поеду на крестины. Хочу в день святого воина Георгия быть с моими солдатами. Генералу не грех раз в году выпить из солдатского оловянного кубка.
Быстро обнял князя, быстро пошел, не позволяя уговорить себя.
А на крестинах славно было. Господи, все ведь свои, родные все люди.
Матушка князя Михайлы Васильевича княгиня Анна Петровна из рода Татевых. Дядя, боярин Борис Петрович Татев, одну дочь выдал за князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, другую за Алексея Ивановича Воротынского. Иван Андреевич Татев спас Самозванцу жизнь при Добрыничах. Он, князь Михайла Скопин-Шуйский, нес меч на свадьбе и венчании царицы Марины Мнишек, а женат он на Головиной. Головин был казначеем при царе Федоре и в свойстве с Романовыми. Дочь Ивана Никитича Романова за Иваном Михайловичем Воротынским, матушка ее – княгиня Масальская. Масальский науськивал убийц на семью Годуновых. Царь Борис был женат на дочке Малюты Скуратова Марии, а Мария родная сестра Екатерины, жены Дмитрия Ивановича Шуйского, а дядя Иван Иванович Шуйский – Пуговка – женат на дочери боярина Василия Петровича Морозова, а вторая его дочь, красавица Евдокия Васильевна, жена князя Ивана Борисовича Черкасского, Черкасский – родня Романовым… И тот клубок клубок и есть, и вся Россия, все в ней совершенное, злое и доброе, – родственное дело этих вкладчиков русских монастырей, строителей храмов Божьих.
Сидя на почетном месте, но опять-таки неприметно, Михайла Васильевич глядел на родню, будто видел впервые. Всепрощение распирало ему грудь. Любовь и всепрощение. Слетелись, как птицы, в гостеприимное гнездо ради малого птенца, ради княжича Алексея, ну, и ради того, кто ныне озарен светом царской любви, ради тебя, князь Михайла. Закачает завтра деревья ветер лют, и все эти птицы бросятся кто куда – в траву, в кусты, иные на воду сядут. Но то завтра. И быть ли ветру, а любовь да согласие – до слез приятны.
Любовался князь тихою красотой и кротостью своей супруги. Александра Васильевна могла бы нынче, как белочка, на виду у всех попрыгивать-поскакивать, муж-то вон как воспарил, а она, милая, все в тенечек, все за чью-то спину становится.
– А что же это князь не пьет, не ест? – Перед Михайлой Васильевичем, плавная, как пава, черными глазами поигрывая, стала кума княгиня Екатерина Григорьевна.
– Завтра надо в Думе быть, – отговорился князь.
– От кумы чашу нельзя не принять! За здравие крестника нельзя не выпить! Твоя чаша, Михаил Васильевич, особая – пожелание судьбы будущему воину русскому от русского Давида.
– Ай, красно говоришь! – воскликнул хозяин дома князь Воротынский. – Пей, Михайла Васильевич, кумовскую чашу. Пей ради княжича.
И, приникая губами к питью, посмотрел князь Михаил, блюдя вежливость, в глаза Екатерины Григорьевны. Черны были глаза кумы. Лицом светилась, а в глазах света совсем не было.
«Не пить бы мне этой чаши», – подумал князь и осушил до дна.
Пир шел веселее да веселее, а Михайле Васильевичу страшно что-то стало, все-то он руками трогал и вокруг себя, и на себе. И не выдержал, встал из-за стола и, ухватя жену за руку, взмолился:
– Отвези меня домой, княгиня Александра Васильевна!
Сделался вдруг таким белым, что все гости увидели, как он бел. И тотчас хлынула кровь из носа.
– Льда несите! Пиявок бы! Да положите же его на постель!
– Домой! – крикнул Михайла Васильевич жене. – К Якову скорее! Пусть доктора пришлет. Немца.
Докторов навезли и от Делагарди, и от царя, самых лучших…
Вороны, что ли, прокаркали, но Москва, пробудившись спозаранок, уже знала: князь Михайла Васильевич отошел еси от сего света. Вся Москва, в чинах и без званий, князья, воины, богомазы, плотники из Скорогорода, боярыни и бабы простые, стар и мал кинулись к дому Михайлы Васильевича, словно, поспевши вовремя, могли удержать его, не пустить от себя, от белого света, но приходили к дому и, слыша плач, плакали.
Удостоил прибытием своим к одру слуги своего царь с братьями. Пришествовал патриарх Гермоген с митрополитами, епископами, игуменами, со всем иноческим чином, с черноризцами и черноризицами.
С офицерами и солдатами, в доспехах, явился генерал Яков Делагарди. Иноземцев остановили за воротами и не знали, как быть, пускать ли, не пускать? Ведь лютеране…
Делагарди страшно закричал на непускальщиков, те струсили, расступились.
Плакал генерал, припадая головой покойному на грудь:
– Не только я, не только Московское царство, вся земля потеряла. А какова потеря, про то мы уже назавтра узнаем.
Слух о том, что князь отравлен, ознобил Москву не сразу. Но к вечеру уж все точно знали: отравлен. Кинулись к дому Дмитрия Ивановича Шуйского кто с чем, но хватая что потяжелее, поострей, а там уж стрельцы стояли, целый полк.
Вотчина рода Шуйских и место их упокоения в Суздале. Но в Суздале сидел пан Лисовский. Хоронить Скопина решили временно, в кремлевском Чудове Архангело-Михайловском монастыре, а как Суздаль очистится от врагов, то туда и перенести прах покойного.
Пришли сказать царю о месте погребения.
Шуйский сидел в Грановитой палате, один, за столом дьяка.
– Так, так, – говорил он, соглашаясь со всем, что сказано было.
И заплакал, уронив голову на стол. И про что были те горькие слезы, знали двое: царь да Бог.
Поплакав, Шуйский вытер глаза и лицо и позвал постельничего с ключом, и тот привел человека в чинах малых и совсем почти безымянного, но царю нужного.
– Они боялись, что он будет царь, – сказал Шуйский тайному слуге. – И они – нет, никогда, а он уже нынче будет среди царского сонма. Ступай и сделай, чтоб было по-нашему.
И запрудили толпы народа площади Красную и Кремлевскую. И звал народ царя, и кричал боярам:
– Такого мужа, воина и воеводу, одолителя многих чужеземных орд, подобает похоронить в соборной церкви Архангела Михаила! Да будет он гробом своим причтен к царям, ради великой храбрости и по делам великим!
Царь Василий Иванович, услышав народный глас, повелел тотчас:
– Что просят, то и сотворите. Был он наш, а теперь он их, всея России возлюбленное чадо.
Похоронили князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского в каменном саркофаге в Архангельском соборе, в приделе Обретение честныя главы пророка Иоанна Крестителя.
Сыскался и прорицатель. Сказывал, что на Пасху был ему сон. Будто стоит он, приказной писарь, на площади между Успенским и Архангельским соборами и смотрит на царские палаты. И один столп в этих палатах вдруг распался, и хлынула из него вода, черная как деготь.
Народ, слушая, вздыхал:
– Где ты ране был со своим сном? Пал столп русского царства. Нету у нас, горемык, князя Михайлы Васильевича. И как мы без него будем – подумать страшно.
Провидец Иринарх
Шел Иван Большой Колпак по дороге от Ростова к Угличу, просил встречных:
– Покажите мне обвитого узищем! Сколько греха на Русском царстве, столько и уз на нем. Не знаю кто, не знаю где, тянет меня! Как сама земля тянет, ибо есть он – начальник мира.
Миновал Иван Большой Колпак село Демьяны, пил воду из речки Ишны, говорил людям, сильно сокрушаясь:
– Господи! Какие вы мелкие! Овцы и овцы! Не в прародителя вашего, не в Демьяна Куденеича, старорусского богатыря! Сожрут вас волки. Имя тем волкам Литва.
Шел Иван Большой Колпак – через Шугорь, через Борушки, мимо села Согило по темному бору, над Устьей-речкой, и стал перед ним, как гора Света, белый монастырь святых князей Бориса и Глеба.
– Вот он кол, к которому веревкой меня привязали и притянули.
Был Иван Большой Колпак сед от старости, подвигами да пророчествами знаменит, потому и встречал его у Святых ворот игумен с келарем, со всем монастырским начальством.
Иван покрестил всех скорехонько и рукой на них махнул: – Недосуг! Недосуг!
Пробежал мимо и в Просфорный дом, а там в подвал, сел у каменного столпа, держащего своды, и рукою вниз тычет, в каменную щель подвала:
– Ключ несите! Отпирайте запоры!
Какая у блаженного власть! Одет хуже нищего. Кафтан с боярского плеча, но прорех больше, чем кафтана. Всей самости – железный колпак. Однако ж суматохи больше, чем от воеводы. Кинулись за ключами, отворили монастырскую темницу, и сошел Иван во тьму, аукая, как в чистом поле:
– Ay! Ау! Где ты – начальник мира?
Грамотей иеромонах смекнул:
– Иринарх ему, что ли, надобен? Иринарх по-гречески – «начальник мира».
На ощупь сыскал блаженный Иринарха, взял за руку, повел из черной ямы на свет, к печам, где просфоры испекались, где от хлебного духа люди все добрые и веселые. – Вот он ты каков, тяга моя! Сам с пенек и к пеньку приторочен. Зачем в тюрьму себя спрятал? Тебе от людей не велено хорониться.
Был Иринарх ростом невелик, лицом русский человек: ни бел, ни черен, кругловат, глаза в глазницах, как в колодцах, с самого донышка, из тьмы – синё, будто с небес. Один нос выступает от вечного поста, но и тот круглый – гриб-дождевик.
Возликовал Иван Большой Колпак, чуть не пляшет.
– Ай, прост Илюша! А уж труженик – у Бога ныне этакого на всей земле нет. – Сам все гладит затворника, все целует. – Илюша! Илюша!
– Иринарх ему имя, – подсказал блаженному инок Тихон.
– У отца с матерью Ильей рос, – поглядел на Тихона, головой качая. – Ты пятки маслицем подмазывай, пригодится.
Тотчас и поредела черная толпа: блаженный брякнет, а ты потом живи-тужи с его накляпкою. Но Иван уж с одним только Иринархом беседовал:
– Не сомневайся, Илюша! У Господа ты есть начальник мира. Я и не ведал, что к тебе послан. Помню тебя. В Ростов к тебе приходил, в монастырь Лазаря, когда из Бориса и Глеба взашей тебя погнали, за пенек твой да за цепи.
Бухнулся вдруг в ноги затворнику, припал лицом к железным оковам. Потянулся к пеньку, что Иринарх держал в руках, принял, как дитя, покачивал, обводя братию смеющимися глазами.
– Вам и невдомек, бедные, за что брат ваш к плахе себя цепью приторочил! А все из-за бояр. Они, шустрые, вольных слуг своих, как собак, на цепь посадили, а ему кого? Самого себя и посадил.
Взял Иван горячую просфору с противня и, сняв колпак, преломил с Иринархом.
– Цепь-то, гляжу, в три сажени. Коротка. Еще не пропала матушка-Русь, еще только пропадает. Но быть ей во лжи, как свинье в грязи, по уши. И будет твоя цепь длиною от Москвы до Иерусалима.
Иринарх пугался принародных слов блаженного, ежился, таращил глазки, не зная, куда девать их. Блаженный смилостивился.
– Пошли, покажу жилье твое.
Взял за руку, повел в храм Бориса и Глеба, потом в церковь Сергия, ставил на царское место, где Иван Грозный молился. На дворе возвел на могильную плиту чернеца и опричника Ивана Чоботова.
– Прежние грехи носит и унесет с собою смиренный царь Федор Иоаннович. А те грехи, что нынешние люди накопят, тебе таскать.
Обошли они монастырь кругом, все четырнадцать башен, и наконец Иван Большой Колпак стал у восточной стены, где была келия. Приметное место – арка узорчатая, в арке оконце с решеткой.
– Довольно с тебя тьмы! На свету будешь жить, на людей смотреть. – И засмеялся, утирая слезы. – Как поглядишь, так и прибавишь цепь на сажень. Тебе уж и нынче пора надеть сто медных крестов. А каждый крест пусть будет в четверть фунта.
Иринарх взмолился:
– Прости, отче! Не утруждения страшусь, страшусь не исполнить воли Господа, через тебя ниспосланной. Где же мне меди-то столько взять?
– Бог даст, – сказал Иван.
И вошли они в келию, и никто им не посмел перечить.
Иринарх стоял, держа в руках дубовый пень, Иван же сидел молча, лишь колпак железный крутил на голове так и сяк. Когда смерклось, сказал:
– Даст тебе Господь Бог коня. Никому на том коне не ездить, кроме тебя. Сесть и то не посмеют. Но дивиться тому коню будут даже иноплеменные люди… И еще открою. Господь назначил тебе быть учителем. Станешь от пьянства отваживать… Ох, перепьет Русь, не зная меры! Ох, и тошно ей будет! За то пьянство, за то беззаконие наведет Господь на нашу землю иноплеменных. Но и они тебя прославят паче верных.
Поцеловал блаженный Иринарха, погладил по голове, по щекам, улыбнулся и ушел.
Минуло двадцать лет, как один год.
Что сказал Иван Большой Колпак, то и свершилось. Через день-другой явился в монастырь посадский человек, принес Иринарху тяжеленный медный крест. Перелили тот крест на сто крестов, водрузил их на себя затворник с великой радостью.
Ой, недаром искал Иван Большой Колпак великое русское терпение на Угличской дороге. За кровь младенца, зарезанного в Угличе, платили русские люди дань непомерную и не могли расплатиться.
И прибавил Иринарх в день убиения к трем саженям цепи еще три сажени и еще три по успении государя Федора Иоанновича. И взял он в руки палицу в три фунта весом, и принял сорок два креста по завещанию усопшего инока. Скорбя о всяком большом зле, отяжелял свое легонькое от постов тело. Были на нем вериги плечевые, нагрудные, ножные, путо шейное, связки поясные в пуд, восемнадцать оповцев[4] медных для рук и перстов, камень в одиннадцать фунтов, оправленный в железные обручи, с кольцом, обруч для головы, семь вериг за спину, кнут из цепи для изгнания из тела бесов. Да пенек, да еще один. Всего десять пудов. И не убывало тяжести, но прибывало.
В один из дней, когда царь Василий Иванович Шуйский свадьбу втихомолку играл, сумерничал Иринарх с учениками, с келейниками своими Александром да Тихоном. Глядел, как тает свет и как наливается синевою белый нежный февральский снег.
Старец узнал нынче от странника, что в Москве повесили у Данилова монастыря вора и самозванца «царевича Петрушку». И горько плакал, и бичевал себя нещадно железным кнутом, и повесил на грудь полуфунтовый ключ. У купца увидал и попросил. Тот и рад услужить Иринарху, на том свете зачтется.
Старец, приютившись у оконца, был похож в страшных железах своих на ежика. Личико доброе, детское. У инока Александра душа переполнялась слезами, и слезы стекали по его лицу, и он их не замечал. Так бы и взял старца на руки, так бы и отнес к золотому Господнему престолу, но подыми-ка. Десять пудов тяжелы, но с пудами уж как-нибудь, но где же оторвать от земли гору грехов, кои взвалил на себя Иринарх.
Сказалось иноку:
– Неужто так и будет с людьми до Страшного суда? Неужто не научатся жить чисто?
– Так и будет, – сказал старец.
– И железы твои не устыдят?
– Не устыдят.
– Но зачем тогда обременяешь себя?
– Не на людей надежда, на Господа. Господь прогневается, Господь и простит… Сказано: «Как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную, так прав да возненавидит неправду, украшающую себя…» И сказано: «Потерпите еще немного, и правда воцарится над вами». – Грамоте не учен, а говоришь по писаному, слово в слово. Всегда мне это удивительно, – признался Александр.
– Ты читаешь, а я слушаю. Что Бог положит на ум, то и помню.






