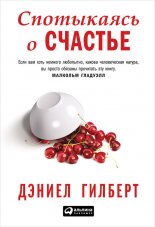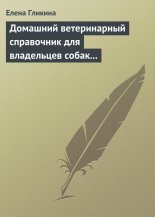Совок и веник (сборник) Кантор Максим

Все шло как-то вкривь, наперекосяк. Кто я? Художник? Писатель? Или ни тот ни другой? Любовник? Муж? Сын? Отец? Брат? Семейные узы значат для меня что-то или вовсе ничего? А страна, а нация? И работаю я для кого? Для людей? Каких?
Сколько привычных слов, сказанных просто так.
Это не я. Я не хочу быть никем из них, тех своих «я», которые создал фальшью и поспешностью.
Мне нечего спасать в больнице, мне нечего оберегать своим враньем, потому что все прочее – такое же вранье.
Я хочу свободы, а что есть свобода?
Я прячу вещь, которой не существует, мне нечего прятать.
Я не хотел жить, как все, я хотел сохранить себя в любой мелочи, мне казалось – есть что защищать, и вдруг я увидел: нет, правда лишь то, что существует.
Я пропал, повторил я. Но сдаваться было бы глупо.
Они еще лежали и слушали радио, а я уже вскочил и выгребал из кошелька мелочь. Разыскать санитара, выпить. Скорее. Я выскочил из палаты, прошел в темноте до лестничной площадки и бросился вниз.
После первого этажа лестница стала уже, а потолок ниже, лестница повернула еще раз, и со стен исчезла голубая краска. Теперь они были облезлые, грязные.
Следующий марш ступенек вывел меня к низкой двери, обитой жестью, я толкнул ее и вошел в подвал.
Передо мной был узкий проход с бугристыми бетонными стенами и потолком – чуть ли не впритык к макушке. Здесь было темно, только через каждые пятьдесят метров, повешенные вертикально, как свечи, дрожали люминесцентные лампы. Я побежал вперед; вскоре коридор раздвоился, и я побежал налево; проход становился теснее и темнее; я увидел, что это тупик. Я бросился назад и на перекрестке свернул направо, я бежал и бежал, и коридор раздвоился снова. Я сообразил, что подвал соединяет все корпуса больницы, и понял, что это лабиринт. Звать и кричать я боялся: слишком гулко и страшно прозвучал бы мой голос, я чувствовал, что сам себя напугаю, если крикну в этой тишине.
Кафельный пол шел под уклон, я бежал и бежал вперед, не успевая даже вздохнуть в такт шагам, и ноги обгоняли меня, и я утыкался в стены и возвращался, и все начиналось снова.
Я забыл, с какой стороны прибежал, я не знал, где я, я задыхался и бежал вперед только по инерции, по привычке что-нибудь делать.
Я услышал голоса и остановился.
– Глянь, как сапоги-то раскосал, – говорил один.
– За грибами вчера ездили, – отвечал другой, – лисичек, сыроежек не берем, только белые.
– Сапоги десять лет ношу. Жалко как раскосал.
– Подосиновики тоже берем.
– В них нипочем не промокнешь, разве если порвешь или выше колена зайдешь.
– Вчера белых много взяли.
Я свернул и увидел их. Говорил лысый лифтер с санитаром из шестой палаты. Лифтер держал бутылку портвейна. Рядом стояло еще две.
– Вовремя пришел. – Лифтер подмигнул и протянул бутылку; было противно пить после него, но я хлебнул, а потом, подумав об анализах, выпил довольно много.
– Не увлекайся, – заметил санитар, – присосался на халяву.
Я отдал ему деньги, он брезгливо сосчитал мелочь.
– Пусть пьет, – сказал лифтер, – это верняк, даже асфальт покрасит.
Он протянул мне новую бутылку. Я погрел на спичке пластмассовую крышку и, когда она стала мягкой, сорвал зубами.
В голове уже шумело, но я твердо решил нарезаться.
Я пил и прямо стоять уже не мог, сел на корточки. Голова кружилась.
Хоть бы до палаты дойти – но мне уже было наплевать.
Я сел прямо на желтый кафельный пол, пил, и меня кидало из стороны в сторону.
Все – неправда, все – не так.
Мне плохо и выхода нет, но все-таки стоит попробовать. Глупо было бы сдаваться. Я постараюсь выдержать.
Им со мной не справиться, думал я. Все плыло перед глазами, и я чувствовал себя бесконечно слабым.
Я выдержу. Знаю, что выдержу.
Если надеяться не на что – это нормально.
Вид из окна
Драка началась вдруг.
Мы услышали грохот бега на лестнице – значит, он прятался на чердаке, – и из парадного вылетел человек. Рванулся поперек двора, а те трое вышли ему навстречу из подворотни.
Рыжий чуть впереди, и рыжего он сбил сходу – наверное, ударил свинчаткой, такие часто носят свинчатку. Рыжий и не крикнул, упал на баки с помойкой, скатился, скрючился.
А у того на руках уже повисли. Он присел – и ватник по шву; видно было, как лопнул вдоль спины. Он крутанулся, едва не ушел.
Длинный саданул его ногой в живот, и еще, и еще, а на третий раз тот ногу поймал, и они вместе покатились. Длинный рвал ему ногтями лицо, искал глаза, но тот уперся лбом длинному в грудь – не достать, и душить длинный не мог – кадык не захватишь.
А тот все крутил длинному ногу, пока не заломил коленом к подбородку, а уж тогда своей свинчаткой ему вмазал в промежность. И нет длинного – отвалился длинный.
И тот было встал – и к третьему, но рыжий – позабыли про рыжего – подобрался сзади – и на спину, и ножом. Под лопатку что ли? Маленький ножик, дешевка.
Они ему еще ногами по голове походили, длинного подняли и пошли.
А тот еще часа два лежал. Потом шевелиться стал, сел.
К вечеру ушел.
И почему я думаю, что он крепкий мужик, Максим, – за все время ни разу не крикнул, не позвал. Мы ведь от окон не отходили.
Другие
Пока несли, жилец со второго этажа повторял: «Ну его к свиньям. Пусть замерзает». В свой последний приход из больницы Иван разбил голову его жене: та не давала рубля. «Мой мало пропил, – кричала она, – теперь еще этот раздолбай. Может, еще раком встать?» Тогда-то Иван взял ее за волосы и лбом стукнул о дверной косяк. Муж присутствовал, но как есть тщедушен и хил, помалкивал, да и ситуация вышла щекотливая: Иван клянчил на пропой с ним же, с мужем. И все-таки обида осталась.
Сегодня этот самый муж бранился, но волок негнущиеся Ивановы ноги. Тот, что тащил Ивана под мышки, возражал: «Человек ведь. Бросить как можно?»
Так они протолкнули тело в подъезд, обрыли у обмороженного карманы, нашли ключи, причем жилец со второго этажа прихватил и папиросы.
Они бросили его поперек комнаты, не дотащив до дивана. Иван пробудился на мгновение, его вырвало. Потом он опять спал, оттаивая и подрагивая во сне. Прошло два часа. Он проснулся.
Он лежит головой в луже подсыхающей блевотины, силясь отвернуться, чтоб не пахло. Ему худо.
По коридору направо две комнаты.
– На них глядя, сам рехнешься. Не успел чаю налить, старуха из угловой сгребла чашку, тащит к себе. Я к ней, беру обратно – какое! Голосит, не отдает. А загажено у нее! Белья не меняет, провоняла вся. В углу горшок, моча через край. Волосы распустила…
– Это синяя с цветами чашка? Всегда мне нравилась.
– Теперь здесь стоит на серванте. Хапают буквально все. Зверье, за пачку масла уже убивают.
– Ты заметил – в комнату напротив носят мешки с вокзала?
– Не удивляюсь. На что жить? Сын – инвалид на пособии, но ведь это копейки. Полагаю, и алкаш подворовывает – на что нынче пить, если не вор? Я вот не могу сеэе позволить каждый день. На продукты первой необходимости не хватает.
– Поди их найди. Прочесала весь микрорайон – нету сметаны.
Комната напротив.
Сын Веры Терентьевны, нездоровый человек лет сорока, нудит.
Было у меня пальто, мать справила, каракулевое, а сосед прилип: давай для жены куплю, она в шубку перешьет. А то ей ходить не в чем. И сметаны нет в нашем микрорайоне. Слушай, говорю, а я в чем ходить стану? Нет, говорит, не понимаешь ты моих проблем. Жене носить нечего. Так бы она себе шубку сшила.
И ходит злой, белый, дверями хлопает.
Хорошо бы эту зиму пережить, говорит, а как переживешь, если масла нигде нет. И холод лютый.
У тебя, говорю, денег много, иди на рынок, масло купи.
Нет у нас таких денег на рынки ходить. Я отложил за пальто тебе, а больше нет.
И опять дверью – шарах!
И жена его сидит на кухне бледная, видно, что страдает. Я как-то спросил: ты чего, Ирина, такая бледная?
А чего, говорит, радоваться, если сметаны нет в нашем микрорайоне. На люди выйти не в чем.
Я ему однажды сказал: ну хрен с тобой, забирай пальто, гони две тыщи и забирай.
Как побелеет, весь в обиду ушел.
Шестьсот рублей могу дать, это специально на твое пальто отложено.
Помилуй, друг, говорю, оно на рынке все три тыщи потянет.
А на рынки я не хожу. – И стоит весь белый, губы в ниточку и дышит тяжело.
Ну не хочешь, не бери, говорю.
Не понимаешь ты моих проблем, говорит. Ладно, пусть. И дверью – бабах! мне весь чай на колени.
Подавись, я говорю, этим пальто.
Побежал, принес – пятьсот пятьдесят. Больше, говорит, нету. На сметану вчера потратились. Войди, говорит, в мое положение.
Взял я эти чертовы деньги, одна подкладка дороже. Он пальто встряхнул, почистил у меня в комнате, на плечики повесил, жене унес.
Приходит.
А пиджак, говорит, не продашь?
Зима, говорю, холодно.
Постоял, помолчал, лицом побелел. Ну хорошо, говорит, раз ты моих проблем не хочешь знать.
Женщина из угловой комнаты.
Они ходят ко мне, но не в гости. Только чтобы вылить кружку с водой. Я не сплю и слышу, как в раковину течет вода. Нужно выспаться, потому что я все время плачу. Не понимаю отчего, я стала часто плакать. Знаете, какой веселой я была в детстве – я так смеялась, что на меня приходили смотреть соседи. Они ходили к нам в гости. Почти всю жизнь. Пока не умерли папа с мамой. А потом – соседи. Теперь не могу уснуть. Если ночью попить, то легче. Вчера в кружке осталось несколько капелек. Я сказала: не выливайте в раковину. Они вылили и мне нагрубили: у тебя мелочный характер. А у меня очень хороший характер. Ничего не нужно. Только поспать и пальто. Они бесчувственные. Я сказала: если б у меня было пальто. Понимаете, приличное пальто, чтобы ходить в гости. Как же, например, мне пойти в гости зимой. Я измотана от бессонницы, но если б я по вечерам ходила в гости, то возвращалась бы веселая и могла бы уснуть. В гостях пьют чай и много смеются. Но в гости не попадешь, если у тебя нет пальто. Мне кажется, кто-то взял мое зимнее пальто. Можно ходить в гости к соседям. Соседи ходили к нам, пока не умерли. И ходят теперь, чтобы выливать воду. Может, все это скоро кончится. Нет, не скоро.
Вера Терентьевна трет линолеум на кухне. Здесь четыре плиты, облупленные желтые стены, потолок в протечках.
– Как люди живут, так и мы живем. Под себя не ходим. Не то что эта сука из угловой. Тряпок хватилась. Нам своего некуда девать. Чужого не надо. Если кто и взял, так Иван на пропой. Порушила мужика водка, а интересный был мужчина. Припадочная-то обрыдалась. Есть такие: как совести хватает. Я говорю: ты для чего плачешь? Молодость свою вернуть? Перетопчешься. Тоже, говорят, была эффектная женщина. Одна дристня осталась.
У себя в комнате Иван ворочается, расползаясь на полу, как оттаявшая мороженная рыба.
– Сосед, – рычит он, – сосед.
Его снова рвет. Всю ночь он мается, воет, не находя покоя. Утром ему, больному и мутному, выговаривают:
– Мы всю ночь из-за тебя не спали, Ваня.
– А я спал?!
Он и впрямь не спал. Ночью Иван стащил-таки пальто у Поносовых. Таким образом пальто в короткий срок сменило четырех хозяев.
Впрочем, и жиличка из угловой комнаты в свое время прихватила его у родной сестры. Взяла поносить да не отдала. Та и померла. Дело прошлое. Как и синяя с цветами чашка, неловко похищенная Поносовым, была в свое время взята у подруги, вместе с мужем. Муж, правда, не пошел впрок, не зажился.
И что теперь говорить, когда всякая жизнь перекручена на свой манер и если есть что схожее – так это смерть на безлюдье, когда только краденое напоминает о других.
Морфология пустыря
Мой друг Добрынин, как и я абориген коптевских окраин, пересказал мне с чужих слов эту историю двадцать два года назад.
В ту пору мы выпускали школьную газету «Красный лапоть». Мы не старались символизировать окружающее. Понятия были реальными: нож, стакан, свинчатка, портвейн, мент. Вещь была вещью и не нуждалась в идеальном выражении.
Платоновская теория показалась бы нам фальшивой.
Я часто замечал, что после домашних бесед мы выходили на улицу и даже друг с другом (не то что в компании) заговаривали на ином, грубом языке. Нас, казалось бы, мало что связывало с уличными парнями, но существовал язык места, более властный, нежели привязанности. Хотели или не хотели, на пустыре мы говорили на языке пустыря.
Вот история, в тройном пересказе, почти четверть века спустя. Я расскажу ее своими словами.
Это история распри корифея коптевского мира Хряпова и преподавателя вечерней школы Сичкина.
Хряпова боялись все, хотя он, кажется, никогда не убивал и даже не дрался. Он был крупен, тяжел, двигался медленно, держа руки в карманах. Ходил один, но какая-то компания за его спиной чувствовалась.
Было нечто в его взгляде, неприятно определяющее значение человека. По словам рассказчика, «он глядел на других, как на глину для лепки событий».
Работал он грузчиком и раз в неделю лениво хаживал в вечернюю школу. Смешной закон тех лет внедрял поголовную грамотность. Взрослых людей, расположенных провести время иначе, гнали на вечерние занятия.
Сичкин, преподававший историю КПСС, отдавал себе отчет в том, что должен себя поставить особым образом в подобном классе. Легко быть авторитетом среди первоклассников, здесь – попробуй. Он ненавидел школу, ему отвратительно было место, он презирал плебейский район. Он смеялся и над собственным предметом, но разумно полагал, что просвещение – хоть какое – быдлу необходимо.
Он был энергичен. По утрам занимался йогой, подолгу застывая в разных позах. Старушки, проходя мимо окон его квартиры, шарахались, видя обнаженного Сичкина, стоявшего на голове. Незатворенное окно позволяло видеть его всего, исключая лишь плечи да голову. Даже знай Сичкин о производимом эффекте, он не стал бы закрывать окно.
Придя в класс, где на него равнодушно смотрели сорокалетние алкоголики, где пахло спиртным, а на задних партах курили, Сичкин повел себя резко.
Он сел верхом на стул, минут пять глядел в зал с тем же лениво-презрительным выражением, что и зал на него. Затем, уперев взгляд в тяжелые глаза Хряпова (тот сидел на первой парте), Сичкин сказал; «Что смотришь, дурак? Все равно не знаешь, что такое диалектика».
Хряпов не ответил, только прикрыл веки.
Раза два или три еще учитель впрямую оскорблял Хряпова, инстинктивно чувствуя, что тот лидер, и надо сломить именно его. Он откровенно сомневался в его умственных способностях и однажды спросил, не удивительно ли самому Хряпову, что тот такой болван. Впервые Хряпов ответил, но невразумительно.
– С тех пор как брат с топором полез, уже мало чему удивляюсь.
Было неясно, на кого полез брат и в каком смысле полез, и если на Хряпова, то что с этим братом сталось, и вообще какое отношение имеет эта некрасивая история к истории партии.
Частная жизнь учителя меж тем протекала в занятиях йогой и в самосовершенствовании. Новая разученная им индийская поза едва не вызвала панику в микрорайоне. Задержав дыхание, Сичкин вытянулся на парковой скамейке, точно мертвый.
Сгрудились старушки. Запричитали. Засуетились. Не дышит! Сердце! Отойдите, не давите! Пелагея вот так померла! Врача! Прохожие стали вызванивать «скорую».
Сичкин десять положенных минут лежал не шевелясь, не прислушиваясь особенно к крикам.
Потом встал и ушел спортивной походкой.
Прохожие остолбенели. Одним из зрителей был Хряпов.
Некоторое время спустя, когда Сичкин на той же скамейке лег в ту же позу, история повторилась.
– Преставился?
– Сердце.
Хряпов, раздвинув толпу, приблизился.
– Все что ль? – поинтересовался он.
Старушки закивали.
– Ничего, стало быть, не поправишь, – и с этими словами Хряпов сел учителю на голову. Весил он килограммов сто.
Толпа ахнула, когда тело Сичкина забилось на скамье. Оно выгибалось дугой, учитель дергал руками и ногами, силился освободиться, но голова его намертво была примята задницей Хряпова.
Прошло несколько минут, пока сообразили, что это убийство.
Учитель загребал руками воздух, крючил пальцы, колотил каблуками.
Жизнь покидала его.
Хряпов достал папиросу, размял, чиркнул спичкой, поглядел вдаль, щурясь на дым.
– Милицию, милицию! – Кинулись звонить в милицию.
Счет пошел на мгновения: милиция редко торопится, а жить Сичкину оставалось недолго.
Толпа подалась назад, почуяв в Хряпове убийцу.
Стояли кольцом вокруг скамейки, наблюдая за последними содроганиями учителя.
Хряпов курил.
Патруль успел. Из переулка вырулила машина, трое кинулись к Хряпову. Тот легко отстранил их и встал.
– Жив еще, – заметил он, – весь зад мне искусал, крысенок.
Синелицего учителя увезли.
Хряпову дали срок. Образования он так и не получил.
Сичкин выжил. По слухам, он отказался от индийской гимнастики и перешел в православие.
Напоследок нелишне заметить, что поступок Хряпова не был протестом против истории КПСС.
Уж это-то ему было безразлично.
Нечто о вранье
Да черт с ними, с иностранцами, хоть и не будь их вовсе. Почему им-то врут, понятно. Им врут, чтоб показаться пообиженнее. Но себе, себе-то зачем?
И хоть бы врали про себя что-нибудь хорошее. Ведь врет, чтоб показаться еще большим мерзавцем, чем есть. Сам – ординарное ничтожество, а изображает из ряда вон выходящего негодяя. Сам – пустейший ноль, а представляется отвратительным злодеем.
Никогда ведь алкоголик не скажет: да, я – алкаш, выпил стакан и с копыт. Нет, он расскажет: взяли сначала три литра белой, потом портвею по две на рыло, потом поехали к Жопкиным добирать, коньяк выпили, секретер распотрошили, хрусталь загнали и пошли у таксистов еще три пузыря взяли. Вся эта некрасивая история – вранье. Потому что сломались после первой бутылки. А будь правдой – ну чего же в ней хорошего? А слушаем – и умиляемся. Крепкий народ.
Представься кто заурядным карьеристом без заслуг – грош ему цена в наших глазах. А приврет, что наворовал миллионы, на казенной машине старушку сшиб, с банкетов не вылазит, корешится с министрами, парится в бане с депутатами, словом, ведет жизнь, достойную презрения – да, слушая такое, хочется привстать – все же человек незаурядный.
Разве скажет какая женщина, сменив двадцать пять мужиков, что это она от распутства? Нет, скажет, от чувств, от жизненных противоречий, оттого, что страдала. И вот это-то свидетельство морального слабоумия воспринимается с уважением. Жизнь. Чувства.
Да скажет ли какой политик, что он облапошил союзников, переметнулся в другой лагерь – чтоб выжить? Нет, объявит, что прозрел, в восемьдесят лет понял, что Бога нет, или, наоборот, крестился. И не кричим: «Дегенерат! Так, значит, все, что ты за эти годы напортачил, – впустую?! Да поди удавись от стыда, скотина!» Нет, мы вместо того восхищаемся, что в его голову приходят убеждения – те или иные.
И от президента до бомжа – любой – норовит так приврать, чтобы выставиться еще более дрянным, нежели он природно дрянен от лени и пустоты. Потому что мы ценим размеры мерзости. И особенно ее неповторимость.
Воплощенной правды или неправды нет: есть два зеркала, поставленных друг против друга. Странно было бы одно из отражений объявить объективным. Практически не имеет значения, что находится между зеркалами: земля, страна, народ, воровство, юродство – многократные повторения сведут на нет любую данность. Сама по себе жизнь неинтересна. Хрен с ней. Она дробится на пустяки тем быстрее, чем активнее ее выразители. А меж ними – борьба! Больше прав присваивает власть – значит, больше правды приходится на оппозицию.
Русское присловье «ни то ни се» есть точное географическое указание места. Это здесь мы живем – между ними: между Востоком и Западом, между администрацией и диссидентами, западниками и славянофилами, демократами и патриотами.
И когда русский человек из рядового ничтожества заявляет права на статус исключительного подонка – это значит, он решил вырваться из коридора раздробленных образов, где бесконечно мельчится его уродство – и мы ценим его за прыть. Этот сможет!
Он еще рванет на простор, развернется во всю свою ширь.
Он еще возьмет три бутылки спирта, отправит тридцать тысяч курьеров, сменит шесть убеждений и захлебнется в моральных страданиях.
Он еще раздвинет полюса и перешагнет границы; он еще отставит зеркала так далеко друг от друга, чтобы не испытывать унижений, глядя на свои отражения. Ибо только на просторах империи, где товарные составы никогда не кончаются и от губернии до губернии загоняют лошадь, можно позабыть о своем убожестве.
История, рассказанная ниже, случилась на излете брежневского времени, когда официальная догма уже не ярилась, как некогда, но была еще в силе, выпускала иногда когти, норовя ухватить кого подиссидентистей.
Непризнанного, но модного живописца Жбанова вызвали в секретариат Союза художников СССР. По тем временам – событие.
Жбанов был оппозиционер с типичной для тех лет биографией: родился в Кривом Роге, поступил в Московский текстильный институт, женился на москвичке, получил прописку, развелся, жил на чердаке в мастерской, ради заработка сочинял платья для жен дипломатов.
Но известен был прежде всего как смелый новатор, поборник бескомпромиссного творчества, приверженец романтического концептуализма, принципов дискурсивного мышления.
Кое-какие его работы уже были подпольно завезены на Запад.
Переступив порог секретарского кабинета, Жбанов встретился с одиозной фигурой, жупелом соцреализма, гонителем всего нового – академиком Врюкало. Между ними состоялся следующий диалог.
– Мы вот позвали тебя, – сказал Врюкало, шамкая и глядя куда угодно, только не на собеседника, – чтоб сделать предложение. Художник ты мыслящий, поймешь. Близится годовщина нашей братской помощи Чехословакии в шестьдесят восьмом году. Надо бы это дело запечатлеть. Только, понимаешь, не квадратиками да шариками, как ты любишь, а с душой. Посоветовались, думаем, справишься. Я уж эту картину даже вижу – вот этак дорога, эдак наши «бэтээры» идут, по обочинам чешские крестьяне… руки… лица… цветы… Не бывал в Праге? Красивый город.
Жбанов потемнел. Его хотели купить, да как грубо, как вульгарно. Еще бы! После того, как его имя прогремело на венецианском биенале. После того, как миллионер Херст купил его картину. Вот когда он понадобился Родине.
– Договорчик составим, – шамкал Врюкало, – аванс получишь… рублей семьсот… или шестьсот… или пятьсот… к сентябрю напишешь… так и порешим…
Жбанов сказал короткий, но яркий спич. Он упомянул свободу совести, двоемыслие и поставил кое-какие точки над i в вопросе деятельности КГБ в Союзе художников.
Повернулся и вышел.
Выпил три рюмки коньяка в секретарском буфете, схватил такси и уже через десять минут был в мастерской.
Еще через полчаса компания свободомыслящих художников обсуждала новый демарш комитетчиков.
– Ты так ему прямо и сказал? Этими словами? – переспрашивал новообращенный авангардист Ползунков.
Размякший от коньяка Жбанов подтверждал. Ползунков кипел:
– Так прямо и сказал? Взял и сказал? Вот как с ними надо говорить! В лицо! Наотмашь!
Кулаки стучали по столу, лица багровели, коньяк плескался в стаканах.
Расходились за полночь, бранясь, готовясь к борьбе.
Прошло полгода.
На очередной выставке Жбанов увидел холст молодого Ползункова. Картина изображала советского солдата, защищающего Собор Св. Витта от черной тучи, ползущей с запада. Солдат одной рукой придерживал автомат, другой отгонял облако.
Назавтра состоялся разговор с Ползунковым.
– Я думаю, что ты-то поймешь, – сказал Ползунков. – Другим это может показаться карьеризмом, соглашательством. А тебе хочу объяснить. Для меня это глубоко личное, если хочешь, связанное с историей семьи… Мой отец воевал в Праге в сорок пятом… Если совсем честно, эта картина посвящена отцу, памяти отца…
Жбанов плюнул и отошел. «Ну что за говнюк, – думал он, – что за мелкий пакостник. И отца зачем-то приплел. Захотелось жопу полизать – ну лижи! Захотелось подзаработать, ну не верти, скажи как есть. Говнюк».
На этом история, собственно, и кончается. Уточнения ради остается добавить немногое.
Первое. Даже захоти Жбанов написать эту чудовищную картину, он бы не смог: он никогда не умел рисовать – только квадратики.
Второе. Жбанов вполне мог позволить себе отказаться от этого гнусного заказа: жены дипломатов платили втрое больше за свои платья.
Третье. С годами Ползунков стал известным авангардистом и прославился свободолюбием. Он живет в Дюссельдорфе. Миллионер Херст покупает его наряду со Жбановым.
Только картины Жбанова висят у него в оранжерее, а Ползунков – в бассейне.
Вполсилы
Разговорились. Один сказал:
Витек вчера заартачился – не будет он из горла. Где стакан взять? Покричали Мишку с третьего этажа. Он стакан и скинул. Мы пальто внизу растянули, да Мишка промахнулся – и Витьку в лобешник. Полстакана отбилось, а донышко цело. Витек встал, кровищу обтер. Стакашок мы сполоснули, колотый, конечно, но пить можно. Все не из горла – культурно.
Алексеич возразил:
Знаешь, по-разному выходит. У меня вот зять – оригинальный мужик. Тестя съел. Не меня, конечно, другого. Он на Варьке был женат, продавщице. В красном доме жили. А тесть у него попался – говноед. Гноил, гноил парня и довел. Три дня его Колька ел на балконе, пока тот тухнуть не стал. Варька с дочкой в пансионате отдыхали в Подлипках. Вернулась, конечно, шум подняла. По «дури» еле отмазался. Щас с моей дочкой живет. Нормальный мужик. Квасим вместе. Варька, та, конечно, мимо ходит, не здоровается. Нос дерет.
Встрял Василий Васильевич:
Как еще бывает? Пришел, смотрю, братан отца поджег. Он мне, значит, после рассказал, как дело было. Старик, отец, стало быть, на его Нюрку залез, а как братан его стягивать стал, тот на него, и с ножом. Хорошо, у братана канистра с бензином в руке – плеснул тому в харю да на плиту толкнул. Старик-то и занялся. Как свеча сгорел. Еле костей на гроб собрали.
Семен поддержал:
Вот, допустим, Латвия отделилась. Куда отделилась? Ну куда она денется? Далеко все равно не уйдешь. Там полстраны, считай, наши. Они пусть своих стрелков латышских обучают. Пусть. Караулы пусть ставят. Нехай ставят. Границу провели. Веди! Веди! Надо будет, мужики всех в один день порежут. А стакан нальешь – еще быстрее. С ними ведь как, с латышами? У меня кореш в общаге с вьетнамцами жил. Считай то же самое. Он один, как выпьет, шесть витаминов на раз вырубал. Те озлились – монгола привели. Здоровый хрен, Хуякт звали. Так он этому Хуякту голову дверью прищемил. Ну знаешь, как кошек давят. У того позвонки-то и захрустели. Пока в Склифосовского доехали, башка и отвалилась.
Сергей Спиридонович заметил:
Теперь так. Что надо было? Слабину в Кабуле не надо было давать. Баловались напалмом – курям на смех. Рвать надо скалы, проутюжить страну, с землей сравнять. Все почему? У америкашек тактике учились. А у этих пидоров у самих полный развал. Стреляют ни к черту – ни Рейгана, ни папу римского укокошить не могут. В голову метят, попасть не могут. В живот надо весь магазин захреначить, чтобы кишки полезли. Так нет. Не могут. Да засади ты ему в поддыхало – его до больницы не довезут. Нет, ты взялся – так делай! Уж папу этого сам Бог велел отоварить. Его ведь, кабысдоха, подтяжкой удавить, как два пальца описать.
Вячеслав Гаврилович Постников покивал:
Петлю враз тоже не затянешь. Как под Курском – стратегия нужна. Здесь ведь что интересно? Развивать страну, скажем, на Запад или на Восток. Европа – тупик. Три перехода – и вода. Это так говорится только: Берлин, Прага, Краков. Взять Второй Белорусский фронт, армия маршала Рыбалко. Три часа от Потсдама – и Чехословакия свободна. Что дальше? Бесперспективный вектор. Нет, нам торопиться нечего. Мы с мужиками подождем китайцев – и не спеша, с плеточкой пойдем. А тут с Тахирчиком зашли похмеляться в церковь, к отцу Варсонофию. В пост, говорит, пей что хошь, а в страстную от портвею желательно воздержаться – только белую. Выходим, и этот недоделанный, которого из петли снимали, навстречу. Увидел нас – хлебало раскрыл. Я по-дружески говорю: чего хлебало раззявил, гондон? Мы тебя прошлый раз вполсилы повесили. Потерпи, завтра до конца удавлю. Как дернул от нас по улице. А куда убежит? Местный. Всегда под рукой.
Апокалипсис марионеток