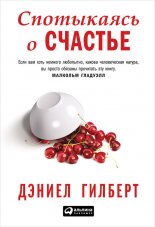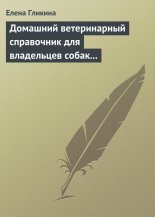Совок и веник (сборник) Кантор Максим

Прежде всего думаю, разумеется, об отце и об Александре Зиновьеве.
Зиновьев написал свою великую книгу «Зияющие высоты» в семьдесят шестом году, а это был такой глухой нехороший год, когда казалось, что уже ничего никогда не будет сказано. Уже выслали Солженицына, уже интеллигенция смирилась с тем, что надо говорить эзоповым языком, уже выработалась комфортно-трусливая этика поведения, и было так беспросветно тошно, так отчаянно мерзко – ну прямо как сейчас, в эпоху благополучия и всеобщего салонного счастья. И ничего – буквально ничего – не вселяло ни надежды, ни храбрости, ни гордости. Где он, храбрец, который скажет правду, где этот Галахед, где этот камикадзе? – так ведь нет никого. Дураков нет, высовываться не хотят. Катится себе жизнь, и всякий день надо прожить, и мелкий расчет малых дел отменяет все мысли о правде, благородстве, достоинстве. Надо льстить Иван Иванычу, надо дружить с Пал Палычем, надо ежечасно принимать всю эту гадость, жрать ее большими ложками и утешать себя тем, что ты еще не самый подлый из подлецов – бывают и поподлей. И вдруг немолодой человек – а Зиновьеву было крепко за пятьдесят – взял и написал отчаянно смелый роман, такой беспредельно смелый, что Оруэлл и Солженицын показались лакировщиками действительности. Он написал свою книгу, я думаю, потому, что его жег стыд – за общественную трусость, за круговую поруку соглашательства, за мягкое, постепенное предательство идеалов, за ежедневное вранье – одним словом, за все то, чего мы сегодня давно уже не стыдимся. Жмем руки взяточникам, прохвостам, ворам, убийцам и спекулянтам – и ничего, привыкли; это же в рамках цивилизованного прогресса, рыночной демократии, таковы правила, и что уж тут поделать. А то, что «рыночная демократия» – это совсем нехорошо, про это не очень даже и думается. Привыкли – и скажи нам кто, что это дурно, что наша жизнь – помойка, мы обидимся на этого человека. Вот и тогда тоже уже вполне привыкли, люди легко приспосабливаются к дряни, ими вообще удобно управлять. Все привыкли – кроме Зиновьева. То был неукротимый человек – гордость России.
Жизнь его много и больно била, но он был наделен какой-то непримиримой жизненной силой, упорной живучестью сломанного дерева, которое прорастает несмотря ни на что. Казалось: вот – все уже, добили, сломали. Стар, осмеян, отодвинут молодыми пролазами. Нет, он встает и говорит, и так, как может сказать он, не скажет никто.
Таким же несгибаемым был мой отец – и когда я пишу свой кривой тополь, я думаю о своем прекрасном отце, как он мелкими, спотыкающимися шагами шел к столу, работать. С разорванным сердцем, со сломанной ногой, дряхлый старик доходил до стола и распрямлялся – надо было успеть сказать о главном: объяснить смысл истории. Он писал холодными негнущимися пальцами, работал до самой смерти.
Идея упорного роста дерева (как и идея движения истории) – не связана с природными законами, она превосходит законы биологии (как идея истории не связана с социально-культурными законами). Дерево растет несмотря ни на что, и история движется несмотря ни на что, как бы ее ни отменяли, как бы ни останавливали. Пройдет и это скучное салонное время, пройдет этот постыдный период. Думаете, салонная рыночная помойка – навсегда? Ошибаетесь. Сгинет без следа. Останутся усилия отца и Александра Зиновьева, останется упорство несгибаемых людей.
Я желаю единственного будущего своим картинам – оставить свидетельство об этих людях и их работе.
Закон объятий
Бургундские художники (Ганс Мемлинг и Рогир Ван дер Вейден прежде всего) в «Снятиях с креста» изображают слияние двух лиц в одно; мертвое лицо соприкасается с живым – получается странный, но безусловно цельный образ. Щека Богоматери вдавлена в мертвую щеку Спасителя, настолько плотно вжата, что одна и та же линия рисует контур обоих лиц. Розовая прозрачная кожа Мадонны и желтый пергамент мертвой кожи Христа сливаются в единый образ; вдруг мы видим – это единый лик, разделенный пополам смертной чертой, это единая суть, нерасторжимая даже конкретными обстоятельствами смерти.
Речь, по сути, идет о том, как в искусстве образуется нечто такое, что больше непосредственного предмета изображения, что не описывается только формой предмета. Тот же вопрос, что и бургундцы, решал Сезанн, вплавляя предмет в предмет. Его мучительный метод рисования объясним в первую очередь тем, что он тщился передать, как одно тело входит в другое, как объем перетекает в объем – вопреки законам физики. У предмета есть граница (в случае бургундского портрета – это контур лица, в случае Сезанна – это край яблока), однако предмет соединен с другим предметом неразрывно; мы ведь это чувствуем. Мы осознаем, что есть невидимые нити, протянутые от яблока к яблоку: Предметы разнесены в пространстве, тела во времени, но они все живут одномоментно в истории и нашем сознании – как передать эту явную для сознания, невидимую для физического зрения скрепу бытия? Как передать общее единение? Закон связи вещей – есть то главное, что выражает искусство рисования, и всякое время дает данному закону свое имя: эпоха Возрождения называла этот закон правилами перспективы, средневековая традиция – христианской любовью. Важно то, что, однажды обретенный, этот закон делается скрепой всего того мира, который изображает художник – лист прижимается к листу и травинка льнет к травинке по тем же законам, что щека Богоматери вдавлена в щеку ее мертвого сына.
Я часто рисовал нас вместе с отцом, щека к щеке – это не придуманная поза, мой папа действительно часто обнимал меня. И вот, изображая это объятие, я думал, что рисую такое уникальное существо, которое невозможно разделить, и даже смерть не разрушит этот союз. «Вам от меня себя не отделить, как пополам себя не разделить», – говорит герой Шекспира отцу – вот и я говорил этими же словами. Я полагал, что пишу уникальную историю наших отношений с папой, в крайнем случае это метафора отношений отца и сына вообще; видит Бог, отношения Отца и Сына – есть одна из главных метафор в искусстве. Я написал десятки холстов про наши отношения с отцом – мне все казалось, что я недостаточно точно объяснился в любви. И неожиданно для себя я увидел, что цвета и линии, найденные в холстах, посвященных отцу, переходят в другие – никак с папой не связанные. Поскольку я действительно очень сильно любил отца и в его портретах не мог бы слукавить, это действительно было выражением любви; поскольку я действительно чувствую то, что изображаю, – мне повезло описать универсальное правило. Я вдруг увидел, что описываю определенный закон обнимания. Этот закон распространяется не только на родственников и влюбленных, но и на дома, на деревья, на дворовых собак.
В случае, когда художник нащупывает кистью этот не вполне поддающийся объяснению закон единства, – он уже не может не применять его везде: закон этот столь же властен, как закон тяготения. Сезанн открыл его, глядя на яблоки, – но этот закон пронизал весь мир, созданный Сезанном.
Скажем, мы видим два дерева – одно ближе, другое дальше. В нашем восприятии эти деревья помещены рядом, их ветви соприкасаются, а про расстояние между деревьями мы можем забыть, мы его не видим, мы про него лишь знаем. Это метафизический вопрос, но разрешается он на холсте: мы отменяем расстояние, мы переплетаем ветки деревьев. Эту именно мысль пытался выразить Пастернак строчкой «как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет». Поставьте вместо понятия «пространство» понятие «времени» (а для живописи это нередко одно и то же), и вопрос обретет еще более пронзительный смысл. Отменяя время, поверх разлуки, вопреки смерти – существует единение людей. Да, индивидуальное сознание формует собственные границы времени и создает собственные измерения пространства – но сила любви такова, что сознание делится своими координатами с другим сознанием, отдает свое пространство другому, половинит свое время с другим.
Впервые что-то подобное я почувствовал, стоя на московской крыше с моей женой Катей. Мы глядели, как крыши перетекают одна в другую и образуют целый город – и мы словно плыли над городом, подхваченные волной крыш. Крыша, которая была домом для нас с Катей, стала на время и моей мастерской. Я приходил с этюдником, писал с крыши город. Мазок к мазку, мазок к мазку, так лепились на картине дом за домом, и серое небо обволакивало город на холсте. Москва расстилалась внизу молочно-сонная, казалось, такой каменно-сонной она и пребудет навеки.
Однажды к нам присоединился мой друг Андрей, он располагался на крыше вальяжно, приносил с собой трехлитровую банку кваса, бутерброды, раскладывал мольберт. Андрей тоже захотел написать город – но совсем иначе, чем мы. Андрей в то время принял православие и со страстью обращенного человека всматривался в пейзаж, отыскивал в бескрайнем городе купола церквей. В то время почти все церкви стояли заколоченными, вот и под нами две или три церкви были заброшены, а кресты с куполов сняты. Только у Ильи Обыденного, что в конце переулка, звонили. Андрей писал колокольню Ильи Обыденного – мне кажется, Поль Сезанн, рисующий гору Сент Виктуар, решал ту же задачу, что и Андрей, и мотив у них обоих был одинаково величественный.
Мы с Андреем написали много пейзажей, стоя на нашей волшебной крыше, но у меня не получилось написать город так, как я бы хотел. Я не сумел написать жизнь города, состоящую из многих воль и многих жизней – но единую по сути. Я не сумел – и дело не в профессиональных приемах, которыми я тогда не владел. Закон объятий невозможно выдумать – его надо пережить, а потом уже он сам войдет в плоть искусства.
Теперь, когда я уже много раз написал нас с папой, – а папы больше нет со мной; теперь, когда я вспоминаю Андрюшу, стоящего с мольбертом на ветру на крыше, – а Андрюша уже умер; теперь, когда я вспоминаю, что всякий мой двойной портрет обернулся расставанием – вот теперь я бы, пожалуй, попробовал снова рисовать город. Я хотел бы так написать бесконечный поток крыш, чтобы каждая рассказывала другой свою историю. Надо торопиться рассказать историю, потому что времени нам отпущено мало. Надо так написать наш город, чтобы отдельные судьбы сплелись в общий роман. Если не я, то кто-нибудь другой это напишет. Живопись только начинается. Это ведь очень просто – надо лишь любить то, что изображаешь, следовать закону объятий.
Экспрессионизм
Резкий мазок и нервная линия (то есть приемы, по которым принято опознавать стиль, именуемый экспрессионизмом) сделали меня экспрессионистом, а нахождение картин в германских музеях сделали немецким экспрессионистом. Обыкновенно я отвечал критикам, что помимо немецкого экспрессионизма существует также экспрессионизм русский, называл имена Павла Филонова и Натальи Гончаровой. Стилистическое сходство и впрямь есть, к тому же много русских состояли в немецкой группе «Синий всадник» – Кандинский, Явленский, Веревкина. Однако такого ответа недостаточно. Следовало бы сказать, что я в принципе не люблю экспрессионизм как особую школу и родства с этим направлением не чувствую.
Это не вопрос пристрастия, это принципиальный вопрос: о соответствии локальной школы и общего эстетического принципа. Действительно, есть определенная традиция нервного, напряженного рисования, и данная традиция укоренена в том числе в северной школе, но привязывать ее исключительно к группе лиц, работавших в Германии в 20-е годы XX века, – некорректно. Действительно, тогда немецкие экспрессионисты рисовали своим героям всклокоченные волосы, вытаращенные глаза, резкие черты лица – передавали кистью отчаянное напряжение. Но они были далеко не первыми, кто так делал. Можно вспомнить сведенные судорогой фигуры Козимо Тура, уроженца итальянской Феррары; взвихренные плащи персонажей генуэзца Маньяско, – живопись этих мастеров не менее экспрессивна, если судить по напряжению жеста. Некоторая порывистость и некоторая неряшливость отличают и немца Нольде, и представителя парижской школы Сутина, но главное не в этом. Главное, что задолго до них порывисто и страстно, крутящимися линиями рисовал Оноре Домье, а задолго до Домье – Эль Греко. Это, скорее, некое общее свойство искусства – возведенное определенной семьей художников в самостоятельный принцип.
Страстно чувствовать и громко выражать эмоции не есть прерогатива одной семьи и даже одной нации – это присуще людям вообще. Рисовать так, чтобы передать напряжение жеста и добиться выразительности за счет преувеличений – естественная потребность того, кто глубоко переживает. Если и называть данный метод работы «экспрессионистическим» (в отличие от импрессионистической трепетности например), должен сказать, люблю совсем не тех экспрессионистов, которых называют в истории искусств собственно экспрессионистами. А те, кто называется собственно экспрессионистами, для меня недостаточно экспрессивны.
Скажу проще. Я учился у Гойи и Ван Гога – их экспрессионизм меня вдохновлял, а яркие картины Нольде или Кирхнера казались поспешными и поверхностными. История понятия «экспрессионизм» иллюстрирует то, что случилось с культурой в целом: общее представление о мире заменили фрагментарным, золотой запас – бумажным рублем, выразительность глобального замысла – выразительностью жеста.
С некоторых пор в искусстве стали выделять один из компонентов ремесла, и, обособляя некоторую сноровку, именовать ее особым стилем. В сущности «фовизм» (то есть яркие сочетания открытых цветов) существовал задолго до Матисса и Вламинка; например, Питер Брейгель не хуже упомянутых авторов оперирует контрастами локальных цветов. Картины Брейгеля-старшего написаны дивными открытыми цветами, краска положена с почти плакатной откровенностью, он не хуже французов ХХ века умеет столкнуть красный и зеленый. Однако рассказ Брейгеля не исчерпывается контрастностью, а то, что говорит нам Вламинк, очень часто именно контрастностью цветов исчерпывается. Брейгель пишет контрастами – но он пишет не только контрастами, он не только об этом, он вообще хочет сказать о многом. А Вламинк – только об этом. Дальние планы и дымки Леонардо – они куда более импрессионистичны, нежели импрессионизм Моне, но, видит бог, у Леонардо еще много чего есть в запасе – а у Моне крайне мало. Экстаз Гойи или Эль Греко достигает такого накала, что никакому экспрессионисту немецкой школы не угнаться за их бешеной кистью. Но Гойя – он не только про неистовство, он еще и про рассудок, и про нежность, и про судьбу, Эль Греко – он не просто темпераментный парень, он так фанатично выражает свою веру в добро. Весьма затруднительно предположить в Людвиге Кирхнере или Отто Мюллере страсти такого масштаба – напротив, палитра страстей там чрезвычайно бедна, хотя краски истрачено много и намазано густо.
Учителями экспрессионизма (если уж оставаться в рамках этого смешного термина) для меня были Гойя и Ван Гог, Козимо Тура и Питер Брейгель, Матиас Грюневальд и Микеланджело. Я действительно нахожу, что «Пьета Ронданини» Микеланджело – чрезвычайно экспрессивное произведение, где деформации объемов подчинены замыслу, и таких искажений, передающих боль и веру одновременно, не сумели добиться ни участники группы «Мост», ни члены объединения «Синий всадник».
Сегодня, произнося слова «фовизм», «экспрессионизм», «импрессионизм». «футуризм», «кубизм», мы имеем в виду не просто группу художников, объединенных временем и обстоятельствами – нет, нам мнится, что мы говорим о специальном эстетическом течении.
Это неверно. В сущности, этими терминами (как и теми, которые возникали потом – «концептуализм» например) описываются лишь условные договоренности внутри небольшой группы заинтересованных лиц – договоренность нужна, чтобы считать выразительным и ярким некое явление, которое вне этой договоренности нуждалось бы в доработке. Скажем, трудно оспорить утверждение, что флорентиец Микеланджело Буонарроти обладал интеллектуальной концепцией, не уступающей по значению концепции московского концептуалиста Д. Пригова. Пожалуй, концепция Микеланджело значительнее – он соединил античное прошлое Европы с христианской доктриной, а ничего подобного московский мастер все же не совершил, хотя и написал забавные стихи про «милицанера». Однако концептуалистом Микеланджело не является, по той же причине, по какой Франсиско Гойя не объявлен экспрессионистом, а Винсент Ван Гог не является фовистом. Причина в том, что Микеланджело, Ван Гог, Гойя – создавали свой мир, весь, целиком, а не описывали только один фрагмент. Внутри их мира есть, разумеется, своя экспрессия, своя контрастность, свой кубизм и свой импрессионизм – но эти свойства вплавлены в общую картину мироздания.
Вычленить один компонент, как, например, «экспрессионизм» или «фовизм» и объявить его равновеликим замыслу в целом – примерно то же самое, как повару изготовить блюдо, состоящее из одной лишь приправы; соль – вещь необходимая, перец придает остроту, но отдельно их в пищу не употребляют.
Экспрессионизм – это движение, формально возникшее в десятых годах в Германии и объединяющее участников группы «Мост» и «Синий всадник», но формальные методы экспрессионизма гораздо старше. Собравшиеся вокруг Людвига Кирхнера живописцы (Нольде, Шмидт-Ротлуф, Мюлллер и другие) использовали живописные приемы, сходные с теми, которые использовали их средневековые предшественники – Маттиас Грюневальд, например, или великий скульптор Тильман Рименшнайдер. Искаженные черты лица, болезненно яркий цвет – все это есть и у Грюневальда, экстатическая жестикуляция – подлинным мастером, выразившим такую надрывную страсть, был Рименшнайдер, – но насколько же средневековые мастера интереснее и глубже потомков. В начале века с так называемым немецким экспрессионизмом произошло нечто крайне важное – анализ мира заменили декламацией, пустой риторикой. Жест сохранился, а смысл жеста – выветрился. Неожиданно немецкое искусство утратило присущую ему определенность и въедливость, цепкость к деталям, твердость черт. Экспрессионизм 20-х годов не создал картины – это всегда наброски, эскизы, стремительные поделки. Стиль стал размазанным и рыхлым – как и само сознание мастеров начала века. Порой весьма трудно определить убеждения конвенциональных «экспрессионистов» – они делают нечто яркое и пылкое, но цель их не всегда ясна. Осужденные в гитлеровской Германии, выставленные на осмеяние толпе на знаменитой выставке «дегенеративного искусства», они умудрились столь нечетко декларировать свои убеждения, что и по сию пору не вполне ясно, что же именно хотел сказать Эмиль Нольде или Пехштейн, за что их предали осмеянию. Художник Нольде нравился Гиммлеру, но он же не нравился Геббельсу; то художник вступал в ряды НСДАП, то нацисты ему запрещали рисовать – поди пойми, кто тут кого дурит. Живописные высказывания Пехштейна и вовсе размазаны настолько, что ни осудить его, ни восхищаться им равно невозможно. Это невнятная речь – и пострадать за такое невнятное высказывание глупо, поистине непонятно, за что именно мастер был гоним – за неряшливое ли рисование, за пристрастие к изображению полненьких девушек? Декларации его находятся в полном соответствии с нацистской наступательной риторикой тех лет: «Раскрошить мозг! Довести до исступления! Разрывать! Выплеснуть краску!» Впрочем, ничего особенно бескомпромиссного создано не было – поразительно, что с такими грозными намерениями мастер изображал розовый закат над провинциальной купальней или барышню, поправляющую чулок. Так же точно случилось с нашими отечественными мастерами: Зефировым, Фонвизиным, Чернецовым, которые прятали от ненавистного режима не листовки, но натюрморты с полевыми цветами. В сущности, экспрессионисты были не революционными, а крайне мещанскими художниками, и этот факт старательно затушевывается в их биографии: мы сегодня видим их как борцов с регламентом века, а они были уютными, мирными бюргерами. Изображали они не героическое – но сентиментальное, не правдивое – но яркое. Их тематика (купальни, стайки обнаженных девушек, буколические деревушки, предметы милого быта) отсылает нас не к антифашистскому сопротивлению, но к импрессионистам. Это и был немецкий извод французской мещанской морали – они даже пытались (неуклюже, как и всегда, когда немец подражает французу) воспроизводить мотивы парижских мастеров: парикмахерские, танцклассы, скачки. Там, где у Дега линия поет, у немецкого экспрессиониста линия пыхтит, но что тут поделать. Великие германские рисовальщики – Дюрер, Грюневальд, Гольбейн, Кранах – которые превосходят французов (да и вообще равных им, пожалуй, нигде и не было), уже не требовались. Их экспрессия (то есть страстное выражение определенных чувств) не требовалась, экспрессией объявили неряшливость, абстрактные эмоции. Ярко, громко, звонко – но неясно, о чем и зачем. Будет досадно, если представления об экспрессии свяжут именно с «экспрессионистами», группами живописцев ХХ века, в сущности, не особенно значительными мастерами.
Что касается меня, я всегда хотел писать именно сложные картины, и если и ориентировался порой на немецких мастеров – то на Грюневальда; прежде всего имею в виду Изенхаймский алтарь – но уж никак не на группу «Мост».
Куда ближе мне та школа, что сменила в Германии экспрессионизм – я имею в виду так называемую «Новую объективность», и прежде всего Георга Гросса, которого любил мой отец. «Новая объективность» явилась по отношению к так называемому экспрессионизму тем, чем явился постимпрессионизм (Сезанн, Ван Гог, Гоген) по отношению к импрессионизму: то есть собиранием разбросанного, восстановлением потерянного, созданием заново мира картины из ватной мещанской дымки. «Угадывается качель, недомалеваны вуали» – всякий раз Воронеж требуется, чтобы из этих вялых строк сделать трагическую поэзию. Импрессионизм и экспрессионизм (повторюсь: понятые как автономные эстетические категории, а не как свойства общей картины мира) выполнили в истории искусств разрушительную роль: они имитировали особый художественный язык, а на деле просто подменили язык жаргоном. Художники «Новой объективности» должны были заново учиться рисовать – после размашистости экспрессионистов это было непросто. К пестроте стилей ушедшего века я всегда относился как к «трейболизму», то есть к подмене цельного мироощущения племенным инстинктом. История искусства двадцатого века – это история распада цельной империи на племена и народности. Искусство рассыпалось, европейская христианская цивилизация расползалась на клочки и нитки, как ветхая простыня. И чтобы сшить ее заново, вправить веку сустав (если пользоваться выражением Гамлета), требовалось противостоять узкой стилистике. Не эксперессионистом и не концептуалистом следует быть, – но художником. Надо вернуть миру картину, как это попытался сделать однажды Сезанн. И «Новая объективность», вступившая в полемику с экспрессионизмом, интересна именно этим. Небрежность они заменили на четкость, а плакатность – на глубокий цвет. И – что естественно, если понять, что определенность линии есть определенность высказывания – картины Гросса и Дикса были совершенно ясно социально ориентированы. Здесь уже не могло возникнуть путаницы: за кого они – за буржуев с сигарами или за пролетариев с лопатами. В детстве папа показывал мне альбом Гросса «Ecce Homo», и мы подолгу разглядывали карикатуры, которые Гросс делал на банкиров и буржуев. Берлин тех лет крайне напоминает сегодняшнюю Москву, типажи угадываются – тогда, при социализме, во времена брежневского маразма, лица у чиновников были иные. Впрочем, это я почувствовал уже позднее, тогда мне казалось, что Гросс говорит и про нашу действительность тоже: вот эти жирные, слюнявые, со свинячьими глазками – они прямо-таки секретари обкома. В дальнейшем выяснилось, что я еще жирных тогда не видел, я еще новых русских предпринимателей не встречал, но кто же знал, кто знал!
Мы с отцом сравнивали рисунки Гросса с рисунками Домье, отец рассказывал мне о Берлине предвоенных лет, о Гроссе-коммунисте. Моя семья раскидана по миру, есть и немецкие страницы в ее биографии: дед учился во Фрайбурге, первый муж моей тетки был берлинцем, членом Коминтерна; в годы сталинизма погиб. Я ставил пластинку с песнями Эрнста Буша, немца-антифашиста, сражавшегося в Испании, читал Брехта и рассматривал Георга Гросса. Определенное влияние на меня он, безусловно, оказал. Однако главной моей темой продолжали оставаться не изображения язв общества, но портреты героев сопротивления. Мне требовалось написать мир, где свое место отстояли бы моя семья и друзья, я хотел написать не просто страшное, но сделать из страшного прекрасное и романтическое – так, как происходило в жизни. Я хотел писать саму историю, а это требует усидчивой работы, наспех такую работу не сделаешь.
Офорты
Рисовать надо внятно – так же внятно, как и говорить. Нам не понравится беседовать с человеком, у которого нарушена дикция, или с пьяным, или с тем, кто ругается матом. Однако мы охотно находим извинения для неряшливого рисунка – художник так видит. Это практически всегда неправда: художник так, разумеется, не видит – видит-то он как и все остальные граждане, просто ленивый художник разрешил себе эту небрежность, счел, что такого рода косноязычие является выразительным. Например, есть определенный сорт сравнительно образованных людей, которые в обществе ругаются матом – им представляется, что это выразительная лексика, что, нарушая приличия, употребляя грязные слова, они делаются интереснее. На самом деле это обыкновенное бытовое хамство; так же и неряшливый рисунок – есть просто неряшливый рисунок. Неумелые рисовальщики часто приводят себе в оправдание великих мастеров, рисунок которых отличается от академических образцов: Ван Гог и Сезанн, Домье и Гойя рисовали не канонически. Здесь важно понять, что упомянутые мастера не разрешали себе неточностей, напротив, их рисунки есть свидетельство невероятной въедливости и желания быть предельно точным – а то, что мы принимаем за неточности, всего лишь следствия усилий, они тщились увидеть предмет с необычного ракурса, непредвзято, оттого порой оскальзывались в линии. Ошибка Ван Гога дорогого стоит – она происходит от его повышенной требовательности к себе. Что же касается небрежного рисования Ларионова или Бойса – то такое рисование объясняется, увы, просто: они лучше рисовать не умели, но им мнилось, что их дряблая линия – это ужас как выразительно. Случись им перевести эту линию в слова, мы бы не смогли понять, о чем речь, бессвязный набор звуков, те самые крученыховские «дыр-бул-щир» мы бы и услышали. Изображенная на бумаге невнятица в двадцатом веке выдается за оригинальный рисунок – и это обидно для самого принципа рисования: рисунок – основа культуры, тот, кто не умеет рисовать, не может ни писать красками, ни создавать скульптур. Вне рисунка нет искусства в принципе, рисунок – это грамматика. Речь обязана быть ясной и чистой – но именно на этих же основаниях рисунок обязан быть точным и внятным.
Я был довольно известным художником, уже и картины мои были в музеях, а рисовать я совсем не умел, совершенно не умел. То есть немного умел, но очень неуклюже, и полагал, что такого рода неумелость есть мое оригинальное отличие от остальных. В мятежнонебрежном рисовании, говорил я себе, выражается моя мятущаяся натура – или что-то подобное этому я себе говорил. Помогало, впрочем, и то, что искусство рисования признали яко небывшим – рисовать вокруг не умел уже никто. В академических институтах штриховали гипсы, это было весьма скучное занятие, на рисование ничем не похожее, а свободолюбивые новаторы, те и кошку не смогли бы нарисовать – даже под дулом пистолета. Любимым выражением в те годы было: «Я рисую так, как это необходимо для моего искусства». И поди тут что возрази. В сущности, это утверждение равно, например, такому: «Я косноязычен, поскольку это необходимо для содержания моей речи», – но заявления прогрессивных художников, разумеется, так не трактовали. Говорили: ах, он коряво изображает нашу корявую жизнь, он рисует как курица лапой, но это нарочно, нарочно! Это он просто такой выразительный и оригинальный! Он ругается матом, проводит корявые линии, не вполне понятно, что он хочет этим сказать – одно слово: творец!
И еще появилось увлечение примитивом – городским ли примитивом, деревенским ли, но, главное, таким методом рисования, который дозволяет вместо ног рисовать палочки, вместо глаз – точки. Что хорошего в примитиве? – спрашивали иные, приверженные академизму граждане, и тут же получали ответ: непосредственность! Не догме мы следуем, не канону, но самовыражаемся, непосредственно и искренне, как дети – в этом вся соль. Так вполне искушенные цивилизацией, расчетливые люди стали подражать детскому рисунку, неумелости Пиросмани и Таможенника Руссо – и делали это, выдавая неумелость за непосредственность, а расчет – за наивность. Приобреталась такая специальная индульгенция на корявое рисование – и взрослые, солидные люди не испытывали неловкости за то, что не в силах нарисовать дерево или лицо: они же искренне, как дети, самовыражаются – «носик, ротик, огуречик, вот и вышел человечек». Вся современная так называемая «фигуративная» школа отравлена таким попустительством. Когда-то Пикассо позволил себе «рисовать как дети» – он имел в виду весьма простую, но почти недостижимую вещь: надо, подобно детям, изображать только самое главное, то, что тебя поразило. Например, в любимой женщине драгоценна ее улыбка – старик Пикассо считал, что он уже нарисовал достаточно разного, чтобы отныне рисовать лишь главное – и он рисовал одну лишь улыбку. Такой простоты, разумеется, примитивы не достигают – это всего лишь неумелость, возведенная в эстетический принцип.
Однажды я решил заняться офортом, и это дисциплинировало руку. После графических серий «Пустырь» и «Метрополис» изменилась и моя живопись; я стал учиться рисовать крайне поздно, мне было уже сорок лет. Все, что я писал до этого возраста, грешит приблизительностью, но офорт – строгая дисциплина, в этой технике невозможны незначащие линии, это занятие меняет человека, не только технику рисования. После того как занялся офортом, я смог приступить к роману. Слово, как и линия, не терпит неряшливости.
Офорт – это линия, проведенная тонкой острой иглой по медной доске, покрытой черным лаком; данная техника просто не допускает развращающей расплывчатости сепии, небрежности литографского карандаша (правда, Оноре Домье умудрялся огрызком тупого карандаша – рисовал только огрызками – проводить совершенные линии, но то был Домье).
Офорту лучше всего учиться у Рембрандта – желающие могут с пользой для себя сравнивать стадии рембрандтовских офортов. Весьма важно именно то, что мастер счел нужным добавить к уже нарисованному и что он убрал в тень. Собственно, Рембрандт проделывал со своими изображениями то же самое, что и Пикассо: сохранял лишь предельно значимое, остальное погружал во мрак; только проделывал он все это в пределах одной доски, а не шел от изображения к изображению, как испанец. Из живых мастеров офорта назову Люсьена Фройда – великого английского художника, внука Зигмунда. Он сейчас глубокий старик, но рука по-прежнему тверда, Фройд делает большие офорты, рисует крупные лица, исследует черты человека так, как геолог исследует разрез земной коры. Часто он проводит линию несколько раз по одному и тому же месту – но не оттого, что в первый раз ошибся: он лишь уточняет форму, исследует мельчайший ее поворот, он настаивает на сказанном. Так оратор возвращается к важной мысли, повторяет ее снова, чтобы услышали и запомнили. Это несколько физиологическое, оттого подчас пугающее рисование – линия столь внимательна, что не щадит ничего, никакой фотографии не под силу такая беспристрастность. Фотография, как ни странно, весьма условное искусство – она зависит от света, от объектива, от расстояния, от погоды. Нет еще такой фотографии, которая исследовала бы объект столь внимательно, как Леонардо исследовал мышцы и сухожилия. Когда говорят, что фотография заменила точный рисунок, ошибаются: фотография маскирует, а не выявляет сущность. Фотография – иллюзия, фотография – идеология, рисунок – анализ. Рисование всегда было и остается по природе своей – анализом конструкции; ничего взамен этого человечество так и не придумало.
Рисующий писатель
Тот, кто именует себя русским художником, сталкивается с болезненной проблемой – не на что опереться в прошлом. В России были прекрасные, удивительные художники – но странным образом они не особенно известны, их оттеснили модные авангардисты и салонные мастера. Лучший художник России, Петров-Водкин, совсем не известен в Европе, да и у себя на родине известен не очень. Великие русские мастера живописи (Рублев, Суриков, Петров-Водкин, Филонов) никакой внятной традиции не образуют – в отличие, например, от русской литературной традиции. А если и есть художественные школы (московский сезанизм, петербургская академичность, салон Серебряного века, авангард – выродившийся в сервильную декоративность), то это школы не великие, их питомцы ничего потрясшего мир не создали.
В России вообще пропорции в культуре немного нарушены. Опыт литературный не равен опыту философскому, опыт религиозный не влияет на опыт пластический, единого целого они не образуют. Иногда говорят: Россия – литературоцентрична. Так говорят, чтобы не сказать обидную для русского уха вещь: в России практически не было великой живописи, было крайне мало больших художников, которые ставили перед собой задачи, равновеликие задачам писателей. Россия себя слышит, но не умеет себя разглядеть. Модные художники – были в избытке, значительных, отвечающих за время, – почти что и не было.
Когда говорят, что Россия не знала Возрождения, имеют в виду отсутствие гуманистической культуры, такого комплекса знаний и умений, которые формируют культуру как цельный организм, способный воплотиться единомоментно в одной личности – наподобие того, как вся культура целиком воспроизводится в теле средневекового собора. Это крайне существенное обстоятельство – способность культуры концентрироваться в едином теле, так сказать, соответствие атома и вселенной. Всякая культура (разумеется, Россия в том числе) внутри самой себя создает адекватные ей проявления пластики и слова – но далеко не всякая культура способна сжиматься до микрокосма, способна воспроизводить себя в каждом фрагменте. Далеко не всякая культура производит свободную фигуру, соединяющую в себе философа и поэта, художника и литератора. Значение Микеланджело, объединяющего литературу, живопись, архитектуру, скульптуру и философию, не только в том, что он велик в любой дисциплине – но в том, что по нему возможно реконструировать историю в целом, он воплощает ее генетический код. Именно потому русская культура так дорожит именем Пушкина, что он – как нам сегодня хочется думать – воплощал некий генетический код русской культуры. Однако надо признать, что художника, равного Пушкину, Россия не знала.
В русской художественной практике (в отличие от западноевропейской) не сложилось единого сгустка смыслов, эйдоса, который равно порождал бы и литературу, и живопись, и социальную мысль. У нас не было художника, равного Толстому и Пушкину, не было живописца в шестидесятые годы, который повторил бы подвиг Солженицына. У испанцев рядом с Сервантесом стоит Веласкес, у французов рядом с Рабле – великий живописец Фуке, у итальянцев есть Микеланджело, но и Данте, у англичан рядом с Шекспиром – Гольбейн. И важно здесь то, что общими усилиями они делают одно дело, строят один собор. Но назовите русского художника равного – пусть не Толстому и Достоевскому – назовите мастера, современного и равного Чехову, такого просто нет. Иллюстрировавший Толстого художник Леонид Пастернак – неплох, но ничем особенно и не хорош. А вот Данте иллюстрировал Сандро Боттичелли. Известны дневники Достоевского, описывающего современные ему салоны живописи, – сегодня мы не вспомним ни одного из имен, кои казались ему значительными, а ведь он искал себе спутника среди живописцев. Мы можем представить, что персонажи Веласкеса и Эль Греко путешествовали по Кастилии вместе с Дон Кихотом – но разве кто-то сумел изобразить Пьера Безухова или Наташу Ростову? Наше изобразительное искусство все еще находится в пред-пушкинской поре, мы еще ждем, когда пластика осмелеет настолько, чтобы сравняться с литературой своим значением. Единого тела культуры нет, нет общего языка смыслов, внятного одновременно и философии, и пластике – то есть нет того, что дал западноевропейской культуре Ренессанс. Географическая и историческая централизация страны лишь усугубляют это свойство. И это большая проблема для русского искусства.
Повторюсь: способность культуры сжиматься до размеров единой судьбы, являть себя сразу всю, целиком, в одной личности – и есть характеристика гуманистической культуры. Поразительным образом в России роль того, кто представляет генетический код культуры в целом – отводилась социальному вождю, но никак не философу, не художнику. Культура готова была примириться с тем, что ее воплощает Сталин или Путин – а у Петрова-Водкина не было на это никаких полномочий. Можно возразить, сказать, что и Британию двадцатого века воплощает Черчилль, политик, но Черчилль одновременно – незаурядный писатель и художник, он потому и делегирован защищать культуру, что он ее воплощает – хорошую, плохую, лицемерную или отважную, но Черчилль выражает культуру Британии по праву.
Требуется сделать так, чтобы не полковник, не городничий, но философ и гуманист представлял культуру страны. И так произойдет лишь в одном случае, – если разрозненные, корпоративные, цеховые соображения объединятся не формулой рынка (успешен в торговле или нет), но внятной обществу эстетикой.
Для цельного тела культуры несказанно важны рисующие писатели, сочиняющие художники – и такие случаи в мире нередки. Великий Ван Гог не менее ценен как автор эстетической программы, Гюнтер Грасс – превосходный художник, не уступающий своему учителю Хартунгу, Гюго и Гофман иллюстрировали свои книги. Великолепный художник Вильям Блейк (мы его знаем как поэта) и прекрасный поэт Пикассо (известный прежде всего как художник) совмещают профессии именно потому, что для строительства целого требуется синтез. Время требовало появления людей, воплощающих всю культуру разом. Что касается Леонардо, Микеланджело и прочих деятелей итальянского Ренессанса, здесь все очевидно. Невероятно важны «Трактаты» Дюрера, «Анализ красоты» Хогарта и «Дневники» Делакруа – важны прежде всего потому, что являют нам в одной фигуре эстетическую программу времени.
В России такое бывало: философ Владимир Соловьев был поэтом, Грибоедов – музыкантом, Маяковский, я думаю, является одним из самых больших русских художников (имею в виду его Окна РОСТа). Эти случаи обязаны превратиться из исключительных – в повседневные, сделаться нормой. Именно такое единение ремесла поэта и труда рабочего – представлял Маяковский, когда говорил об идеале будущего государства. Западноевропейской культуре этот синтез необходим еще и для самосохранения – в известном смысле это вопрос выживания: всякий раз редуцированная до фрагмента, разрушенная до основания культура воспроизводит себя по одной лишь своей клетке.
В комическом варианте такое единение смыслов представил повсеместно постмодернизм, последнее из направлений европейской мысли. Концептуальное искусство, в частности, показало несложное изображение в сочетании с несложным текстом, тем самым создало ироническое, но все же, несомненно, общее поле культуры. Это необходимый опыт, уязвимым в данном случае является то, что ни изображение, ни литературный компонент концептуализма самостоятельной ценности не представляют. В единении смыслов не может быть места некачественной поделке, объединяться должны высокие образцы творчества – профанировать высокий идеал может балаганная культура, но ее существование опосредовано существованием Данте. В отсутствие же великого – смешное не в силах объединиться. Для того чтобы представлять цирк на площади, жонглеру нужна как минимум площадь, и кто-то должен эту площадь (синтез европейской культуры) создать. Рисунок должен быть исключительно прекрасен, а текст необыкновенно хорош, чтобы их соединение имело смысл. Иначе говоря, системообразующим в понятии эйдоса может выступить лишь высокая мораль, общественная справедливость, религиозный идеал, или, по Платону, – благо.
В былые годы в России роль некоего общего языка, универсального синтеза играла мораль так называемой русской интеллигенции. Деятельность художника, творчество поэта – все соотносилось с этой непроговариваемой, но всем очевидной моралью. Позиция интеллигента, образованного, непродажного, порядочного человека, a priori чуждого расчету и не лебезящего перед начальством, всегда была в России мерой искусства. Сегодня, когда само понятие «интеллигенция» размылилось, а интеллигенты превратились в менеджеров среднего звена, этой скрепы более не существует. Российское искусство требуется создавать заново.
Современное искусство
На излете брежневских времен с независимым (подставьте любое другое слово: опальным, протестным, альтернативным, авангардным) искусством стали происходить диковинные вещи. Оно как-то внезапно переродилось.
С так называемым андеграундом произошло то же самое, что со всей русской интеллигенцией в целом: мещанство, понятое как основа цивилизации, постепенно стало вытеснять революционное диссидентское сознание. Вдруг – само собой, никто к этому не принуждал – сделалось всем понятно: глупо быть бунтарем, надо быть участником современного художественного процесса, а у этого процесса есть своя логика, в нем есть законы, стратегия. Бунтари-одиночки, изгои по типу Модильяни, сами собой перевелись, их заменили аккуратные, обеспеченные, социально адаптированные люди. Они тоже называли себя бунтарями, говорили, что их преследует власть, но были сыты, здоровы, хладнокровны, социально адаптированы. И что главное, они не стремились ни к одиночеству, ни к конфликту с властью. Со временем сделалось понятно: бунтарю в изобразительном искусстве делать нечего – «Свободу на баррикадах», что ли, писать? То есть новые художники по старинке именовали себя бунтарями и нонконформистами, но это уже был качественно иной бунт, и личность оппозиционера изменилась. Никто уже не собирался жертвовать собой, писать «правду», создавать «архипелаги ГУЛАГи», у закатной советской эпохи были совсем иные творцы.
На месте художника-бунтаря появился хитрый мещанин, аккуратно выполняющий социальный заказ, но одновременно вынашивающий планы прорыва в западное искусство. Не правды алкал новый нонконформист, но признания рынка. Разница между новым нонконформистом и нонконформистом старого образца была вопиющей. Прежде художник-бунтарь не мог сотрудничать с советской властью, у него органически не получалось. Он умел рисовать только так, как чувствовал и думал, а подделаться под рисование советское – не мог. Легко показать этот феномен на примере писателя. Скажем, Булгаков может писать только так, как Булгаков, а когда пытается написать пьесу «Батум» про Сталина и говорить не своим голосом, получается фальшиво, и всем это видно. Настоящий художник может говорить только на собственном языке, он не умеет говорить на языке заемном. Если язык художника был неугоден власти – художник попадал в опалу. Нечего и говорить, что такой тип художника к жизни неприспособлен. Новые нонконформисты учли уроки – они не желали попасть под удар власти.
Тактические ошибки опальных мастеров были очевидны – если власть не признает отходов от своего рисовального канона, то и отходить от этих канонов не обязательно. Власть не признает самостоятельного художественного языка – значит, надо автономный язык попросту отменить. Надо власть перехитрить. Надо с самого начала говорить фальшиво, тогда фальши никто и не заметит. Эта стратегия – во всяком случае, так казалось тогда – соответствовала модному в то время на Западе течению постмодерна.
Особенность художника нового типа состояла в том, что его язык был по определению анонимен. Он совсем не умел рисовать и даже не собирался, – а значит, никто не мог бы его упрекнуть в том, что он рисует не так, как надо власти. Творцы создавали анонимную продукцию – годилась для картинок в советских журналах, а если поглядеть под другим углом, была на диво дерзкой. Постепенно этот мещанский кружок сплотился, оформил свои взгляды в наукообразной риторике, составил конкуренцию былому андеграунду – и победил. Прежде всего разительно изменился самый тип художника. Исчезли привычные для московских подпольных мастерских хмельная бравада и нищета, исчезли небритые пьяницы. Появились уравновешенные люди, опытные в беседах. Они не умели рисовать, но умели показать, что не умеют рисовать нарочно, это даже такая специальная миссия. Они демонстрировали опусы гордо, упирая на то, что сознательно делают их серыми, неряшливыми и противными, раз действительность сера и противна, и рисование уже невозможно. Этот кружок и этот образ мышления стали называть «вторым авангардом». Особенность его состояла в анонимности художественного языка. Никто из них не хотел говорить по-своему, но все хотели говорить по-современному.
Они все были какие-то одинаковые и одинаково неискренние. Нет, даже не так. Они все были значительными и прекрасными внутри своего кружка, а выйдя за пределы кружка, делались абсолютно незаметными; у них не было никаких ярко выраженных свойств – абсолютная и вопиющая серость. Каждый по отдельности – ноль, но вместе – грозная сила современного мышления. Они соткали такую среду, где их неумение выдавалось за умение. Словом, это был такой Советский Союз в миниатюре, все держалось на круговой поруке. «Я не умею рисовать, но ты называешь меня гениальным художником, потому что я выражаю твои мысли, хотя у тебя и нет мыслей». Такая многоступенчатая абракадабра. Когда к этой цепочке договоренностей добавились мнения западных кураторов, галеристов, аукционистов и богачей – неуязвимость позиций современного искусства сделалась полной. Никто уже не поминал, что точно такой же принцип круговой поруки властвовал и в советском искусстве, в рамках соцреализма. Считалось: в случае соцреализма круговая порука была порочной и лживой – а в случае современного рыночного искусства круговая порука выражает объективную истину.
Все эти концептуалисты слиплись в моем представлении в одно бесполое существо «кабаковпивоваровчуйковбулатов», это существо было похоже на настырную сороконожку, оно проползало в каждую щель, шевелило лапками, у него был липкий животик. Странное такое существо, мохнатенькое, зеленоватое. Рисовать никто из них совсем не умел, они все обладали навыками книжных иллюстраторов, причем иллюстраторов манерных и всеядных. Требовалось изобразить вождя и пионерскую линейку – так почему не изобразить? Оформляли книжки про пионеров и октябрят, на заказ рисовали для живописного комбината портреты вождей – и тут же, не меняя палитры, переключались на свое, сокровенное. Этим же именно умением, этими дряблыми линиями они рисовали свои концептуальные поделки. Впрочем, их зрители были столь же неискушенными людьми, как и сами художники – отличить хорошее рисование от плохого не могли, и мещане чувствовали себя в безопасности. Если же кто-то и говорил им: вы плохо рисуете, они отвечали: а мы нарочно плохо рисуем, потому что жизнь такая. Мы рисуем адекватно времени, в этом состоит свидетельство и концепция. Они были все какими-то удивительными пролазами, и главное, отличить одного концептуалиста от другого было абсолютно невозможно. Ну да, один ростом пониже, другой повыше – но этим различия, в сущности, и исчерпывались. (Позднее добавилось: удачливее – неудачливее, продажнее – непродажнее, но все-таки принципиальных отличий не обнаружилось.)
Произошло нечто очень странное, заслуживающее анализа не столько искусствоведческого, сколько философского. В истории искусств оппозиционное искусство от искусства официального всегда отличалась – искренностью. Как могло быть иначе? Официоз пользуется штампами, врет, дает лживую информацию, одним словом, официальное – это неискреннее. А неофициальное – это правдивое, отчаянно смелое, когда режут правду в глаза, когда рукописи не горят, это очень-очень личное, выстраданное, единственно возможное. Искреннее, потому и опасное для подлой власти. А тут вдруг вышло, что неофициальное искусство тоже весьма неискреннее. И многие даже растерялись.
Они говорили так. Вот, скажем, было официальное искусство Третьего рейха – а ему противостоял Бертольд Брехт. Это ведь совершенно разные позиции, и, соответственно, разные художественные средства. Во Франции XIX века были приняты лощеные изображения фасада жизни; но вот пришел Ван Гог и стал писать искренне, то есть оппозиционно парадному стилю. Или, скажем, Павел Филонов. Или Сезанн. Или Гойя. Они потому стали самими собой, что заговорили на собственном, незаемном языке, отвергнув язык салона. Это же понятно, это просто. А сегодня что получается? Соцреалистический академик рисует предельно фальшиво – и его идейный противник, художник оппозиционный, тоже рисует предельно фальшиво. Один не старается – так ведь и другой тоже не старается.
Мой друг, Андрей Цедрик недоумевал, как так может быть, что плохо нарисованная, фальшивая сцена – принадлежит официальному искусству, и точно так же плохо нарисованная, тоже фальшивая сцена – принадлежит искусству неофициальному. Ведь и то, и другое нарисовано неискренне, без души – в чем же оппозиция? Тут было от чего растеряться. Умственные люди ему объясняли: в одном случае фальшь не осознает себя фальшью, а в другом осознает. Вот эта самая рефлексия и отличает официальное от неофициального. То есть, недоумевал мой друг, если человек подлец и не знает этого, он более подл, чем тот, кто является подлецом нарочно? Ах, нет, говорили ему, ты ничего не понял. И ему пересказывали новеллу Борхеса «Пьер Менар, автор Дон Кихота», и прочее в том же духе.
Постепенно получилось так, что понятие искренности (а соответственно, и особого художественного языка, который по определению явление первичное, то есть искреннее) было из искусства удалено вовсе. Официальному искусству данное свойство не присуще, но и оппозиция с ним распрощалась. Помимо прочего, это имело еще и моральные последствия: люди развивали в себе неискренность и одновременно представляли новаторское искусство, оттого профессия художника вовсе утратила социальное значение. Отныне художник мог быть только успешным функционером рынка – но никто не ждал, что появится художник, который ответит за время, напишет «Расстрел 3-го мая» как Гойя, или «Смерть комиссара» как Петров-Водкин.
Изобразительное искусство окончательно отказалось от социальной миссии, отдало ее раз и навсегда кино, журналам, литературе. Но разве от этого сороконожка актуального творчества сделалась менее притягательна? Напротив!
Сороконожка была устроена таким образом, что к ней прилипали все новые персонажи, количество ножек множилось и множилось. Анонимное и значительное, это липкое существо скоро стало полномочно представлять все современное искусство вообще, оно вытеснило все живое, длинное мохнатое туловище протянулось до бесконечности.
Молодые люди, размышляя, делать бы жизнь с кого, быстро находили образец. Входить в советскую структуру смысла уже не имело никакого; учиться рисовать и стараться нечто такое изобразить особенное – это ведь такая морока, да и вышло уже из моды; а слиться с современным художественным процессом – занятие несложное, талантов не требует, гарантирует карьеру при необременительных обязанностях.
Движение рекрутировало циников и невежд, сороконожка жирела, и на глазах моего поколения она заменила собой официальное искусство Советского государства.
Как всякий официоз, новый авангард установил свои табели о рангах, и что естественно, посеял в обществе страх – выступить против, назвать тупицу – тупицей, а кривляку – кривлякой боялись. Точно так же боялись салонного авангарда, как при советской власти боялись выступить публично против соцреализма: не дадут выставок, затопчут, проклянут, отлучат от сонма избранных. Так, закономерным образом, российский «андеграунд» выродился в министерство, авангардом давно называется декоративный салон, развлекающий богатых. И хуже всего то, что, сделавшись официальным, сервильным искусством, авангард подарил свою безликость всей стране. Граждане отныне смотрят на белый холст и черный квадрат не как на экспериментальную безделушку, но как на директивный проект бытия. «Мне нечего сказать, и я никого не люблю – но так и надо: отныне это общее правило жизни», говорит официальный салонный авангард, и общество подписывается под декларацией своего любимца. Некогда картины (даже официальные) рассказывали зрителям о любви, о преданности, о судьбах людей – о вещах, в сущности, необходимых для того, чтобы общество почувствовало себя обществом, союзом людей. Когда же принципиально пустые, полые, вакуумные поделки объявили сознанием общества – это означало только лишь одно: общество тяжело больно. Возможно, кто-то еще и помнит, что общественный долг не равняется частной наживе. Может быть, некоторые не забыли, что помимо пустых холстов некогда существовали и картины. Но как же страшатся люди выступить против победительного прогресса, как страшно назвать вещи своими именами.
Некоторое время я смотрел на этот процесс спокойно, постепенно стал тяготиться страхом окружающих. Современный салон так прочно врос в быт современного мира, что сделался соучастником всех его махинаций, а это очень плохо для искусства, надо освободить искусство от таких связей. Очевидные, вопиющие вещи произнести боялись – круговая порука современного начальства и современного авангарда делала всякое высказывание невозможным. В конце концов мне стало стыдно всеобщего молчания, я взял и сказал громко.
Искусство – настоящее искусство, – оно еще победит, оно состоится. Сдаваться рано, бывали времена и похуже. Конечно, салон сейчас завладел умами, конечно, авангард сделался лакейским – но и это не страшно. Надо работать, и все получится, и если искать слова – то непременно их найдешь. Как сказал, умирая, Пикассо: «Нам еще предстоит придумать настоящую живопись».
Роман
Я писал роман «Учебник рисования» четыре года (с 2001-го по 2005-й, одновременно рисовал картины, разумеется), но являлся автором этой книги задолго до того, как ее написал. Это не вполне роман, хотя в нем множество сюжетных линий и любимых героев – это прежде всего обозначение новой эстетики, внутри которой находится в том числе и роман.
Замысел был прост: использовать искусство как меру истории и показать эволюцию общества на примере истории искусств, как Маркс показал это на примере экономики.
Сюжет я однажды записал на клочке бумаги, составил перечень глав, потом бумажку потерял и не особенно переживал. Отец говорил: если мысль важная, ты ее не забудешь – не надо беречь написанное. Если оно того стоит, ты вспомнишь об этом еще не раз. Что касается самого отца, он вполне следовал этому правилу, и ничего из написанного совершенно не берег, сегодня мы восстанавливаем его книги из обрывков и набросков – а это огромные, сложные тексты.
Как обычно, он оказался прав: не раз я возвращался к придуманной (точнее увиденной) конструкции. Я снова записывал сюжет и основные линии, опять терял план и продолжал думать о романе. Впрочем, иметь план было не главное. Я чувствовал, что роман уже написан, как бы помимо моей воли написан, он живет в воздухе моей страны, моего города, как скульптура живет (используя метафору Микеланджело) в глыбе необработанного камня. Я высказывал те мысли, которые выражены в романе, много раз в частных разговорах, несколько раз подробно пересказывал будущие главы, иногда даже пугался, что мысль украдут. Впрочем, мной всегда руководила незыблемая вера, унаследованная от отца: он считал, что идею нельзя украсть. Отец говорил так: разве можно украсть идею? Идея есть продукт всего моего образа мыслей, моего опыта, моего существа – как же можно воспроизвести весь строй отношений, весь строй моих мыслей и противоречий – это нереально. Можно украсть лишь фразу, сопоставление, удачный пассаж речи – но невозможно украсть убеждения, а значит, нельзя украсть и мысль.
Я был вполне уверен, что так, как я, не думает никто – хотя многие и ощущают нечто созвучное. Кто-то недоволен режимом, кому-то не нравится авангардный салон, кто-то не любит богатых и жадных, а некоторые думают, что христианская доктрина еще не исчерпала свои возможности. Следствия печальных исторических событий были очевидны многим, даже некоторые причины ясны, но связать все это в общий узел – вот что было необходимо. А этого никто не делал. Отдельно существовала практика авангардного салона искусств – и она называлась дискурсом свободы, отдельно – жизнь богатых мерзавцев, отдельно – история капитала, отдельно – трудности современного этапа колониализма. Соединить все в единую систему – сделать это можно было только на основании критики той эстетики, которой вооружилась новая империя. Но ведь современная эстетика суть воплощенное добро и свет, как же можно ее критиковать? – это допущение делало возможный анализ несостоятельным. Пока нет критики самого языка, невозможна критика высказывания. Я знал, что пока не будет выстроена система общих координат, ничего в мире не поменяется. Можно негодовать по поводу правителя-сатрапа и одновременно дружить с художником, который рисует поделки, которые нравятся банкиру, который снабжает оружием генерала, который служит сатрапу. Требуется проследить всю цепочку от начала до конца – иначе критика в адрес сатрапа так и останется несостоятельной. Требуется освоить метод соединения частностей в целое – но никто не знал, как соединять, иначе давно бы уже сделал. Коль скоро целью развития демократического общества является свобода индивида, а свобода воплощает себя прежде всего в эстетическом проекте бытия, через понимание прекрасного (я хорошо помнил уроки отца и Платона), анализ свободного общества (равно и диагноз: свободно ли оно) возможен лишь через рассмотрение категории прекрасного, которая лежит в основе общественной эстетики. Это не так сложно, как кажется – напротив, весьма просто. Я копил фрагменты, вписывал и добавлял по строке, тетради с набросками копились в разных домах, где я жил, порой я публиковал статьи в газетах или писал вступления для каталогов выставок, или сочинял стихи – но думал всегда про роман, который будет главной книгой. Собственно говоря, литературным упражнением было также рисование картин: каждая из них была частью повествования, мои герои сначала были нарисованы, а уже потом написаны: Саша Кузнецов изображен в картине «Одинокая толпа» в самом центре, любимых героев Рихтера и Татарникова я писал много раз в разных картинах – черты Рихтера во многом соотносятся с чертами моего отца, а Татарников напоминает историка Шкунаева.
Однажды я почувствовал, что роман врастает в живопись, делается с ней единым целым, и нет никакого противоречия между картиной «Структура демократии» и главой «Стратегия осажденных».
Роман – дело длинное, а длинный роман – особенно; он выхаживается и проговаривается долго. Мне важно было показать, как эстетическая концепция меняет историю – и требовалось показать это убедительно. Люди не склонны верить – им всегда комфортнее остаться при своих гладких убеждениях, надо было найти точные слова. Важно и то, что пока пишешь и стараешься сказать о мире точно и правдиво, детали твоей собственной жизни тоже проверяются, и надо сказать правдиво о себе самом. Невозможно говорить правду о власти – и не сказать правду о себе и своей любви. Это соответствие микро-косма и макро-косма и есть свидетельство подлинности бытия. Сочинение романа совпало с другим событием – личным, не менее важным.
Я уезжал на лето на маленький песчаный остров напротив Ла Рошели, там дуют сильные ветра и рыбаки с красными руками продают устриц. Это было бегством от Москвы, чтобы лучше вспомнить ее и точнее описать.
Я ходил с Дашей вдоль длинного берега, мы брели по колено в воде, и я рассказывал ей новые эпизоды книги. Помню, как долго мы придумывали имя одному из героев – не могли найти зловещее, щеголеватое, аристократическое имя. Наконец придумали: Голенищев. Вечерами сидели под лампой, и Дарья читала написанные мной за день страницы, а я пил вино – в соседней деревне хорошее дешевое вино, его продает Ян, местный виночерпий. Без Дарьи я никогда бы не написал этого романа. Пока мы сочиняли роман, для нас прошла целая жизнь.
Пока мы ходили вдоль берега, я придумывал также и картины «Отливов» – мне показалось, что это была бы неплохая метафора состояния европейского духа. Я ходил вдоль отмели и повторял строчки Заболотского:
- Европа сжалась до предела
- И превратилась в островок.
Фаустовский дух отступает, обнажается дно истории, на отмелях бродят рыбаки и случайные туристы, они собирают то, что осталось от отхлынувшей цивилизации.
Поражало то, что вернулись культурные доминанты девятнадцатого века: Россия снова стала капиталистической, жизнь в Москве – немыслимо дорогой, а отъезд в Европу сделался своего рода экономической эмиграцией: теперь жить на берегу моря во Франции выходило дешевле, чем в Москве, – кто мог бы в это поверить десять лет назад? Опять вернулись времена бедной Европы, а мы-то считали, что Европа – это жирные рестораны, Лазурный берег, казино и банки. Вернулась Европа дешевой картошки и селедки, описанная Брехтом и воспетая Ван Гогом. Прежде русские диссиденты бежали в Европу в поисках сытной жизни – теперешняя Европа казалась скромной и серой рядом с пирами современной олигархической России. И не верилось, что когда-то российские социалисты шокировали европейских рантье своей примитивной простотой.
Теперь все наоборот. Русские богачи, приезжая в Европу, чувствуют себя неуютно – нет привычного размаха, который обеспечивает наворованное, и нет той яркой жизни, которая блещет на фоне серого бесправного населения родных полей. Некогда Маркс предупреждал, что в крестьянской стране, при отсутствии пролетариата, социалистическая революция и построение социализма будут невозможны – свои надежды он связывал с пролетариатом европейских стран. А вот Ленин, а за ним и Сталин с его безапелляционной антимарксистской формулировкой «не исключена возможность, что именно Россия станет первой страной, пролагающей путь к социализму» – изменили теорию социализма. Дальнейшие события словно переставили полюса на культурной карте мира.
Парадоксальным образом в ХХ веке крестьянская крепостная страна принялась отстаивать принципы социализма и равенства, а пролетарская Европа – принципы капитализма. Только теперь, спустя век, все опять встало на свои места – так, как и должно было случиться, исходя из исторического опыта, и Россия опять безжалостно капиталистическая, а призывы к равенству и братству звучат в российском обществе смешно. Да их и не стало уже, этих призывов. Те самые четыре черновика так и не отправленного письма к Вере Засулич, в которых Маркс хотел примирить идеологию русских народников и идею социализма, да так и не получилось примирить – те самые черновики наконец-то обрели адресат. И потомки Засулич получили это письмо – а действительность письмо разъяснила: потомки увидели, что идеологи социализма зря старались: Россия вернулась к самой себе.
Русские баре и русское крепостничество возродились, только теперь они вооружены риторикой западной либеральной демократии (как некогда крепостники екатерининских времен использовали жаргон просвещения). У русских финансистов и воротил появились свои пристрастия в искусстве и литературе, а интеллигенция охотно эти вкусы обслуживала. И вдруг стало болезненно ясно, что все искусство XIX и XX веков, прежде всего русское сердобольное искусство, выпестовавшее, в частности, авангард, – уже стало ненужным. Возникла иная капиталистическая эстетика, вместо соцреализма появился декоративный капреализм, и новая эстетика не имеет никакого отношения ни к Толстому, ни к Чехову, ни к Петрову-Водкину. Более того, эта перемена произошла в послевоенной Европе повсеместно. То, что питало умы Пикассо и Камю, Хэмингуэя и Белля – более не в чести.
Однажды я беседовал с великим английским историком Эриком Хобсбаумом – тем самым, что написал «ХХ век – век крайностей». Девяностопятилетний Хобсбаум, ровесник всех событий, которые описал, сказал так: «Одна из главных бед современности состоит в том, что искусство сегодня перестало быть интеллектуальной деятельностью». К тому времени, когда я это услышал, мой роман был уже написан. Любые перемены могут начаться только с изменения эстетических принципов – к десятым годам нового века это стало ясно.
Голос крови
Последние двадцать лет я часто работал в Европе – больше всего в Англии и Германии, иногда по несколько месяцев подряд. У меня была мастерская в лондонском квартале Брикстон и студия в Берлине. Часто работал на острове Ре, рядом с Ла Рашелью. Там воздух пахнет океаном и древесным углем каминов, там растут сосны, и ветер с Атлантики гнет их дугой. Надеюсь умереть на этом острове, это лучшее место, которое я могу себе вообразить, для перехода в мир иной: океан приходит и уходит, прибой замывает следы, ничего не остается на песке, и от жизни не останется ничего, только дышит тяжелый океан и ворочает волнами, и перекатывает время.
Однажды, когда я писал на закате океан, ко мне подошел человек, он похвалил картину, сказал, что я рисую вполне профессионально – и мне было приятно. Потом я подумал, что не знаю, как отнестись к такой похвале – стоит ли гордиться таким вот признанием.
Существует распространенное мнение, будто рисование – дисциплина, лишенная национальной принадлежности, умение, не требующее перевода. Говорится примерно так: раньше существовали национальные школы, но сегодня во всем мире говорят на одном языке – языке современного искусства. Практика современных художников, кочующих из страны в страну, подтверждает эту версию: художник – в отличие от писателя, привязанного к языку своей страны, – творит где вздумается. Современное искусство (так считается) стирает границы меж народами.
На самом деле это не достижение современного искусства, но его беда. Национальный характер пластики заменен на межкультурное эсперанто – на этом пластмассовом языке говорят те, кого общество отрядило в пропагандисты цивилизации. Потребовалось убедить людей в том, что этот искусственный язык более живой, чем язык родной культуры, и постепенно люди поверили, что искусственный продукт полезнее продукта натурального – их собственной истории, памяти, культуры, родни. Мы живем с пластмассовыми политиками, которые произносят среднеарифметические банальности, не имеющие отношения к конкретной судьбе народа. Мы смотрим на синтетическое интернациональное искусство – веря, что синтетический продукт воплощает общие ценности, причем таким стандартом объявили отнюдь не христианскую мораль, отнюдь не братство угнетенных, отнюдь не коммунистическую утопию – но тактику рыночного накопления. Веру в единение трудящихся заменили объединением приобретателей, и многим понравилось.
Так мы усвоили интернациональное искусство – налезающее на любую культуру, как безразмерный нейлоновый носок. И за четверть века понятие пластики (пластика для искусства то же самое, что язык – для литературы) перестало что-либо обозначать. Между тем пластика зависит от страны: формы, цвета, линии, пространства – все это продукты определенной культуры, в природе нет цвета вообще, нет абстрактной формы. Существует звонкий черный цвет Испании, есть бархатный французский ультрамарин, есть красный цвет русской истории. Есть лица и жесты, взгляды и мимика, присущие лишь определенной культуре, вырастить их в пробирке нельзя. Лица героев Кранаха можно увидеть только в Германии, персонажи его картин по-немецки стоят, понемецки держат бокалы, по-немецки морщат лоб. Герои Гойи живут и двигаются как испанцы, а герои Брейгеля – ходят и двигаются как фламандцы, и ничего с этим поделать невозможно, даже если отменить нацпринадлежность специальным декретом. Художник пишет собственную анатомию, известное ему по рождению строение человека и общества – и это знание заменить нечем, вне тела культуры работать невозможно. Резная скульптура Рименшнайдера и многодельная гравюра Дюрера – как похожи они на вязкую немецкую грамматику; прозрачный и звонкий Беллини – разве сразу не видно, что он говорит на итальянском языке? И только пустота самовыражения современного художника не имеет внятной родины – и язык пластики анонимен.
В сущности, интернациональный рынок искусств проделал с художниками то же самое, что некогда проделал Юрий Андропов с советскими инакомыслящими. Выдумка председателя ГБ (выслать диссидентов из страны, которую те критикуют) обескровила оппозицию: проведя десять лет вне объекта критики, диссиденты уже не знали, что они, собственно говоря, критикуют. Так и русские философы, отправленные в эмиграцию Лениным на пароходе «Обербургомистр Хакен», спустя короткое время настолько разучились видеть вещи ясно, что, ненавидя большевиков, смирились с Гитлером. Так и повальные отъезды на Запад мещанского авангарда 70-х привели к деградации российского искусства: сегодня мир наводнен художниками, представляющими русское искусство на том основании, что они рисуют карикатуры на советских пионеров. Пионеров давно уже нет, советская власть более не существует, а несчастные художники по-прежнему клеймят то, что к России – живой и горемычной стране – не относится никак.
Мало этого. Русское искусство оставили на откуп официальным проходимцам, но свободолюбивые эмигранты не стали участниками жизни Запада. Ни единый мастер, из тех, что порицали отечественных пионеров и колхозников, не сумел найти аргументов против западного мещанства, против колониальных войн. Болезнь Европы, коллапс западной морали – то было простонапросто не их дело, они и не могли почувствовать иную культуру своей, цели такой не ставили. Улизнуть от тирана – и причаститься некоей интернациональной абстракции, хотелось именно этого. Мол, существует какое-то межнациональное мейнстримное искусство, вроде международных салонов мод: сегодня носят одно, завтра другое – и международный коллектив знатоков решает, что будем носить.
Не понимая, как двигаются и дышат те люди, что их окружают на улицах, российские мастера приняли чужую культуру как удобную среду для выживания, но почувствовать анатомию чужой страны – такой задачи вовсе даже не было. И чего ради? Бесчисленные интернациональные смотры искусств способствовали безадресности бытия, эластичное тело современного искусства не нуждается в прописке. Интернациональные кураторы вырабатывали интернациональные задачи – что сегодня на повестке дня? Экология? Одиночество в городской среде? Возникло искусство без пластики, достойный участник общей мистерии: литература без языка, финансы без промышленности, политика без народа – рисование без пластики в этой прогрессивной компании уместно.
Эмиграция вообще-то страшное горе, однако поголовная эмиграция притупляет эмоции: если никто ни к чему не привязан, собственная потеря не в счет. И потом, стоит заговорить об эмиграции, как на ум приходят упоительные примеры, я сам их приводил не раз. Эль Греко, Гольбейн, Ван Гог, Пикассо, Сутин, Модильяни, Фройд – все они состоялись в эмиграции. Видимо, в искусстве – как и в биологии – следует говорить о предпочтительной селекции, то есть культурных типах, поддающихся скрещиванию. Мне, например, кажется, что германские художники отлично приживаются на английской почве (Гольбейн, Фройд). Видимо происходит усиление северного начала, и присущая немцам протестантская въедливость еще более оттачивается, достигает болезненной остроты.
И южный темперамент можно усилить – так произошло с итальянцем Модильяни и испанцем Пикассо во Франции, так это случилось с Эль Греко в Испании. Не лишним будет сказать, что все они стали полноценными гражданами тех стран, куда уехали, они отвечали за культуру, опыт которой присовокупили к своей.
Примеров удачной русской биографии за границей я не знаю – если иметь в виду развитие души. Паразитическая эмиграция 80-х не дала ни единого яркого характера. Те, что приехали в Германию в 20-х (то есть Явлинский, Кандинский – и, например, фон Веревкина), сделались в еще большей степени мещанами, чем природные немцы: видимо, российское мещанство усилилось от потребления немецких сосисок. Эмиграция французская (Шагал, Поляков, Сталь, Ланской) произвела таких удивительных абстракционистов, каких сами французы создать не могли, – эмоции выветрило начисто.
То, что русское искусство нуждается в прививке иностранного опыта – несомненно; вероятно, наиболее точно с этим справился Петров-Водкин, соединив флорентийскую традицию с живым российским опытом.
Вне русского опыта, вне работы в России я не смог бы рисовать, но некоторым вещам я научился у немцев. Технике офорта я учился у Мелвина Петтерсона и Колина Гейла, я никогда бы не освоил офорт вне Англии. Помимо прочего, я учусь у европейских мыслителей – и продолжаю думать, что решение русских проблем должно прийти через оздоровление западной гуманистической идеи. Я многому научился у Витторио Хесле, а его страсть к возрождению философской категории как основы мышления стала и моей страстью.
Можно сказать проще: если иметь целью не собственное выживание, но организацию общего дела, работать можно где угодно. Задача сегодняшнего дня действительно универсальна – но отнюдь не абстрактна, не синтетическим языком ее следует разрешать. Европа переживает не лучшие времена – и значит, самое время любить ее настоящую, сегодня она нуждается в искренней любви – а не в паразитизме; ей самой нужно помогать. Не Европа богачей и банков, не Европа ресторанов и акций – но культура, родившая Ренессанс, вот что заслуживает любви. Коль скоро случилось так, что Россия оказалась недостойна своей истории, коль скоро утопия – однажды пришедшая к нам из Европы – забыта и похоронена, значит, следует начать все сначала. Много раз уже начинали – ничего не поделать, начнем еще раз. Как это уже бывало в Средние века – из университетов, разбросанных по европейским городам, из мастерских и кабинетов – родится новое движение гуманистов, и оно оживит парализованное тело культуры. Нужно заново научиться любить ближнего – а это крайне конкретное, не абстрактное чувство. Важно помнить ради чего работаешь, и тогда усилия русских и европейских художников объединятся не в абстракции – но в философии общего дела.
Общая судьба
Однажды (и это было уже давно) я принял решение не выставляться в групповых выставках. Однажды решил – и никогда уже не ходил больше в общие кружки. По молодости я принимал участие в разных прогрессивных выставках неофициального, свободолюбивого и т. п. нонконформистского творчества. Однако с течением времени для меня стал крайне болезненным вопрос: а что именно нас объединяет, есть ли в моем представлении о свободе хоть что-нибудь, хоть малость, которая корреспондирует с прогрессивной риторикой соседей?
Совет ни с кем не выставляться мне дал Зиновьев – еще в девяносто третьем году, в ночном телефонном разговоре. Как и многие разговоры с ним, этот тоже помню отчетливо. Александр Александрович позвонил мне в лондонскую мастерскую среди ночи, зная, что я не сплю; была в нем эта поразительная черта: помнить, что он кому-то нужен. Накануне я сказал ему, что у меня бессонница, и он позвонил ночью. Как и всегда, он дал директивный совет. «Прекрати участвовать в групповых выставках. Правило простое, – сказал он тогда, – не притворяйся единомышленником тому, с кем у тебя общего быть не может. Все равно не получится. Не стоит стараться – береги время».
Подобно многим заявлениям Александра Зиновьева, это заявление тоже содержало внутри себя противоречие: человек, который призывал к одиночеству, являл в каждом поступке готовность к солидарности – он, усталый и немолодой, тяжело работавший днем, помнил, что нужен среди ночи мальчишке; и вот он звонит, разговаривает, сам не спит.
Это был драгоценный совет, хотя и бесконечно трудный для воплощения – хорошего он не сулил. И уж кому как не Зиновьеву было знать, каково это – отказаться от единомышленников. К тому времени как я получил этот директивный совет, все уже устроилось само: было понятно, что единомышленников нет, общие декларации невозможны – нечего вместе декларировать. Современное искусство я не любил так же осознанно, как прежде не любил соцреализм. Мало того, я и разницы никакой не видел между сегодняшним служением вертлявому мнению кураторов, которым надо егозить перед банкирами, – и прежним общением с секретарями райкомов и министерств. Новая форма лакейства столь же противна, как и старая, – с той только разницей, что новые лакеи имели опыт лакейства прежнего и должны были выработать иммунитет. Не выработали. Лакеям казалось, что раньше они были в унизительном рабстве, а теперь служат прогрессивному барину, и нынешнее состояние является не рабством – а сотрудничеством на взаимовыгодных началах. Рыночная мораль подарила обществу спасительный цинизм: прежде лакейство угнетало, сегодня оно рассматривается как разумное соглашение: мы им лижем задницу, они нам платят разумную зарплату. Оказалось, человек легко мирится с унижением, если знает, что его унижают прогрессивными методами, так же, как и прочих привилегированных холуев. Сегодня, как и при царе Горохе – у власти никогда не будет столь надежной защиты, как лакеи, как те, кого она унизила. Поди попробуй, тронь корпоративные ценности: барин, пожалуй, и не заметит, а мажордом и буфетчик – те не простят.
Культура может быть определена как общая судьба, то есть то, чего никак не избежать, и от чего стыдно увиливать. Однако принадлежать к той же самой культуре и к одному и тому же времени – не значит быть единомышленником своим соседям. Это принципиально разные вещи, и хорошо бы их понимать отчетливо.
Довольно трудно, например, вообразить себе единомышленников Гойи или Мантеньи, их не было просто потому, что Гойя (или Мантенья) обладали крайне сложным, весьма индивидуальным сознанием, и не было такой общей затеи, которой они могли бы поделиться с коллегами. Напротив, единомышленников Энди Ворхола не счесть – именно по той причине, что его сознание было принципиально ориентировано на массовое и ни одной оригинальной мысли в себе не удерживало.
Искусство, которое входит в каждый дом (так например, как вошли в каждый дом пейзажи импрессионистов, натюрморты малых голландцев и квадратики авангардистов прошлого века), это, несомненно, искусство большой группы лиц, являющихся единомышленниками. И не только между собой, не только внутри своей группы. Эти художники являются единомышленниками со своими потребителями, они воспроизводят логику рынка, логику декораций, общий принцип красивого. Импрессионисты были единомышленниками, и малые голландцы тоже были единомышленниками, и современные авторы инсталляций тоже все как на подбор единомышленники – оттого что они, по основному определению, мещане. В этом нет ничего особенно обидного, поскольку мещане – это наиболее представительный класс европейской цивилизации, и весьма разумно обслуживать именно его. Вопрос в том лишь, что именно следует нести в каждый дом: декорацию, законы рынка, амбиции купца или любовь к ближнему. Некогда церковь брала на себя эту функцию, но что заменит религиозную мораль и религиозную эстетику в секулярном обществе?
А то, что любовь – чувство сложное и расцветает именно в своей сложности, про это рассказывает только очень индивидуальная картина. И сегодня картина должна сыграть ту же роль, какую некогда сыграла икона – когда икона противостояла пышным языческим капищам.
Искусство Европы постоянно совершает этот шаг – прочь от картины, в сторону декорации частной жизни, парадов власти, домашнего покоя мещанина. И всегда возврат к римскому декоративному искусству и римской морали называют прогрессом: прогрессивным было Рококо, прогрессивным является современный сервильный авангард. От «римских цирков к римской церкви» (используя образ Пастернака) уйти не удается, снова и снова приходим на то же самое место, откуда начинали; они очень притягательны, эти цирки.
И всегда находится тот, кто возвращает картину в мир, вопреки моде, вопреки мнению соседей, и дает христианскому искусству новые силы. Малые голландцы – и Рембрандт, возвративший мелкой морали их натюрмортов – величие. Импрессионисты – и Сезанн с Ван Гогом, осмелившиеся рассказать рантье, что он хорош не потому, что у него есть пруд с кувшинками, но потому, что он человек. Салонные авангардисты – и Маяковский, который захотел подлинной революции, не революции квадратиков и комиссаров, но духовной. Сегодня нам кажется, что рынок необорим, а мнение прогрессивного большинства неоспоримо, – но это, слава богу, заблуждение: и прогресс, и деньги, и мода, и общее мнение – суть вещи преходящие. Достаточно одного-единственного голоса против, чтобы власть рынка и рыночной свободы перестала быть безусловной. Нужен лишь один свидетель, чтобы лакейство было поименовано лакейством, а вранье стало известно как вранье. Такие свидетели всегда находились в истории искусств. Одного достаточно.
Малые голландцы и Рембрандт принадлежат одной культуре, но единомышленниками они ни в коем случае не являются, хотя, видит Бог, про единение Рембрандт понимал как никто другой. И хотел единения больше, чем кто-либо, – посмотрите на «Блудного сына».
Однажды единение наступит, и сын встретится с отцом – то будет волнующее, прекрасное единение. В нем не будет и следа мещанской морали: чтобы у меня было так же красиво, как у соседа. В таком единении будут слиты не нации, но люди; не стили, но сущности; не амбиции, но страсти. И в таком единении не будет места гордыне художника, Рембрандта, или кого бы то ни было еще. Художник не сделал ничего особенного – он состоит из других людей, он есть сгусток их опыта, и только. Он представляет их всех, но любой из них – столь же прекрасен, как и он. Я бы хотел, чтобы в моих картинах остались мои близкие, чье тепло грело меня всю жизнь, чьи лица в моей памяти постоянно. Я хочу, чтобы на картинах осталось лицо моего дорогого папы, я хочу уберечь его от тлена, я хочу, чтобы его навсегда запомнили таким, каким он был, – с огромным лбом, глубокими темными глазами. Я хочу сохранить на холсте голубые глаза своей мамы, хочу сохранить в памяти ее руки, которые на ощупь походили на свежеиспеченный хлеб, – это меня Катя научила, сам я не замечал. Я хочу, чтобы прекрасные черты моей Кати остались навсегда – и еще многим она смогла бы отдать свое тепло. И все, все, все – мой драгоценный Гоша, его дети и мои внуки, моя дорогая Дарья, мой добрый брат Владимир и его дети – они говорят через меня, а самого меня, скорее всего, уже просто нет. Человек состоит из других людей, и только тогда искусство делается искусством, когда растворяется в мире без остатка. Одного, конечно же, недостаточно. Одного не достаточно никогда.
Дом на пустыре
Вещь на своем месте
Юность я прожил в рабочем районе Москвы. Коптево – нехорошее место. Скверное.
Мы оказались в сером блочном доме, тесном и нечистом. Красный двухвагонный трамвай делал поворот под окнами, лязгал, скрипел, содрогался. Лежа без сна, я слушал. Звуки стихали во втором часу ночи и возобновлялись в шесть утра.
В окно было видно серые бетонные бараки и блеклую мерзлую траву на путях и дальше – на пустырях и свалках. Видно: от столба к столбу висит мокрое белье. Оледенелые подштанники хлопают на ветру, и волглую холодную простыню мотает на веревке.
Заборы, заборы – дальше не разглядишь, но дальше то же самое. Смотреть незачем.
В минуты просветления, которые у здешнего человека сродни минутам опьянения или тоски, у меня появлялась способность окинуть свою жизнь одним взглядом. Я видел ее всю, сразу, вдруг, из конца в конец, с ошеломляющей отчетливостью, подобно тому как неожиданно можно увидеть всю комнату, в которой живешь, всю – от пола до потолка, не спотыкаясь взглядом о мебель.
С пугающей ясностью (пугающей еще и потому, что даже в такие минуты я не мог не спросить себя: и что же, каждый русский человек, напившись или лежа в бессоннице, испытывает это?), с пугающей ясностью просматривалось все пространство жизни – и то, что некогда представлялось закоулками, темнотой, провалом, выравнивалось в однообразную длительную пустоту, и, меряя мыслями это ненужное пространство, я ужасался. Неужели это моя жизнь? Вот это? Неужели я нарочно так ею распорядился?
И мой взгляд катился по пустому полю – и не было ни кустика, ни бугорка, чтоб зацепиться.
Вот он – дикий пустырь, где гуляет лихой человек, ленивый и беспощадный, где пьют большими глотками и бьют чем попало, где если любят – плачут, где тепло три месяца в году и где вместо «да» говорят «ну».
Вот он, холодный край, в котором меня пригреют, равнина, которая меня спрячет.
Я вставал с дивана и плелся на кухню, где с вечера меня ждал холодный чай в синей железной кружке.
Всякий раз, найдя ее, я испытывал облегчение.
Мера
Меня не обманешь, сказал Иван. Говорю этим двум: я для вас все сделаю – хочешь, и пузырь с черного хода возьму.
У них рубль – у меня трояк. Пошли. Берем. Ногтем на этикетке замер сделал и говорю: мне столько оставишь.
Они пьют, а я на лавку присел. Я до этого уже с мужиками во дворе принял.
Смотрю, как пьют. Вижу – перебирают. Стой, говорю, ты на рубль пьешь или, может, на два? А он улыбается и пьет.
Я сижу, не встаю. Поставь, говорю, бутылку, а он другому передает, и тот тоже присосался. И подходят ко мне – и мне по роже.
Давай, думаю, бей. Бей, старайся.
Иван улыбнулся, обнажив железную челюсть. Зубы у него были вставлены цельной стальной скобой. В минуты веселья он хвастал, что может руку перекусить.
Мне что сделается? Губу чуть порвал, а сам запрыгал, из руки кровища – и все мне на плащ. А плащ у меня бежевый, польский.
Я говорю: ты мне сразу не понравился, что в глаза не смотришь, а моргаешь. Дозу перебрал – это тебе минус. Но плащ я тебе вообще никогда не прощу.
Как замазал ему по глазам, а дружок на спине виснет.
Я бы урыл обоих, но мне бутылка мешает: я ее как перехватил, так пальцем заткнул, чтоб не расплескать. Одной рукой двоих не убьешь.
Думаю, мне б до горла твоего добраться, я б тебе горло перегрыз.
Прижали меня – и ногами. Я на бутылку боком навалился.
В себя пришел, гляжу – ушли. Бутылку из-под себя достал, палец вытащил – порядок, не разлил. Вовремя я их окоротил – как раз до замера допили, не успели, суки, перебрать.
Посидел, попил спокойно. Плащ, правда, стирать пришлось. Мыло, оно тоже не дареное. Даром ничего тебе не дадут.
Прыжки в высоту
Боря Туруханский в детстве играл на пианино. Теперь он любил стихи Ахматовой, готовился в институт и жаловался, что его папу не печатают.
Однажды он сказал: «Я могу убедить любого, в чем захочу. Если нападут хулиганы, я сумею их убедить не драться. Главное – дар внушения! Знаешь, как ораторы владеют массами? Когда поэт читает стихи…» Ну и так далее.
Мы шли по пустырю, глядя под ноги. У нас где ни посмотришь под ноги, всегда в радиусе шага сыщешь две винные пробки. В некоторых местах пять.
Я ждал, что мы нарвемся на шпану и нас окликнут. Боря рассказывал про интриги на папиной работе. Там все было непросто. Нас окликнули.
Это были местные, коптевские.
Обычно они говорили «попрыгай» – во-первых, чтобы послушать, не звенят ли деньги, и потом просто – для смеха. Если человека унизишь, его потом легче избить.
Туруханский испугался: его еще ни разу не били. Он слышал о хулиганах и видел их издали, когда они цепочкой проходили через соседний двор.
Главного звали Тарасюк. Он был едва после армии, но выглядел стариком. Его жене, по слухам, ампутировали три четверти желудка, и она теперь пьянела с одной рюмки.
Тарасюк окрысился в редкозубой улыбке.
– Подойди, что ж побаиваться, – сказал он, – попрыгай.
Туруханский открыл рот, потом сказал:
– Ну что я тебе сделал? Я вообще никого тут не знаю. Мы просто гуляли. Я ведь никому ничего такого не сделал.
– Попрыгай, – повторил Тарасюк.
– За что? За что? Ведь должна быть какая-то причина? У меня денег нет, ничего у меня нет, и драться я не хочу.
– Я с тобой не дерусь. Я русским языком говорю: попрыгай.
Здесь Туруханский дал маху; он было решил, что все обойдется и сила слов сделала свое дело. А попрыгать можно. Отчего ж не попрыгать?
Он подскакивал и говорил в такт: «Разве нельзя все решить словами? Зачем драться? Давайте познакомимся. Мы здесь рядом живем».
Тарасюк пнул его в пах.
Туруханский скрючился и стал валиться головой вперед. Тогда Тарасюк ухватил его за ухо и снизу ударил в подбородок.
Туруханский скулил, закрывая руками живот, вжав голову в плечи. Он не сопротивлялся.
Подобно большинству мальчиков из благополучных семей, он имел ошибочное представление о драке. Ему казалось, что если не сопротивляться, бить будут недолго.
Это не так. Наоборот.
Тарасюк разбил ему нос и сшиб на землю. Ботинком наступил на лицо.
Я полез в драку.
Я не то чтобы умею драться, но могу долго не падать.
Туруханский давно уже ушел домой, когда они меня отпустили.
Прошла неделя, я столкнулся на улице с Тарасюком. Он нес продукты из магазина, узнал меня и окликнул.
– Хотел я тебе, суке, ребро сломать, да, думаю, родителям нажалуешься.
– Я бы не стал, – сказал я серьезно.
– Другой бы сучонок стукнул.
Туруханский же при встрече заметил:
– Главное – сразу упасть. Лежачего они долго не бьют. У них есть своеобразная бандитская этика.
Я их обоих давно не видел. Тарасюк, верно, спился и помер. Туруханский, думаю, эмигрировал. У его папы вышел роман. Кажется, что-то свободолюбивое.
От звонка до звонка
Искра Лизогубова вела урок по литературе. По обыкновению она сняла очки и сказала:
– У меня дальнозоркость, я прекрасно вижу самые дальние парты. Не вздумайте списывать – все увижу.
Ее боялись, и это объяснялось просто: Лизогубова учила банально, но страстно. Упрекнуть ее можно было в излишней последовательности. Людей ведь если что сближает, так распущенность.
Приоткрылась дверь, худой человек поманил ее в коридор.
Там он предъявил удостоверение.
– У вас есть ученик, Паухов. Отошлите его сейчас же, во время урока, в учительскую. Там мы его без всякой паники и возьмем.
Три других участника операции стояли в стороне. Искра кивнула.
Паухов почуял неладное; в момент опасности появляется особое чутье.
Потребовалось срочно найти книгу в учительской. Он шел, но медленно. Уже приблизился к двери, но замер. Повернул прочь.
И тут его ударили по голове. Била Лизогубова, портфелем со школьными диктантами. Она выжидала за углом. Паухов повалился на пол.
– Вот он, берите его! – дико крикнула учительница.
Четверо тренированных мужчин навалились на восьмиклассника.
Он был вор. Его судили; свидетелями вызывали учеников, которые могли случайно видеть краденое.
Худой – следователь – сказал одному:
– Ваша литераторша – зверь.
Впрочем, он знал только то, что она исполнила его просьбу.
Полукровка
Гусев был еврей. Казалось бы: ну еврей и еврей. С кем не бывает. Наплюй.
Но Гусев переживал. Дело в том, что по паспорту он был русский, как и его отец. И имя, и отчество, и фамилия у него были совершенно русские. Только мама была еврейка, но она давно умерла, и про ее национальность никто не знал.
Даже жена у Гусева была русской. Блондинка по фамилии Крысина, и работает медсестрой, как ни посмотри – ничего еврейского. Ан нет, выяснилось, что и у нее мама – урожденная Рабинович.
И всегда так случалось, что они попадали в глупейшие положения. Придешь в гости, поешь, и разговор вдруг зайдет о евреях.
И скажем, кто-нибудь за столом брякнет: «Жиды Христа распяли», – или что похлеще.
И всякий раз Гусев с Крысиной испытывали противоречивые чувства.
Они недоумевали, стали бы при них говорить такое, если б их еврейство было общеизвестно.