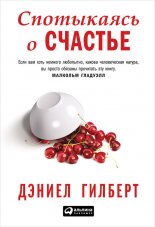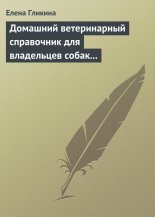Совок и веник (сборник) Кантор Максим

Или это даже своего рода провокация, чтобы вывести их на чистую воду.
Или кому-нибудь уже все известно, и он сознательно норовит оскорбить.
И как прикажете реагировать?
Им всегда хотелось заспорить, но одновременно казалось, что это будет искусственно.
Как-то раз Гусев в шутку возразил, что, мол, Христос сам был еврей, но тут же застеснялся своей напористости.
Дома, жене, он сказал:
– Все-таки правильно, чтобы с антисемитизмом боролся кто-то с абсолютно чистой родословной. Куда убедительнее, когда совершенно русский человек с русской фамилией выступает против национализма.
– Но у тебя же русская фамилия.
– Русская-то русская, – заметил Гусев, – но обернуться по-всякому может. Знаешь, как было в пятьдесят втором? Ногти вырвут – и пулю в затылок. Только мозги веером по стене.
Обедали молча.
Или случалось ему идти по улице, и вдруг кто-нибудь в спину кричал: «Еврей!» Может, и не ему кричали, но Гусев вздрагивал. И как себя повести? Обернуться? Сказать: «Замолчи, гад, я не еврей»? Или наоборот: «Заткнись, фашист, да, я еврей»?
Если разобраться, думал Гусев, в слове «еврей», в сущности, и нет оскорбления. Говорят ведь, допустим, «немец» или «японец». Японец же не обидится, если его японцем назвать. Но стоило произнести про себя слово «японец», как делалось понятно, что это далеко не «еврей».
И если для проверки даже самым ругательным способом выговорить слово «японец», а потом сразу же «еврей», эффект будет совершенно разный.
Или, например, ехал он в такси.
– Везде евреи, – сказал шофер, – хоть того, хоть этого возьми. Окружили.
И снова Гусев поколебался ответить. А что скажешь? Не везде? А тот спросит: ты что, сам еврей, что ли? У них ведь такая логика. И тогда что? Врать? Говорить: нет, Гусев я, русский. И ведь это отчасти правда.
Почти вовсе правда, убеждал он себя. Вот в паспорте написано – русский. И говорю я по-русски. И живу в России. И зовут меня по-русски. Что ж я дергаюсь всякий раз? Но и отказываться сам от себя он не хотел.
Было бы вовсе недостойно, сказал он дома жене, еще и поддакивать.
И в этот раз снова вышло некрасиво. Отправились в гости. И как нарочно – опять об евреях. Словно и поговорить русскому человеку больше не о чем.
Компания, надо заметить, подобралась – фамилии одна другой гаже: Дандурей, Вапник и Чикатилло с супругой. И все, кого ни ткни, русские.
Русские! Можно не проверять: на лбу написано. Одни Гусев с Крысиной с русскими фамилиями. Словно нарочно.
И зашло об евреях.
Чикатилло говорит: русский народ споили. При этом наливает себе до краев всякой мерзости и выпивает. Еще – говорит – с девятнадцатого века жиды спиртным торгуют.
Залпом саданул два стакана, продолжает – если так дальше пойдет, нам генофонд нации изведут.
– Еще посмотрим, кто кого, – сказал Вапник. Съел огурец, поковырял грибы и говорит: – Еврейский синдикат все купил в России. Это же доказывается математически.
Объяснил, что в Америке финансовые магнаты сплошь евреи, и круговая порука их общеизвестна.
Дандурей сказал:
– Самое гнусное, что они революцию сначала устроили, русские храмы порушили, – а сейчас, когда семьдесят лет барахтаемся в дерьме, пальцем показывают и смеются.
Поговорили о Троцком.
Чикатилло вспомнил, что все чекисты – жиды.
Гусев хотел было сказать «не все», но сдержался. «И храмы русские – разве евреи рушили? – хотелось крикнуть ему. – Да где вы в ярославской деревне еврея сыщете? Нашему мужику волю дай, он и свой дом спалит».
Он молчал, глядя в стол, сжимая под скатертью кулаки. Не здесь бы, не в кругу друзей испытывать это горькое унижение немоты.
Он крикнул мысленно: «А Бабий Яр? А сожженные миллионы? А ваши русские мужики-черносотенцы с царем во главе? Что же вы все врете?»
Нос его заострился, глаза сузились.
«Да и что здесь за народ такой? – кричал он внутри себя. – Двумястами миллионами, видите ли, один крутит. А народ – здоровый болван – поворачивается, куда велят.
Сделали революцию, распродали страну, разруху устроили – и все евреи?!
Да если вы такие мямли – поделом!!!»
Через стол он видел, что и у жены его, Крысиной, лицо исказилось.
Чикатилло меж тем рассуждал: по новейшим сведениям, что любопытно, большинство нацистских палачей сами были евреями. Риббентроп, например, полукровка. Гейндрих. У Гитлера есть еврейская кровь.
Убивали, получается, сами себя. Передайте-ка холодец.
Гусев не проронил ни звука. Словно не с ними, не с этими людьми читал запрещенные книги, будто не они были его наперсниками.
Он чувствовал себя одиноким.
Жена Чикатилло подняла рюмку. «За русских женщих, которые не лягут в постель к еврею».
Гусев сам не заметил, как рука подняла стакан. Впрочем, давно хотелось выпить, во рту пересохло.
Чокнулся с женой, с соседями, опрокинул в себя водку. Но горше водки нутро язвила обида.
– Поздно, пора бы и домой, – сказал он хозяину.
Наутро позвонил Вапник. К слову заметил:
– Прицепились вчера к евреям. А Дандурей – тот, по-моему, и сам еврей. Не замечал? А погляди на него в профиль…
Чикатилло же сказал:
– Потешно до чего, как Вапник еврейские капиталы хаял. У него брат – банкир в Америке, еврей-евреем. Ну может, правда, татарин, черт их разберет.
Определеннее других высказался Дандурей:
– Про самого Чикатилло не скажу. А жена его – Эмилия Абрамовна Гальпер. Сам вроде белорус. Фамилия какая-то итальянская.
Боже мой, думал Гусев, лежа на диване после обеда, Господи Боже ты мой, чего же другого ждать в этой стране? Конечно же, все перемешано: татары, финны, азиаты – кто на этой земле чисто русский, где такие? И мучаются, и мучают других, от комплекса неполноценности, от беспомощности. Небось, у англичан с японцами такого бы не было.
И снова в словах «англичанин», «японец» прозвучала какая-то степенность и надежность.
И наутро Гусев шел на работу, огибая лужи, вдоль серых бетонных заборов, и крикнули: «Еврей!»
Он обернулся. Нет, не ему.
Оттепель
Хуже нет, как начнет подтаивать. Сегодня Петр пошел снег с крыши сгребать. Снег-то и потек. А он в своих ботах так и пополз вниз. Лопатой цепляется. А за что уцепишься? Не за что особенно. Покричал, чтоб руку дали. Ну, дураков нету за ним лезть. Да и не успеешь. Хоть он не быстро полз.
Народ с троллейбусной остановки смотрит: сползет? нет? Сполз.
Полетел.
И ладно бы в сугроб. Бывает, выживают. А сегодня сугробов-то нет. На лестницу упал, у парадного. Хуже нет – упасть на лестницу – сразу нога выскакивает, череп лопается и мозги текут. Почему я и говорю: не люблю такую погоду.
Интеллигент на чужбине
– Черт-те что творится в России, – заметил Лев Петрович, отрезая колбасу, – до какого кровопийства люди докатились.
– Это есть ад, – сказала немочка, у которой он гостил, отдыхая от московских страстей, – их не понимирен, варум либст ду такой фатерлянд.
Лев Петрович огладил бороду и сказал:
– Вот ты спрашиваешь, возможна ли демократия в варварской стране, можно ли все переделать на ваш, европейский лад.
– Йа, йа, это есть гроссе надежда для наш свободный мир.
– Нет такой надежды, – сухо сказал Лев Петрович и отхлебнул пива. – Взять, скажем, пиво у вас, ведь какое пиво, а? Не то что наше пойло – глотнешь и не знаешь, дотянешь до утра или нет.
Ну почему, почему, спрашиваю я, по какой такой причине страна, которая производит миллиарды танков, не может наварить хорошего пива? Почему?!
И так же с демократией.
– Доверчивый западный мир – да вы вглядитесь! Сумгаит, Карабах, Ташкент, Тбилиси: кровь хлещет, люди гибнут, режут детей, жгут заживо, сдирают кожу, кастрируют, ломают руки и ноги, – он сам почувствовал, что увлекся.
– Майн Готт, Лев, ты не должен возвращирен в этот криг. Я понимаю – там жена, фамилия, но ты есть должен всех перевазирен в мой дом.
– А, – махнул рукой Лев Петрович, – делать мне здесь нечего. Разве лекции почитать? Кафедры расхватали те, кто пошустрее. Нет уж, будем возвращаться. В Москву, за работу.
Немочка поднесла руки к лицу.
– Какая надежда, – продолжал Лев Петрович, – на что? Со времен Ивана Грозного – резня, доносы, застенки. Любой период так называемой либерализации, – он усмехнулся, – длится не более восьми лет. Вот и посчитай. Посчитай! Легко здесь прожекты строить, – он приподнялся над столом с закуской, – а ты возьми и посчитай, сколько нам осталось. Год-полтора. А дальше?
Немочка ловила его взгляд.
– Дальше техника отработана. Половине населения по лопате и кайлу, половине – кляп в рот; границу на замок; железный занавес. Тьма надвигается на нашу страну. Тебе не понять этого. Как тебе понять?
– У нас в Дойчланд, – сказала немочка, – уже не спокойно есть. Фашисты много демонстрируют. Немецкие убивают турецкие.
– Разве это фашизм, – отмахнулся Лев Петрович. – Что фашизм? Нам бы ваших фашистов. Поглядела бы ты на сибирские бараки, на ряды колючей проволоки, сторожевых псов. – Он хлебнул пива. Отдышался. – Голод, – сказал он. – В стране самый настоящий голод. Разруха. Нищета. Террор. Гиперинфляция. Возьмем меня. Профессор. Известный ученый. Получаю гроши. Едим то, что у вас, может быть, кошка жрать не станет.
Здесь Лев Петрович прервался, сделал бутерброд с ветчиной, намазал его хреном и сверху положил ломтики маринованного огурца. Откусил. Запил пивом. Спросил:
– Где у нас взять такую еду? – И сам же себе ответил горько: – Негде. Жилищные взять условия. Скажем, в такой гостиной не зазорно людей принять. Мне, русскому ученому, и мечтать не приходится о таких хоромах. А если задуматься, страна должна бы гордиться своими талантами. Обеспечивать. – Он доел бутерброд. – Те, кто живет в скотских условиях, на грани гибели, в постоянной опасности – может быть, именно они и есть гордость этой несчастной страны.
Лев Петрович встал и нервно прошелся по комнате.
– Что бы ты, интересно, сказала, если бы услышала такую историю: выходим с женой из гостей. Ночь – хоть глаз коли, фонари все перебиты хулиганьем. В Европе, думаю, не бьют фонарей?
– Когда если пьяные есть.
– Этак, небось, не бьют. А тут – все напрочь перебиты. Вдребезги. До одного. Подчистую. И осколков не сыщешь. Идти страшно. Куда пойдешь? Темнота, мрак. Кругом ночь. Тормозит машина. Такси или нет? Зеленый огонек вроде горит, шашечки на месте – да теперь любой бандит шашечки на машине нарисует, завезет в лес и – топором. Присматриваюсь. Жена – она отчаянная у меня – говорит: «Садимся, Лев, двум смертям не бывать». В нашей страшной стране может случиться буквально что угодно. Как в тридцатые годы аварии подстраивали? Вжик – и нет человека. Трактором перепашут.
Кофейник дрожал в руках у немочки. Ей было стыдно за свою обеспеченную жизнь.
– Если б я тогда родился, меня уже не было бы в живых, – мрачно подытожил Лев Петрович. – Таких, как я, давили без пощады. Одного за другим! В пятьдесят втором был ребенком – мог и мальчишкой погибнуть, детей хватали почем зря – и лишь случайно не погиб. Я тот, кто, как ни странно, вышел почти сухим из этого болота – вот что им не дает покоя. Теперь пойдет и за мной охота. Сегодня моя очередь. – Он подошел к немке, положил руки на ее полные плечи. Та прижалась щекой к его шерстяному жилету. Лев Петрович машинально передвинул руку к вырезу блузки.
– Едем. Темно. Сворачиваем в лес. Не той дорогой едем! Спрашиваю: почему дорога не та?! Молчит шофер. Ни слова. Ни одного. Ни звука.
– О Лев!
– Жена ко мне жмется. Левой рукой ее обнимаю, – левая рука Льва Петровича скользнула в вырез блузки, – а правую держу наготове. Весь напряжен. Нервы перекручены. Несемся через кусты. Жду удара. И мысли, мысли скачут в голове. Тот толчок спину в метро. Случайно? Преднамеренно? Много знаю. Слишком много знаю. «Куда везешь?» – кричу. Обернулся ко мне. Не лицо – маска. Глаза узкие. Так, говорит, короче выйдет.
Голос рассказчика становился все глуше, и немочка вздрагивала.
– Кончился лес. Несемся по незнакомому шоссе. Поворот. Еще поворот.
Рука Льва Петровича впилась в немочкину грудь.
– Вроде наши места, – продолжал он рассказ. – Начинаю узнавать. Район не подарочек, выходить страшно. Останавливаемся, вынимаю кошелек, плачу – шофер говорит: «Мало», – и смотрит исподлобья. «Тебе что, еще и приплату?» Червонец сверху сунул. Выходим. Что то будет? Ну ничего. Дошли. И так вот каждый день. В таком напряжении.
Лев Петрович приник к немке.
Через два месяца он говорил:
– Хорошо здесь, но пора и домой. Понимаешь, Гретхен, именно потому, что жизнь в России адовая, я должен быть там, с семьей.
– Но ведь будешь ты опять приезжать? – говорила немочка, плача. – Если сможешь хотеть, привози свою фамилию. Будем что-то организировать.
– Приеду, приеду, – говорил Лев Петрович. – Надо лекции здесь у вас почитать. Через пару месяцев и приеду. Хотя так надолго в России не загадывают. Не та страна, черт побери.
Немочка опять плакала, а Лев Петрович говорил:
– В условиях нашей российской нищеты… Не знаю, впрочем, – перебил он себя, – легко ли взять билеты на поезд?
Еще через месяц немочка с плачем мазала бутерброды в дорогу.
– Ты хотя бы отдохнул. Мысли собирал в своей голове. В лесу шпацирен. Думай про Гретхен.
– Буду писать, конечно. Всего написать не смогу. Жена, да и вообще цензура. Письма вскрывают. Опасно. Так что читай между строк. Ауфвидерзеен.
Старики
Семен Семенович Поддубчиков, генерал в отставке, и Захар Матвеевич Волглый, диссидент, сидят на лавочке в тени акации.
Волглые снимают заднюю террасу на подмосковной даче генерала.
Волглый пристроился здесь плотником. Денег немного, но с генералом договор нехитрый – починить заднее крыльцо и поставить забор.
Работает Захар Матвеич медленно и плохо; он неважный плотник. Специальность была другая, и времени столярничать не было. Научный институт, потом письмо в защиту Чехословакии, потом выгнали из партии, потом крестился и т. д.
Руки Захара Матвеича вечно изрезаны и кое-как забинтованы.
Генерал неодобрительно косится на них.
Ординарец Семен Семеныча метрах в пятидесяти, под сосной, жарит шашлыки. Он в потной синей майке, поверх нее болтается кобура с «Макаровым».
Волглый старается не смотреть в ту сторону. Его коробит.
Он раздражается на генеральское самодовольство, но в тени хорошо, а работать лень.
– Вовремя я из Генштаба ушел, – добродушно говорит Семен Семеныч, – моего шефа, маршала Твердорылова, перевели командовать войсками Варшавского договора. Мне, значит, одна была стезя – к нему под крыло. А это – верный инфаркт. Шурка Стеблов теперь на мое место сел. Я считаю – готовый труп. Ну год-два, и клапана полетят. Без вариантов. А здесь воздух, сосенки. Дерево-то, оно поет. Люблю я дерево и столярную работу уважаю. Завидую тебе, Захар Матвеич.
Волглый усмехается. Всего генералу не скажешь.
– Ведь и у тебя положение нервное, – говорит генерал, подумав. – Поглядел я на твоих дружков, когда сойдутся. Страсть. Этот, брюхастый, сидел, что ли?
– Двенадцать лет, – говорит Волглый.
– А за что ж он, брат, сидел-то? Убил кого?
– Нет, Семен Семенович, он собирал подписи под письмами протеста, хранил у себя рукописи, давал интервью. Только за это.
– Тунеядец, выходит, – шутит Поддубчиков.
– Нет, он был профессором математики.
– Что ж он математикой-то не занимался? Нам математики ой как нужны.
– Правды хотел.
Помолчали.
– А ты, Захар Матвеич, верующий? – спрашивает Поддубчиков, давя комара.
Волглый выдерживает паузу.
– Я, знаете ли, экуменист.
– А, ну это дело хорошее, – Поддубчиков покивал, погладил Волглого по колену, – это дело стоящее. Я сам хаживаю в церковь теперь. Вот за сестру свечку поставить. За Пашку Лучишкина. Под Курском его потерял. Ты где, Захар Матвеич, воевал?
– Я тогда еще в школе был.
– Помоложе, стало быть. А тоже старик. Теперь нам, старикам, только в церковь да на кладбище.
Снова помолчали.
– Жалко будет Прибалтики, если уйдет, – замечает Семен Семеныч, – особенно творожка ихнего, сметанки, вежливость опять-таки. Все с тактом, с достоинством.
Волглый прячет улыбку.
– Все-таки, Семен Семенович, к достоинству полагается и независимость, – говорит он.
– Это конечно, это пожалуйста. За ради бога. Пусть вон независимо походят без штанов. Независимость, она, брат Захар Матвеич, разная бывает. Одна независимость, например, бывает в штанах, а другая без штанов. Не-е-ет, свобода дело хорошее, пока кушать не хочется. Помню, входили мы в Таллинн в сорок четвертом. Цветами все усыпано. С большим вкусом, конечно, встречали.
– Года через два – только с визой, – жестко говорит Волглый.
– Это вряд ли. Хорошо б нам с тобой, Захар Матвеич, до этого позора не дожить.
Генерал кряхтит и встает.
– Пойдем, что ль, Захар Матвеич, подержишь мне доску, а я стругану. Работник ты, прости господи, хреновый. Вся доска у тебя какими-то буграми идет. Давай, что ль, вместе.
Мы тут с маршалом Чеколдыбиным затеяли корзины плести. Будем их за трешницу на рынке толкать. Деньги, вроде, есть, а заняться чем-то надо, верно? Пойдем, струганем, а потом и по шашлычкам вдарим.
Вечером они сидят у тлеющих углей. Ординарец чистит «Макарова», Волглый ест шашлык, а Поддубчиков рассказывает о своих подвигах.
Симулянт
Вчера весь день молчали, только ночью сосед засмеялся и сказал: «Опять в ссаках поплыл», – у него была аденома предстательной железы. Да утром, часов в пять, кто-то развалил полку с анализами, и опять все смеялись. Да еще за завтраком вошел парень с чудовищно распухшими яйцами (я не знаю, как называется эта болезнь) и сказал: «У меня два яйца», – оказалось, принес сваренные вкрутую яйца.
В остальное же время, когда не ели, мои соседи молча лежали по койкам – спали или слушали радио.
Я должен сказать главное: я симулянт, скрываюсь в урологическом отделении больницы от призыва в армию, симулируя мочекаменную болезнь.
Я прячусь здесь десятый день, а притворяюсь который месяц. Мне приходилось изображать почечную колику дома, в поликлинике и приемном покое больницы, бледному лежать на диване, стиснув зубы и обливаясь потом. Мне надо было делать вид, будто глотаю таблетки, держать их за щекой и, выплюнув в клозете, докладывать потом о переменах в здоровье.
Мне надо было сдавать десятки поддельных анализов и часами беседовать с врачами, которые норовили огорошить непонятным вопросом.
Я чувствовал себя загнанным. Мне надоела бурая войлочная пижама и казенное белье с неотстиранными желтыми пятнами. Мне осточертела вонючая палата, уколы, душная подушка, набитая поролоном, обходы врачей, соседи.
Они-то были заодно. Хоть и молчали, а находили общий язык.
Я их сторонился; между нами что-то стояло. Мое вранье.
У меня было много оснований не служить в армии, пожалуй, не хватало только болезни, все остальные были налицо. Я просто не мог себе позволить чему-нибудь такому служить.
Я боялся, что меня поймают, что уже не выберусь, меня закрутило: военкомат, врачи, больница, проверки.
Соседи стали делить курицу, разложив на постели газету.
– Угощайся.
– Нет, спасибо.
Не хотелось есть в палате – пахло мочой. Но дело даже не в этом. Я чувствовал, что после братания курицей начнется дружеский разговор, когда от скуки выворачивают душу. Не люблю.
Я отвернулся и стал глядеть в окно. Небо было серое, по нему носились черные рваные облака, они смешивались с дымом из труб дальних корпусов больницы. Говорили, что дальние трубы – это крематорий.
Я вышел в коридор; подходило время сдавать анализы. Не буду рассказывать всего – слишком долго; в заурядном анализе требуется лишь немного крови. Английская булавка всегда была заколота в рукав, но продырявить себе палец на глазах медперсонала не всегда удается.
Легче сдавать ночные анализы: сестры урологического отделения компенсировали безвозмездный дневной уход за мужскими половыми органами в полночных бдениях с полюбившимися больными. Вздохи и повизгивания из перевязочной мешались со стонами прооперированных из соседней реанимационной палаты.
Днем же сестры были строги, я не мог выдавить из себя ни капли мочи под их взыскующим взглядом, нацеленным в промежность.
Коридор был полутемный, с дребезжащими люминесцентными лампами под потолком. Из палат несло аммиаком, из кабинета заведующего слышались обрывки разговора, и я старался поймать хоть слово – вдруг обо мне.
Я шел вдоль коек больных, тех, для кого не нашлось места в палате. Люди лежали, накрыв лица носовыми платками, чтобы свет не мешал, и оттого походили на покойников. Я шел до конца коридора, до места, где находился аквариум с рыбками, и поворачивал обратно.
Рыбки дергались в мутной темноте взад-вперед, и точно так же продвигались по коридору больные в широких фланелевых халатах чернильного цвета. Они двигались болезненными шажками, держась за недавно разрезанные животы, поправляя катетеры и баночки с мочой.
Иногда подходили к дверям столовой и спрашивали, что на обед, или шли греться на кухню.
Там горела плита, разом на четырех конфорках стоял бак с водой – воду кипятили круглосуточно и варили то суп, то чай, а может, и то, и другое сразу.
Я шел и думал: попался. Или посадят, или пошлют в штрафбат. Не хочу умирать.
– Скоро меня не будет, – сказал я вполголоса.
Стоило просто сказать вслух и самому услышать эти слова, и ощущение неотвратимости охватило меня.
Даже в том, что я сейчас спрятан в больнице, я увидел поступь рока. Нашел, куда прятаться, чтобы выжить. Бездарная симуляция жизни – симулировать болезнь.
И само кривое здание с бетонным забором, и темные палаты, и странные белые колпаки врачей – все представилось гигантской приемной того, где мне суждено оказаться.
Я ходил и твердил про себя эту фразу. С каждым разом она делалась понятнее.
Меня позвали мерить давление.
– Сейчас, – я ускорил шаги и направился к туалету, курить. Тратить кофеин на будничную проверку не хотелось. У меня оставалось четыре таблетки. Поди достань в больнице нужное лекарство. Еще была микстура – великолепная вещь, хороший глоток валил с ног. Но и ее осталось немного. Я перелил ее в пузырек с надписью «Капли для носа» и носил в кармане – если вдруг схватят.
А для дневной проверки – три сигареты в самый раз.
Возле клизменной, куда свозили кресла-каталки и операционные лежаки, я столкнулся с лысым лифтером.
– Косишь?
Я остановился.
– Меня не проведешь. Сам закосил в дурдоме, когда срок навесили за пятнадцатилетнюю. А я считаю, если я маньяк, так что тут такого? – Он был слегка пьян. – Ты боишься меня?
– Нет, – соврал я.
– Портвейн принести? Почки дубит на раз. Перед проверкой самое оно. Приходи в подвал. Девок затащим.
Он смотрел на меня и смеялся. Разговор происходил у шкафа с анализами, его причмокивающие губы почти касались банок с мочой. На банках были наклеены бирки с фамилиями.
– Приходи, не пожалеешь.
Он ушел; я закрылся в туалете и стал курить.
Пока мне измеряли давление, приспел обед. Давали бурый суп и холодную гречневую кашу. Буфетчица выламывала кусок каши из большой кастрюли и кидала на тарелку.
Есть не хотелось; я пошел на кухню, сел у плиты и стал ждать, пока утихнет гвалт в столовой.
Так прошел час или два. Стало совсем темно.
И тут со мной случилась истерика. То есть это, конечно, сильно сказано. Я чуть не заплакал и схватился за лицо руками, но мне стало стыдно. Я встал и принялся ходить по кухне и даже бил себя в грудь, чтобы выбить застрявший там плач.
Попил воды из-под крана и вернулся в палату.
Четверо мужчин лежали по койкам, выставив подбородки, и слушали радио. У них были серьезные сосредоточенные лица. Я вынул из тумбочки вату; соседи злились на меня за то, что я затыкал уши, когда они слушали радиопередачи.
– Ты ненормальный, что ли?
– Вроде того, – сказал я.
Вот что надо было симулировать. А там ведь и выдумывать не надо. Говори как есть. Я прикидывал возможность разыграть шизофрению. Не стал. Все-таки разум – единственное, что остается, думал я. Все остальное – ладно. В мыслях копаться не дам.
– Вертишься на постели, спать не даешь, сука, – продолжал сосед. – Чего крутишься?
Я ответил ему вежливой улыбкой. Я уже жалел, что не пообедал. А ужин – известно какой.
– Где это ты шляешься? Тут врач приходил, тебя искал. Где новенький, говорит. Здоровый, раз бегает. Игнорирует наш мертвый час. Ну ничего, добегается. Симулянтов здесь терпеть не будем, говорит. Пускай, говорит, в Афганистане пыль глотает, сучара.
Я перевернулся на живот и уперся лбом в прутья спинки кровати.
– Мы, говорит, его завтра изотопами просветим. Ультразвуками будем изучать. Мы, говорит, выведем на чистую воду его мочу.
Я пропал, думал я. Я запутался, мне уже не спастись. Да и что за жизнь я пытаюсь спасти?
С болезненной ясностью я вдруг осознал, что вранье за последние годы стало привычным. Я настоящий симулянт. Как бы отчетливо я ни сказал себе это, у меня сохраняется ощущение, что, каясь, я снова соврал.