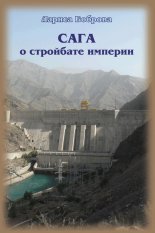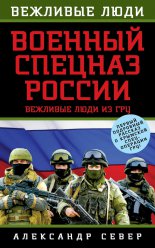Колокола Колман Орландина

Я рассеянно кивнул.
— Два крейцера, — сказал он.
— Что? — спросил я.
— Моя плата. Вы должны мне два крейцера.
— За что?
— За услуги.
— Да тут платить не за что. Любой дурак мог дорогу найти.
— Любой дурак, но не вы. Два крейцера.
— Но…
— Два крейцера. — Он вытянул руку и подошел ближе.
— У меня нет ни пфеннига.
— Я тебя за ногу укушу. — Мальчишка оскалил зубы — желтые, но достаточно острые для того, чтобы исполнить угрозу.
Я попятился.
— У меня нет ничего! — закричал я. — Я такой же бедняк, как и ты.
Он оглядел меня с ног до головы, как будто в первый раз заметив, что на мне была одежда с чужого плеча. Нахмурился при виде моей бедности.
— Тогда отдавай свои башмаки, — потребовал он.
— Нет!
Он бросился на них и, не успел я отпрыгнуть, сорвал один башмак. Очень скоро он повалил меня и, хотя я был вдвое его выше, стащил с меня и второй. Но я тоже вцепился в них и изо всей силы рванул к себе, а он, пятясь, тянул их в свою сторону. И этот маленький звереныш потащил меня за собой по площади, ухмыляясь при этом.
И вдруг он укусил меня за руку.
Я взревел от боли, стал вырываться, и единственная вещь, лежавшая в моем кармане — толстый кусок истекающего слезой сыра, последнее из украденных мною съестных припасов, — упала на землю.
Глаза Лотара полезли на лоб. Он отпустил башмаки и бросился на сыр. Начал рвать его зубами. Я сделал робкую попытку спасти свой завтрак, но он умчался со скоростью ветра.
Я отряхнул от пыли одежду Бориса и поднял из грязи пуговицу. От Лотара в воздухе остался витать слабый запах сыра, и мой желудок забурлил. Я огляделся, и окружающая архитектура очень быстро мне все объяснила: Михаэлерплатц была весьма неподходящим местом для прогулок, если только вам не захотелось посетить имперские казематы. И я повернул к довольно-таки непритязательному на вид театру. На этой площади он был так же не к месту, как морщинистая старуха на роскошном балу.
И все же я почувствовал, как кровь стремительно побежала у меня по венам и затрепетало сердце.
Подошел к нему. Фасад здания был глухой, за то за углом нашлась громадная двустворчатая дубовая дверь — единственное, что по своему размеру соответствовало первому театру империи. Я постучался в эти внушительные двери, но результатом был только глухой звук ударов. Двери передо мной не распахнулись.
Целый час я мерил шагами площадь. Было очень тихо: империя оживала по ночам. Иногда одинокая карета проезжала по Михаэлерплатц. Мул, напрягаясь изо всех сил, тащил за собой телегу, доверху груженную дынями-канталупами. В воротах за театром я заметил пустынную Замковую площадь, но каждый раз, как я пытался незаметно приблизиться, в надежде проскользнуть в них, стражник, стоявший на часах, грозно поднимал брови: А ну-ка, давай попробуй. И я поворачивал обратно.
А потом, когда час уже был на исходе, я заметил нечто странное. На фасаде здания, на высоте моего бедра, располагалась крошечная квадратная металлическая дверца. И внезапно эта дверь распахнулась. Из нее появилась пара рук. За ними показалась голова. Руки опустились на землю, притворившись ногами. А ноги тем временем тоже вылезли из двери, и каблук, подобно ладони, крепко ее захлопнул. Затем обладатель этих перепутанных рук и ног распрямился и куда-то унесся. Я был почти уверен, что это мальчик, поскольку ростом он был не выше, чем хваткий Лотар, но только у этого сорванца оказались мужская борода и целая грива волос.
Едва он скрылся из виду, я внимательно изучил маленькую дверцу и опознал в ней скат для угля, которым уже давно не пользовались. Попробовал подцепить ее ногтями. Попробовал приподнять ее или сдвинуть вбок. Но открыть так и не смог. Я занимался этим уже несколько минут, когда услышал сердитый крик:
— Эй! Не трогай дверь!
Я обернулся и увидел вернувшегося маленького бородача. Было в нем что-то от грызуна. Его волосы и борода были цвета каштана, так же как и заросли волос на груди, видневшиеся из-под распахнутой рубахи. Он был худым и мускулистым. С глазами, как черные бусины, с плотно сжатыми губами и очень плоским затылком. В одной руке он держал каравай хлеба, в другой — кусок колбасы. Колбаса была толщиной с его руку, а каравай хлеба — круглым, как шапка волос на его голове.
— Это, — показал он куском колбасы на дверцу, — дверь императрицы. — И впился в еду зубами. — Хочешь голову потерять?
Я сказал, что терять голову не хочу, но мне очень нужно попасть внутрь театра. И еще сказал, что я — новый ученик Гаэтано Гуаданьи.
Он оглядел меня с головы до ног:
— У тебя тоже яиц нет?
Я покраснел и ничего не ответил.
— Ну, как угодно, — протянул он.
После чего нанес по двери сильнейший удар, и она распахнулась. Он сунул хлеб с колбасой в скат. А потом, будто собираясь поднять с земли медную монету, наклонился и перевернулся вверх ногами: его руки оказались на земле, а ступни — в воздухе, на уровне моего пояса. Потом его ноги согнулись в коленях и исчезли в темноте ската, где они, по-видимому, встали на что-то вроде лестницы. Дюйм за дюймом его туловище стало опускаться в дыру. Когда на поверхности остались только его плечи и голова, я тронул его за плечо:
— Хорошо, все так, как ты сказал.
— Больно, когда их отрезают? — спросил он.
— Да, — ответил я. — Больно.
Он выпучил глаза и откинулся на спину в этом туннеле, будто сурок в своей норе. Его голова словно ввинтилась в плечи, расставшись с шеей. Руки напряглись, как ветви дерева.
— Знаешь, что бы я сделал, если бы кто-нибудь попробовал отрезать мне яйца?
Я не стал спрашивать.
— Я бы рассказал об этом императрице, и она бы его повесила.
— Зачем императрице защищать тебя? — задал я вопрос.
— Она моя хозяйка. Я работаю на императрицу.
— А какая она? — снова спросил я.
— У нее шестнадцать детей. Одиннадцать своих дочерей она назвала Мариями, в честь самой себя.
Я кивнул:
— Ты когда-нибудь с ней встречался?
— Все время ее вижу. Она приходит в театр.
— Нет, ты за руку ее держал?
— Ты что, помешанный?
Он начал сползать еще глубже в скат.
— Тассо меня зовут, — произнес он, когда начала исчезать из виду его голова. — Хочешь позавтракать?
Завтракать мне очень хотелось.
— Только смотри опускай сначала ноги, — завопил он откуда-то из глубины дыры. Голос звучал глухо.
Я немного поразмыслил, как мне исполнить этот акробатический трюк, потом плюнул и полез вперед головой. Туннель был довольно просторным, и в нем можно было передвигаться, помогая себе локтями, к тому же поначалу наклон его не был большим, но как только я забрался туда полностью, то удержаться уже не смог и заскользил вниз. Вытянув перед собой руки, я несся по угольному скату и вопил во все горло. Очень скоро я врезался в землю и расплющился, как колбаса, которую с размаху сунули в кувшин. Взглянул вверх и за своими коленями увидел слабый свет и силуэт маленького человека, печально качавшего головой.
Я испугался, что не смогу выбраться, и захныкал:
— Помогите!
— Хватит извиваться! — закричал сверху Тассо.
Он обвязал мои лодыжки веревкой. Потом послышался скрип ворота, и он потащил меня из дыры. Веревка больно резала кожу. Наконец я выбрался из приямка на старый пол большого зала.
Я лежал на спине в громадной комнате с очень низким потолком. Тассо мог бы коснуться его пальцами, если бы вытянул вверх руки. Мне пришлось сесть на корточки, чтобы не ушибить голову. Карлик покачал пальцем у меня перед носом.
— В угольный скат спускаются ногами вперед, — сказал он. — Всегда. Тебе повезло, что я был рядом.
Он встал и принес крошечный стул, потом дал мне половину каравая хлеба и чуть меньше половины остававшейся у него колбасы.
— А как ты писаешь? — спросил он после того, как я принял его дары.
Я ответил, что писать мне трудности не составляет, и предупредил, что больше не буду отвечать на такие вопросы. И все же я с жадностью продолжал поглощать его еду, одновременно осматривая подземелье. Помещение освещала одинокая свеча. Здесь стояла небольшая плита, а рядом с ней детская кроватка, аккуратно застеленная одеялами. Все это умещалось в одном крошечном уголке громадного зала. Остальное пространство, заполненное зловещими тенями, занимали жуткие на вид приспособления, напоминающие орудия для пыток в темнице. На уровне пояса Тассо комнату пересекал деревянный вал — от ската до самой середины зала; это выглядело так, будто корабельную мачту положили на бок. К его середине была приделана лебедка с торчащими штырями. На вал были намотаны веревки, пропущенные через блоки по краям комнаты и исчезавшие в потолке. В дальнем конце комнаты был расположен кабестан[45] размером с Тассо, от которого через множество блоков в разные стороны отходило множество других веревок. И еще там стояло штук восемь разного размера приспособлений, напоминающих пыточные, и рядом с ними находилось множество блоков и веревок.
Наше дружное чавканье эхом отдавалось в дальних углах зала, как будто среди всей этой машинерии прятались крысы.
— Что это за место? — спросил я Тассо, когда мы закончили есть.
— Догадайся.
Мой новый знакомый вскочил и перегнулся через главный вал. Какое-то время он стоял на руках, потом просунул ногу в свешивавшуюся веревочную петлю и дернул. Его нога пошла вниз, голова — вверх, и в потолке над самым большим из пыточных устройств открылась дверца люка. Показался квадрат черного неба.
— Садись, — велел он.
Я перелез через вал и, едва не запутавшись в паутине веревок, сел на кровать, подвешенную, как мне показалось, к потолку. Тассо схватил одну из петель и помчался в другой конец комнаты. Я увидел, как веревка, проходя через набор блоков, натянулась. Когда кровать неожиданно взлетела вверх, я закричал от испуга, а потом все вокруг внезапно потемнело.
В кромешной тьме я неуверенно поднялся на ноги, слепо размахивая перед собой руками. Ничего. Топнул ногой по деревянному полу. Пол загудел в темноте.
По слуху я определил, что нахожусь в громадной пещере.
Я не смог сдержаться. И запел в темноте арпеджио[46].
Архитекторы, вы возводите концертные залы для публики — вы заботитесь о том, чтобы ей было уютно; и отсюда открывался прекрасный вид на сцену, и кресла были удобны. Такие залы нужно сжечь дотла, ибо посещение их сродни идолопоклонству. Остаться должны только те храмы, в которых поклоняются пению. И краеугольным камнем при возведении этих святилищ должно стать время жизни звука.
В храмах, где молятся другим божествам — в Нотр-Дам, соборе Святого Петра или даже в Штаудаховой церкви, — песнопения эхом отдаются под куполом в течение чуть ли не десяти секунд. Это может вселить в собравшихся страх и любовь к Господу и Церкви Его, но за эти десять секунд звук утрачивает свежесть и выразительность подобно тому, как лежалое яблоко теряет сочность и вкус. И напротив, когда вы поете в гостиных или столовых, звук бьется о стены, ковры и обеденные тарелки так быстро, что не успевает созреть перед смертью.
А теперь представьте себе громадный зал, в который я попал вот в этот самый момент нашего повествования. Здесь время жизни звука было столь совершенным, что он не успевал потерять свежести и не умирал преждевременно — звук длился ровно три секунды. Три секунды пылкой молодости.
Этот Бургтеатр, возможно, был самым святейшим из наших храмов. Конфигурация зала для игры в мяч идеально подходила для пения. Два ряда лож и двойной ярус наверху были сооружены из дерева — камень совсем не использовался, — и даже с шестью сотнями зрителей, сидящими в них, они совершенным образом копировали резонирующее деревянное тело инструмента. Этот зал был узким и длинным, но вовсе не круглым, как в других оперных театрах, и звук, подобно мячу, передаваемому от принцессы к ее кузине, облетал его, пока не отскакивал от мягких изгибов ложи.
Тогда ничего этого мне не было видно — я мог пользоваться только слухом. Пока я осторожно скользил вперед, к краю сцены, у меня за спиной появился Тассо с горящим фитилем в руке. Он начал резво взбираться вверх по приставным лестницам, зажигая масляные лампы на колосниках и в карманах сцены. Театр засверкал.
Двойная галерея опоясывала зал с трех сторон, прямо под искусно окрашенным потолком. Под нею шли еще два уровня крошечных комнаток, наподобие тюремных камер с открытой стеной, в каждую из которых вела отдельная дверь. На полу театрального зала, на задах, стояло несколько рядов скамей без спинок, а перед ними — пара дюжин рядов бархатных кресел.
— Где сидит императрица? — спросил я.
— Вон там. — Тассо указал пальцем на самую большую комнату слева от меня. — Она может входить туда прямо из дворца.
— А кто сидит здесь? — спросил я, указывая на ряды кресел прямо перед собой.
— Горлопаны, — ответил карлик. Он стоял на самом верху лестницы, которая была высотой в два моих роста. — Фанфароны. Мы называем это место «бычьим стойлом». На этих креслах иногда говорят громче, чем на сцене.
— А что это за лавки вон там, почти под самым потолком? Разве оттуда можно что-нибудь увидеть? — показал я на галереи.
— Оттуда и половины сцены не увидишь, — ответил Тассо. — Это галерка, раек, так это место зовется. Наверное, потому, что те, кто там сидит, ближе к Богу, чем к сцене.
— А зачем людей засовывают в эти маленькие комнатки? — поинтересовался я. — Чтобы они не болтали друг с другом?
Он фыркнул.
— Это ложи, — поправил меня он. — И двери там не для того, чтобы держать богатых взаперти. А для того, чтобы не пускать туда бедных. Готов?
— Готов к чему? — спросил я и оглянулся, потому что свет стал гаснуть, становясь из золотистого красным.
Я оказался окружен языками адского пламени. Замершие всполохи огня. Искореженные каменные колонны. Туннель, который вел к яркому свету, в самом его конце сиявшему, как далекая звезда.
Голова Тассо появилась в одном из люков: он был похож на сурка, выглядывающего из своей норы. Я посмотрел вверх, на красные лампы.
— Тонированное стекло, — объяснил он, а затем спросил: — Готов к следующему? — И его голова исчезла, прежде чем я утвердительно кивнул.
Послышался стук его шагов и скрип вала под моими ногами. И в одно мгновение — так быстро, что если бы я мигнул, то и не заметил бы — из мрачного подземелья мы перенеслись на идиллические поля. Деревья, согнувшиеся над ручьем. Поле с мягкой травой, приглашавшее меня ко сну. И как в тот раз, когда пел Гуаданьи, сердце мое наполнилось надеждой. Именно в таком месте когда-нибудь окажемся мы с Амалией.
Голова Тассо высунулась из другой дыры.
— Видел? — спросил он.
— Это все ты сделал? — поинтересовался я, указывая на холсты задника.
— Ба! — вскрикнул он. — Чтобы это сделать, целая армия нужна. Эту честь Куальо себе приписывает. Про Тассо никто не вспоминает. Он только за веревки дергает.
— А как это, — спросил я его, — смотреть оперу?
— Не знаю, — ответил он. — Оттуда, снизу, я ничего не вижу.
— Ты что, ни одной не видел?
Он покачал головой:
— Да мне все равно.
— Не смей так говорить! — воскликнул я. — Когда-нибудь я спою тебе о любви. И тогда ты изменишь свое мнение.
Он моргнул:
— О любви?
— Да, — сказал я, так гордо, как только смог. — О любви.
Он хмыкнул:
— Я могу найти что-нибудь получше, чтобы занять свое время. — И исчез в своей норе.
VI
В девять часов явились три угрюмых работника сцены. И после этого Тассо больше не покидал своего подземелья. Единожды его голова вынырнула из люка, и он прокричал:
— Смажьте каждый паз так, словно сюда должна прийти сама императрица. В три часа появится Дураццо вместе с маэстро! Малейший скрип — и он вам головы поотрывает!
Трое мужчин гуртом ходили по сцене, как будто были прикованы друг к другу кандалами. В одиннадцать появилась немецкая труппа. С час они репетировали, и первые двадцать минут мне было позволено сидеть в «бычьем стойле» и смотреть, но сцены, которые они исполняли, вызвали у меня такие приступы смеха, что рассерженный режиссер резко сказал мне:
— Убирайся! И не возвращайся, пока не научишься вести себя тихо.
В двенадцать часов в театр вошла французская труппа, прервав репетицию своими громкими возгласами. Их игра показалась мне скучной, и, думается, мнение мое не изменилось бы, даже если бы я понимал по-французски. В час сцену занял балет Анджиолини, который при первом знакомстве показался мне просто замечательным, и я готов был смотреть его целую вечность, если бы только Анджиолини не останавливал каждую секунду своих танцоров, чтобы обругать их на своем очаровательном итальянском языке.
Тассо нигде не было видно, но как только кричали: «Свет!» — над актерами, словно солнце, зажигались огни рампы. «Занавес!» — и, как по волшебству, закрывался занавес. Лица моего нового друга я не видел до тех пор, пока в три часа дня не приехали самые великие люди венского театра и Тассо не выглянул из люка, чтобы поклониться своим хозяевам, в которых я признал гостей Гуаданьи. Затем Тассо снова исчез, и до меня донесся только тишайший шорох веревок под сценой, когда Дураццо, Глюк и Кальцабиджи кивнули и начали чесать подбородки в ответ на вопли Куальо: «Хорошо, а теперь дай нам Грецию! Подземное царство. Царство подземное! Поля! Поторапливайся, парень. Ты заставляешь ждать важных людей!» Сцены сменялись плавно, не раздавалось ни единого скрипа. Важные люди хмуро осматривали каждую декорацию, все крепче сжимая свои подбородки. И каждый находил что-то, что не нравилось именно ему. Куальо обещал внести изменения.
Наконец в четыре прибыл Гуаданьи. Я вскочил, чтобы поздороваться с ним, но он промчался мимо меня и остальных. Он желал видеть только сцену.
— Да, — пробормотал он, когда Тассо зажег в Подземном царстве красные огни. — Хмм… Да.
Затем Гуаданьи закрыл глаза, и мы все стали наблюдать за тем, как он, раскачиваясь, движется по проходу между кресел, как будто вызывая в мыслях картины будущей оперы. Когда Гуаданьи открыл глаза и кивнул, все остальные кивнули ему в ответ. Затем он взобрался на сцену и сделал по ней несколько кругов. Махнул рукой, следуя мелодии, звучавшей в его голове, и четыре престарелых господина удовлетворенно хмыкнули.
— А теперь дайте мне поля, — приказал Гуаданьи.
Я услышал, как Тассо стремительно пробежал в своем подземелье. Упал задник, по бокам сцены опустились новые кулисы, огненное мерцание сменилось светом вечернего солнца.
Гуаданьи медленно обернулся и покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Нет.
— Что не так? — спросил Куальо, словно смиренный слуга у государя.
— Вот это все — не так, — произнес Гуаданьи.
Он махнул рукой и отвернулся от прекрасных картин, как будто ему невыносимо было смотреть на них.
— А как не так? — взмолился Куальо, подходя к сцене, но Гуаданьи быстро с нее спустился и промчался мимо Куальо по центральному проходу. Художник крикнул вслед удалявшемуся певцу: — Что не так-то?
Гуаданьи остановился, но не повернулся к нему. Покачал головой.
— Я пою, — тихо произнес он. И взглянул через плечо куда-то в сторону Куальо: — Ты рисуешь. — И твердым шагом пошел к выходу.
Глюк окликнул его:
— Вы не хотите посмотреть все остальное: Грецию? Замок?
Гуаданьи не остановился.
— Не сегодня, — ответил он безучастно. — Не сегодня.
— Но когда же? — В голосе Глюка появилось отчаяние. — Времени для внесения изменений остается все меньше и меньше.
Но Гуаданьи, казалось, не расслышал вопроса. Он направился в фойе. Тут я вышел из тени и встал у него на пути.
— Вы не будете петь? — спросил я его.
Однако он не остановился, и мне пришлось отпрыгнуть назад, чтобы не столкнуться с ним. Я споткнулся о кресла и упал на пол. И на одно, заставившее мое сердце сжаться, мгновение мне показалось, что его предложение, сделанное прошлой ночью, было всего лишь жестокой шуткой.
Гуаданьи внимательно посмотрел мне в лицо, досадуя, что его задержали.
— А! — наконец воскликнул он, и внезапно появившаяся на его лице улыбка растопила мой страх. — Наш швейцарский музико! — Он взял меня за руку и осторожно оттащил от двери, чтобы открыть ее. — Петь? Сегодня? — Он презрительно фыркнул. — Нет, ни сегодня. Ни завтра. Ни на следующей неделе. В конце сентября, возможно. А возможно, что и в октябре. — Он хитро кивнул в сторону мужчин, все еще смотревших ему вслед: — Мой первый урок тебе: никогда не давай им всего, что они хотят, или они сожрут тебя, как клецку. Никогда не позволяй им думать, что они приручили тебя, mio fratello[47]. Никогда. — Он увлек меня и небольшое фойе и ущипнул за руку: — Храбрый охотничий пес, как только его обрежут, тихо лежит в углу. Putroppo[48], именно такими большинство из нас и становится. Перед обедом щекочем принцессу нашим пением, чтобы пить ее вино, а после обеда щекочем ее своими пальчиками, чтобы лечь с ней в пуховую постель… — Гуаданьи покачал головой и поднял палец к моему носу: — Я не такой. Когда герцогиня просит меня спеть для нее — я болен. Это часть охоты. А для того, кто не может убивать, сам процесс охоты — это все. Пойдем. — И он повел меня к выходу.
Сквозь толстые дубовые двери до меня донеслись звуки голодной толпы: кто-то скреб пальцами по дереву, женщины рычали друг на друга, чьи-то голоса кричали: Gaetano, mio Gaetano! Четыре солдата стояли наготове, чтобы защитить нас.
— Позволь им коснуться тебя, — наставлял меня Гуаданьи. — Но никогда не позволяй в себя вцепиться.
Он кивнул, и двери распахнулись.
Женщины и мужчины, ждавшие на улице, были совсем не крестьянами, с которыми я делил кров на набережной. На женщинах были великолепные платья. На их шеях сверкало золото и бриллианты чистой воды. Позади них выстроились в линию кареты, из которых, скрываясь за кружевными занавесками, выглядывали дамы, принадлежавшие к самым высшим кругам общества.
Гуаданьи вступил в самый центр толпы. Солдаты окружили нас и оттеснили собравшихся людей на такое расстояние, чтобы вытянутые напряженные руки могли только слегка прикоснуться к великому музико. Гуаданьи, казалось, видел каждую руку — даже те, что тянулись к нему за его спиной, — и касался каждой. Чьи-то пальцы он сжимал на мгновение. Но ни одна из этих рук, рвущихся к нему со всех сторон, — ни одна из них не могла ухватиться за него. Сжатые пальцы совали ему обрывки бумаги, на которых были написаны любовные стихотворения.
Чьи-то пальцы щипали меня.
Вырывали мои волосы.
Они раздирали на мне одежду, чтобы прижать к своим губам обрывки куртки Бориса, только потому, что я шел рядом с великим кастратом. Их голодные рты, казалось, давились вывалившимися наружу языками — они рвались к нам, как крестьяне за хлебом в голодный год. В толпе было много женских лиц, но иногда встречались и мужские; на некоторых из них были надеты карнавальные маски. Один из этих, скрывавших лицо мужчин протянул кольцо с рубином. Гуаданьи поцеловал камень и положил кольцо в карман. Дамы визжали, когда их отталкивали. Одна возбужденная мадам вцепилась другой в волосы. Заскрипели оси экипажей, из их дверей стайками потянулись девицы.
В этой толчее Гуаданьи выбрал один экипаж. Из дверей ему махнула рукой женщина, и в этом знаке не было мольбы, как у других. Как будто она просто подзывала прислугу. Гуаданьи поклонился и поцеловал ей руку. Казалось, она даже не почувствовала его прикосновения, а просто смотрела поверх его склоненной головы на всех этих поклонников, которые так завидовали ее превосходству. Она была прекрасна в своем платье из тончайшего зеленого шелка и со сверкающими бриллиантами на шее, а в чертах ее лица, похоже, не было ни одного изъяна — только ее бледная кожа показалась мне очень холодной. Я был уверен, прикоснись она к моей шее хоть одним пальцем, я бы вздрогнул от холода. Она была немолода, но по этому гладкому, невыразительному лицу невозможно было определить ее возраст.
— Вы придете послушать нового Орфея? — спросил Гуаданьи.
— Конечно, — обронила женщина. — Наша ложа всегда полна, когда поет Гуаданьи.
Он поклонился.
— А это кто? — спросила она, взглянув на меня.
Охрана оттеснила толпу, но все равно какая-то пылкая девица дернула меня за выбившуюся из штанов рубаху.
— Это, графиня, — сказал Гуаданьи, как будто снимая покрывало с бесценного сокровища, — мой новый ученик.
Что такое? Неужели мой учитель подмигнул этой женщине? Мне не понравилось, как она усмехнулась в ответ.
Гуаданьи обернулся ко мне:
— Позволь представить тебе графиню Риша, самую прекрасную женщину в Вене.
Я уже склонился в поклоне, но, услышав имя, тут же резко поднял голову. Внимательно посмотрел на ее лицо. Ее холодные зеленые глаза, казалось, перехватили мой взгляд.
— Я надеюсь, он поет лучше, чем ваш последний ученик, — произнесла она по-итальянски, и я заметил усмешку на ее лице.
Я вслушался в темноту ее кареты. Кажется, оттуда донесся вздох?
Гуаданьи серьезно посмотрел на нее:
— Он не говорит по-итальянски.
Графиня покачала головой и неодобрительно взглянула на Гуаданьи.
— Ну, — обратилась она ко мне по-немецки, — и как вам нравится иметь такого выдающегося учителя?
Интересно, у ее сына такие же глаза? А эти руки — не касались ли они сегодня моей возлюбленной?
— А он вообще говорит на каком-нибудь языке? — поинтересовалась она у Гуаданьи.
— По-моему, он очарован вашей красотой, графиня.
Она покачала головой и весело улыбнулась мне. Потом снова повернулась к Гуаданьи.
— Я хочу, чтобы вы спели у меня, — сказала она. — Я устраиваю небольшой прием.
— Я ужасно занят, мадам.
— Через три недели, — добавила она. И протянула Гуаданьи сложенный втрое лист бумаги.
Он развернул его, и я увидел, что на нем были написаны цифры. Мне показалось, что по лицу певца скользнуло изумление.
— Большинство людей пишут мне любовные поэмы, — заметил он, — чтобы завоевать мое расположение.
Она пожала плечами:
— Тогда пусть это будет свидетельством моей привязанности, которая простирается так глубоко. — Она говорила совершенно без эмоций.
— Я приму это во внимание, — сказал Гуаданьи. И положил эту бумагу в карман.
Она протянула ему руку, и Гуаданьи снова ее поцеловал. Даже склонившись перед нею, он не спускал с нее глаз.
Она еще раз улыбнулась мне:
— Конечно же, когда вы придете, не забудьте привести с собой вашего очаровательного студента.
Потом она откинулась назад и исчезла во мраке кареты. Карета тронулась, и толпа снова поглотила нас.
Я был так поражен, что даже не мог защищаться. Рубаху под моей курткой разорвали в клочья, пока я прислушивался к звукам Риша: к щелчку закрывшейся двери кареты, к короткому приказу, который графиня отдала кучеру, хлопку кнута, цоканью копыт по булыжникам мостовой.
Гуаданьи смотрел ей вслед.
— Она нелепа, — тихо произнес он, отбиваясь от окружавших нас рук. — Но она очень, очень богата. Полагаю, что я должен осчастливить ее гостей своим голосом.
После того как мы покинули Бургтеатр, Гуаданьи немедленно озаботился тем, чтобы я был соответствующим образом одет — так, как подобает ученику великого кастрата. Его портной-итальянец сшил мне несколько длинных камзолов из тонкой парчи — обычную одежду кастратов. Я внимательно изучал себя в зеркале, пока портной работал с золотыми нитями, — и вскоре по всей груди камзола заплясали обезьяны.
— Идеально, — сказал Гуаданьи, когда я был соответствующим образом украшен золотом и бархатом и обут в остроносые туфли. — Очень изящно.
В тот первый вечер, когда мы в карете возвращались в его роскошный дом, который должен был стать и моим домом в Вене, я спросил его, когда он начнет учить меня итальянскому языку, чтобы я мог петь, в опере. Он подавил улыбку, оторвав взгляд от окна кареты.
— Потерпи, — ответил он. — Тебе еще слишком многому нужно научиться. Пением займемся позже. Пойми, до того как они просто позволят тебе взойти на их сцены, еще до того как они станут слушать твое пение, они должны поверить в тебя. — Он внимательно оглядел меня с головы до ног, и при последних словах его ноздри расширились. — Ты должен стать музико еще до того, как сможешь петь подобно одному из них.
Мы подъехали к его дому.
— Но я и есть, — застенчиво пробормотал я, — я и есть музико.
— Нет, — сердито оборвал он. Цыкнул языком и покачал головой: — Ты — кастрат. Я — музико.
Его пристальный взгляд вынуждал меня оспорить это утверждение. Борис открыл дверь кареты.
— Если вы выучите меня итальянскому, я смо…
Он поднял палец, прерывая меня.
— Я научу тебя тому, что ты должен знать, — сказал он, позволяя мне проследовать за ним в его дом.
Я был его тенью. Так же, как прежде, он нигде не появлялся без своих прекрасных одежд, роскошного экипажа и всегдашней радостной улыбки на лице, теперь он нигде не ходил без меня, тащившегося за ним, как маленькие пушистые chiens[49] французских дам, которых они повсюду водят за собой на поводке.
Две недели он нигде не выступал, и единственным уроком, который он преподал мне, было предупреждение, что он — одно из величайших созданий на земле. Я спал в его доме, обедай вместе с ним, следовал за ним по всей Вене, когда это было ему удобно. А когда его охота требовала интимности, он отсылал меня прочь. Я носил за ним его камзол, когда было жарко, и открывал перед ним дверь, когда поблизости не оказывалось слуг. Я, как привязанный, ходил за ним на приемах, пока восторженная толпа не разделяла нас.
На нашем первом приеме, после того как меня унесло толпой в пустой угол, он внезапно появился передо мной, держа за руки двух сестер — тупых дочерей какого-то герцога. Кажется, пара курносых носов совсем поникла, когда он передал их мне, но, едва он снова скрылся в толпе, они повернулись ко мне с одинаковыми улыбками и произнесли:
— Мы твои навеки.
— Comment t’apelles-tu?[50] — спросила та, что была менее глупа, чем ее сестра.