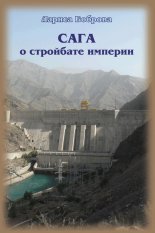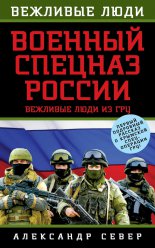Колокола Колман Орландина

Я покосился на нее, желая, чтобы мои уши разобрались с этим простым вопросом, в котором, возможно, заключался секрет моего избавления. К сожалению, это не помогло.
— А… — нашелся я. — Хмм…
Сестрички захихикали и еще нежнее стали прижиматься к моей груди. Я попытался улизнуть, но они просто-напросто вдавили меня в стену. Краем глаза я заметил моего хозяина, мелькнувшего где-то в толпе. Он подмигнул мне.
Я закрыл глаза и притворился колоколом, беззвучно висящим в углу. Когда я снова открыл глаза, почти все гости уже покинули прием, а сестрички нашли себе более покладистую добычу.
Ни на одну секунду я не выпускал из виду свою цель. С помощью своего учителя я должен был получить доступ к тюрьме моей Амалии, но ждать три недели для меня было все равно что ждать целую вечность, и я решил не отказываться от мысли найти другие способы проникнуть туда. Утром, когда Гуаданьи спал или когда он отсылал меня из дома, я слонялся по улице напротив дворца Риша, в надежде увидеть ее в одной из карет, выезжавших из ворот. В своих фантазиях я бежал рядом с каретой и пел, подавая тайный сигнал. «Остановите карету!» — должна была закричать она, потом выйти, и мы бы обнялись прямо на улице. Каждый бедняк в Вене рукоплескал бы нашему воссоединению.
Увы, этому не суждено было случиться. Окна карет всегда были плотно зашторены, и ясные голубые глаза никогда из них не выглядывали. Иногда ночью, крадучись, я подбирался к дворцу и всматривался в его фасад, стараясь изобрести какой-нибудь новый способ незаметно пробраться внутрь. Но мне пришлось признать, что он был накрепко запечатан, лучше, чем любой дом в Санкт-Галлене. Однажды ночью я сделал попытку взобраться по стене, чтобы посмотреть, нельзя ли открыть какое-нибудь из окон наверху. Когда я вскарабкался на высоту в два моих роста, ногти мои не выдержали, и я упал. Утром моя лодыжка опухла и посинела.
Каждый день, в полдень, целых два благословенных часа мой хозяин пел. Большей частью он репетировал партию Орфея из новой оперы Глюка, снова и снова повторяя арии и речитативы, пока не добивался той точности, которой он так славился. Иногда Гуаданьи выбирал другие арии, часто из Генделя, и оттачивал свое мастерство — вероятно, чтобы иметь под рукой оружие, если это вдруг потребуется на его охоте. Я лежал на диване и прислушивался к его исключительной фразировке, разносившейся по всему дому. Я поручал эту музыку заботам своей памяти, в то время как смиренный Борис приносил мне чай и пирожные. «Да, мой господин», — говорил он, когда я просил его принести еще одну чашку. «Нет, мой господин», — говорил он, когда я просил его присесть и выпить со мной чаю. Всего за несколько дней из бедного крестьянина, значительно ниже его по положению, я превратился во второго хозяина, находившегося высоко наверху. Товарищества, казалось, говорил каждый его взгляд, никогда не будет между нами.
Пение Гуаданьи все еще глубоко трогало меня, но очень скоро эти арии стали меня волновать совсем по-другому. Я начал задумываться, как они должны исполняться, точнее сказать, как бы они звучали, если бы их исполнял я. Мой великолепно тренированный слух улавливал ошибки Гуаданьи, которых, сказать по правде, было предостаточно, и то, что я слышал, было смешением его пения и арий, звучащих в моем воображении. Я бы сам исполнил их, и, возможно, я был достаточно неблагоразумен, чтобы показать Гуаданьи, что умею петь. Но хотя мои уши и ловили звуки, мне нужно было сначала выучить итальянский язык, я должен был научиться читать на нем, чтобы улавливать формы и значения слов. А мой единственный учитель скрывал это от меня. Мне нужно было найти другого.
И однажды я нашел его: это был волк, мрачно сидевший в углу.
VII
Я шел по Инненштадту[51], потерявшись в лабиринте его улиц. До полудня я слонялся у дворца Риша, а потом решил отыскать путь домой покороче. Конечно же я заблудился и опоздал к своему хозяину, который без меня отправился на обед к принцессе и ее сестре. Я надеялся найти знакомые места или, по крайней мере, снова встретиться с коварным Лотаром, но улица была пуста или почти пуста, поскольку в дверном проеме стоял какой-то мужчина, уткнувшись носом в книгу. Он явно кого-то ждал. Его лица я разглядеть не мог, мне были видны только его волосатые руки. Одежда, прикрывавшая его тело, когда-то могла принадлежать благородному человеку, но теперь она была измята и висела на нем, как мешок, перевязанный веревкой. Я прошел мимо, окинув его лишь беглым взглядом, но тут он откашлялся и, причмокнув, всосал в себя воздух, как будто это была жидкость.
Тот самый звук!
Он наполнил меня радостью, как наполняет радостью солнце, прорвавшееся сквозь холодные зимние облака. Я оторвал от его лица книгу и бросился ему в объятия. Наверное, он счел меня разбойником и попытался вырваться. Но я крепко сжимал его своими длинными руками.
— Ремус! — закричал я. — Ты ли это?
Это был мой друг! Все тот же сердитый взгляд! Взъерошенные волосы! Кривой нос! Вне себя от радости, я снова повторил его имя. То самое имя, которым его называли только мы с Николаем и которое было для нас как заклинание. Хмурый взгляд смягчился. Лицо, которое никогда не выглядело ни счастливым, ни печальным, вдруг стало и счастливым и печальным одновременно, и он уткнулся в мой воротник. Я тоже зарыдал, зарывшись носом в его растрепанные волосы.
— Мозес! Ты здесь!
— И ты тоже здесь, — воскликнул я. — В Вене!
— В Мелке нас отказались принять. Должно быть, Штаудах написал им письмо. Мы пытались послать тебе весточку, но боюсь, наши письма перехватывали.
— Точно, перехватывали, — подтвердил я.
— Слава богу, ты наконец-то нашелся! Мир так велик!
— Мне так много надо сказать тебе! — поспешил сообщить я.
— Какая на тебе одежда, — воскликнул он, отстранив меня, чтобы лучше рассмотреть мой расшитый золотом камзол, а потом снова обнял.
Он постарел — из-за седых волос это было особенно заметно, — но мне показалось, что он никогда так хорошо не выглядел.
— А Николай? Николай где? — Я в надежде оглянулся, как будто ожидая, что он вот-вот выскочит из дверей, распевая веселую балладу.
Улыбка исчезла с лица Ремуса. Он мрачно кивнул:
— Он здесь.
Его тон насторожил меня.
— Ремус, что случилось?
Мой друг оглядел улицу, и тот старый добрый Ремус, никогда не смотревший мне в глаза, вернулся снова.
— Николай очень сильно изменился. Он болен.
— Болен? — Я сказал это, не веря, что какая-то болезнь могла сразить этого медведя. — Но ему, наверное, скоро станет лучше?
Ремус покачал головой и отвел глаза.
— Скажи мне, Ремус. Я его друг.
Он кивнул:
— Обещаю, я все тебе расскажу. Но будет лучше, если сначала ты увидишь его. Сам решишь. При виде тебя он точно взбодрится.
— Так, значит, он не забыл меня?
— Забыл тебя? — Ремус засмеялся, и смех его был печальным.
Я не помнил, чтобы этот человек вообще когда-нибудь смеялся, и это очень сильно обеспокоило меня. Он положил руку мне на плечо и слегка подтолкнул в нужном направлении:
— Нет, он не забыл тебя. Пойдем, я тут ждал своего студента, но он пил всю ночь и точно не проснется для урока латыни. Отцу своему он об этом не скажет — значит, мне заплатят. Никто не пострадает, кроме святого Августина.
Прошедшие пять лет изменили Ремуса. Он шел быстро и не сомневался, в какую сторону поворачивать, налево или направо, ведя меня по извилистым улицам.
— Вот это принадлежит принцу Лейнбергу, — сказал он, указывая на дворец с пыльными окнами. — А вот это убожество, — кивнул он головой на дворец, на каждом углу которого стояли поднявшиеся на дыбы мраморные кони, — принадлежит графу Курски. Вон то — князю Бархени, а это — графу фон Пальму.
— Почему так много принцев и графов в одном городе? — спросил я его.
Он засмеялся:
— Нет, Мозес. Это не в одном городе. В целой империи. Но даже для империи это слишком много. Кто-то правит своими далекими землями, только изредка наведываясь туда. Другие не могут найти своих земель на карте. А у третьих земли вообще нет, только титул. Люди что угодно готовы сделать, чтобы стать графом. Особенно сейчас, когда императрица нуждается в деньгах, чтобы вести войну. Этот город просто лопается от них.
Ремус вывел меня из дворцовых ворот, и впервые с тех пор, как я приехал в город, мои ноги ступили на зеленеющий травой гласис[52]. Мы оставили за собой каменные дворцы Инненштадта и вошли в плотно застроенный Форштадт[53], дома в котором наполовину были сделаны из дерева. Улицы здесь были более узкими, а звуки, издаваемые людьми, совсем не благородными: повсюду бегали босоногие дети, и матери бранились на них из открытых окон. Для мужчин было предпочтительнее плюнуть на тротуар, чем пачкать плевательницу. Коровы искали себе пропитание на улицах в горах отбросов, вместо того чтобы стоять привязанными во дворах.
Ремус привел меня в ту часть города, которую теперь я могу узнать по самым ее постыдным звукам: пронзительным воплям, которыми зазывали нас женщины, высунувшись из дверей и окон ветхих таверн, расположенных вдоль главной улицы квартала. Ремус заметил, с каким огорчением я смотрю на этих размахивающих руками бесстыдниц.
— Добро пожаловать в Шпиттельберг[54], — сказал он, — наш дом в последние три года. Вообще-то лучше места нам не сыскать, потому что ни одно место на земле не находится так далеко от Штаудахова аббатства. — И в подтверждение своих слов он широким жестом обвел улицу.
Женщины выплескивали ведра грязной воды прямо нам под ноги. Мужчины толкали тележки, воняющие кислой капустой. И помимо всего прочего улицы были заполнены детьми. Они толпами выплескивались из домов, орали из открытых окон, тыкали палками в кучи гниющих отбросов на улице. Стояло лето, и очень немногие имели на себе рубахи, а туфель вообще никто не носил. Маленькая девочка сидела на земле и щекотала другую, которая, должно быть, была ее сестрой, поскольку обеих природа наделила огненно-рыжими волосами. Четверо мальчишек стояли на холме, образовавшемся из развалин рухнувшей таверны, и выкрикивали правила игры, смысла которой я не мог понять.
— Застукали его, — вопил один. — Три камешка! Три!
Рука Ремуса коснулась моего локтя, возвращая меня к разговору.
— Так не всегда было. Сто лет тому назад купцы с юга и востока останавливались здесь, приезжая в имперский город. Эта грязная улица была вымощена булыжником.
Эти серые таверны были выкрашены в яркие цвета.
Во всех дворах стояли повозки. Но турецкая армия держала город в осаде целых восемь месяцев, в тысяча шестьсот восемьдесят третьем году. Они забрали все ценное, а все остальное разрушили. — И Ремус махнул рукой на заброшенную таверну.
От строения не осталось ничего, кроме грязного фасада. Сквозь пустые оконные проемы было видно, как несколько грязных мальчишек с другой стороны разбивают на куски каменную кладку.
— Просто не заходи по ночам в переулки, — продолжил Ремус. — А если есть при себе деньги, следи за карманами.
Мы подошли к нескольким переулкам, поднимавшимся вверх на холм, и на углу одного из них остановились перед маленьким домом из двух этажей. Он был более ухожен, чем многие другие строения в квартале, хотя и наклонился слегка набок. На первом этаже находилось что-то вроде общественного заведения, над дверью было написано всего одно слово: Kaffee.
— Это здесь, — сказал Ремус.
Единственная комната была забита мужчинами, сидевшими на скамьях. Все они пили какую-то горячую жидкость с едким земляным запахом. Казалось, что это какое-то волшебное зелье, поскольку все присутствующие отличались какой-то неестественной живостью. Они стучали кружками по столам и отрывисто переговаривались. В глубине комнаты стоял человек с волосами цвета воронова крыла, исполнявший роль колдуна. Он перемалывал в пыль черные, как смерть, зерна, а потом смешивал ее с кипящей водой из самовара.
Я пошел за Ремусом по лестнице в дальнем конце комнаты. Мой друг остановился и положил мне руку на плечо.
— Не пугайся, — сказал он, этим самым уже напугав меня. — Бывают хорошие дни, бывают и плохие.
Мы вскарабкались по винтовой лестнице. Ремус открыл дверь и пригласил меня войти в комнаты; их было три: гостиная и две спальни. Комнаты были соединены друг с другом, и все вместе казались меньше кельи Николая в аббатстве. В гостиной потолок переходил в балки высокой двускатной крыши. У одной стены был расположен пустой камин. Три маленьких окна были занавешены толстыми шторами, так что комнаты освещались слабым рассеянным светом. Стопки книг стояли на столах и были сложены на полу вдоль стен. В спертом воздухе пахло сухим сеном.
В кресле кто-то сидел, спиной к нам. Человек был таким большим, что даже в темноте я смог узнать своего друга.
— Николай! — промолвил я, и вся тревога исчезла из моего голоса.
Я обошел вокруг кресла, чтобы взглянуть ему в лицо.
С тех пор мне часто приходилось видеть эти устрашающие лица в темных углах самых разных городов мира: одутловатая округлость; следы от язв, которые давно затянулись и стали шрамами; мягкий, бесформенный нос, как будто его хрящ был выеден личинками. Николай был таким же громадным, как прежде, но теперь никто не назвал бы его крепким, он скорее выглядел грузным и оплывшим. Его волосы и борода поседели, кожа была бледной.
— Кто здесь? — спросил он.
Его глаза уставились на меня, но дрожание век говорило о том, что они ничего не разглядели. Мне показалось, что я вижу лишь тень моего старого друга.
— Я открою шторы, чтобы ты мог увидеть меня, — сказал я, стараясь говорить как можно мягче.
— Нет! — воскликнул он, когда я протянул руку к портьерам.
Ремус покачал головой и шепнул мне, что поврежденные глаза Николая не могут выносить света.
И тогда я встал на колени рядом с моим другом, взял его за руку и так близко наклонил к нему свое лицо, что ощутил вязкую бледность сифилитических гумм у него под кожей[55]. Его глаза с трудом сфокусировались на моем лице. Он внезапно вздохнул. Поднял трясущуюся руку и тронул меня за щеку:
— Это правда? Ремус, скажи мне, что это не сон!
— Николай, это на самом деле он. Мозес пришел в Вену.
— Господи, благослови нас!
Николай заплакал, обхватил мою голову опухшими руками и прижал к своей груди. Потом поднял вверх мое лицо, чтобы посмотреть на меня еще раз. Затуманенными глазами он внимательно изучай мои черты, чтобы запомнить их навсегда.
— Ты вырос и стал таким красивым, а я — таким уродливым, — сказал он.
Я не знал, что ему на это ответить, поскольку на самом деле, пойди он в таком виде по улице, люди смотрели бы на него как на чудовище. Я, однако же, никакого отвращения не чувствовал, и так и сказал ему об этом.
— Я заслужил все это, и даже еще больше, — проронил он.
— Чепуха, — постарался успокоить его я. — Все это — чепуха.
Николай посмотрел на Ремуса, потом опять на меня:
— Я только тем и занимаюсь целый день, что сижу здесь и думаю, как я подвел двух моих самых лучших друзей.
— Николай, — резко сказал Ремус, — не начинай этого сейчас. Не надо. Давай будем счастливы сегодня. Мозес наконец-то снова вернулся к нам.
— Я, кроме этого, ничего больше не желал, — произнес Николай, и слезы потекли у него из глаз. — Поэтому могу сказать ему, каким виноватым я чувствую себя за то, что сделал. И за то, что не сумел сделать.
— Не сумел? — удивился я. — Николай, ты был мне как отец. Ты мне жизнь спас! Я никогда не винил тебя ни в чем.
Он покачал головой:
— Я не должен был оставлять тебя с тем человеком. Нам давно следовало уйти из аббатства. Мир был открыт для нас, и мы упустили наш шанс.
— Николай, — взмолился Ремус. — Не сейчас. Ты опять…
— Нам следовало уйти! — зарычал Николай на своего друга и закрыл глаза мягкими опухшими руками.
Волк склонил голову.
Очень скоро руки Николая переместились с лица на виски, и я услышал его прерывистое дыхание. Острая боль пронзила его, и мягкие опухоли в голове стали наливаться кровью. Сдавленный стон, похожий на хрип задыхающегося человека, вырвался из его сжавшегося горла.
Я взял своего друга за руку и попытался успокоить:
— Николай, что я могу для тебя сделать?
Но Ремус уже пошел готовить настойку опия, которая была единственным для Николая средством облегчить боль. Мое прикосновение не произвело никакого действия, Николай всего лишь снова открыл глаза. Его рука отпустила висок и так сильно сжала мое запястье, что казалось, вот-вот раздавит его.
— Пожалуйста, прости меня, — прошептал он.
— Мне нечего прощать.
Ремус уже был рядом и вливал настойку ему в рот. Николай стал жадно глотать свое лекарство. Вскоре его глаза потускнели еще сильнее, а потом закрылись. Он обмяк в кресле.
Несколько минут Ремус и я, лицом к лицу, стояли за креслом нашего друга, потом Ремус поднял подушку и подсунул ее под запрокинувшуюся голову Николая. Его ладонь задержалась на щеке друга, и такого, столь несвойственного мужчине нежного жеста мне еще видеть не доводилось.
Ремус печально улыбнулся.
— Хорошо, что ты здесь, Мозес, — сказал он.
Я обнял его. Его тело было напряжено и не отзывалось на мое прикосновение, зато рука не отпускала моего плеча несколько секунд. Он вытер слезы и посмотрел в сторону, как будто устыдился этого. Я подвел его к небольшому, заваленному книгами столу. Он сел на стул, я — на другой.
Несколько минут мы молчали.
— Сорок пять лет, — внезапно начал Ремус. — Это очень трудно осознать. Больше сорока пяти лет он провел в этом аббатстве, и почти все время говорил о том, что нужно уходить. Он чудом там оказался — как-то ночью его, ребенком, подкинули в церковь. Аббатство — не сиротский приют, но для Николая сделали исключение. Когда я в первый раз встретил его, он уже был гигантом. Он был единственным послушником, который говорил со мной. Я понял, что его стремление увидеть белый свет было непреодолимым; должно быть, мы лет тридцать говорили об этом почти каждый день. Тридцать лет! И все же мы всегда оставались — только из-за меня, из-за моих книг, потому что мне нужна была тишина. А когда мы наконец покинули аббатство и направились в Рим, каждый день, начиная с самого первого, мне хотелось повернуть обратно, даже несмотря на, то что я был счастлив в каждое мгновение нашего путешествия. Господи, я был так счастлив в Ватикане! Но я каждый день говорил ему: «Николай, мы должны возвращаться домой! Я хочу домой!» — Ремус закрыл рот рукой. Сделал глубокий вдох и продолжил: — Понимаешь, я никогда не задумывался над нашим положением. Я был таким дураком. И только когда они в Мелке не приняли нас, только тогда я внезапно понял: мы оставались в аббатстве ради него, а не ради меня. В тот день мы пошли пешком к Дунаю, и меня охватил ужас. «Николай, мы должны вернуться обратно! — воскликнул я. — Обратно в горы. Какой-нибудь монастырь примет нас!» Я бы пошел куда угодно, в любой вонючий свинарник, называющий себя аббатством. Нет книг? Мне все равно. Я бы жил с ним в пещере, вдали от людских глаз. «Мы найдем другое аббатство, — сказал я. — Штаудах не мог разослать письма во все». — «Чепуха, — отвечал он. — Разве ты не видишь! Господь посылает нас в Вену! Мы свободны! Наконец-то мы свободны!» Мозес, эти слова были для меня как проклятие, приговор был вынесен.
Несколько секунд Ремус молча смотрел на меня. Наверное, и я первый раз в жизни так пристально смотрел ему в глаза. На этом мрачном лице слезы, казалось, были так не к месту.
— Из-за него я потерял веру в Бога, Мозес, — прошептал он, наклонившись ко мне. — И та святость, за которую я полюбил его с первого дня нашей встречи — мне тогда было пятнадцать лет, и мой отец заплатил настоятелю, чтобы его чахлого сына навсегда заперли в аббатстве, — эта самая святость в городе превратила его в зверя. Он человека убил. Только ему не говори. Он не помнит. Какой-то мужчина обозвал шлюху шлюхой, а потом плюнул ей в лицо. Николай выбросил этого человека на улицу. Всего один удар, и он сломай ему шею. И пока я оттаскивал тело к реке, все приветствовали его и покупали ему выпивку.
Его любили. Он пил герцогское шампанское и крестьянский шнапс. Мы не нуждались в деньгах. Он все улыбался и шутил. «Святой Бенедикт со своим волком!» — кричали нам из окон дворцов, и, даже если было совсем поздно, мы должны были зайти к ним и выпить. И спеть. Очень часто он оставался на ночь. Мужчины, женщины. Князья, шлюхи. У него на всех хватало любви.
Когда пошли язвы, он внезапно ко всем охладел. Один любовник прислал ему врача, и тот так накачал его ртутью, что он целый месяц есть не мог. Остальные его забыли и не вспоминали о нем, даже когда он стучался к ним в дверь. Наконец он засел здесь и перестал выходить на улицу. Он мог часами смотреть на новую язву — наблюдал, как она растет. Он смотрел, как уходит его красота, целыми днями не отрывался от зеркала.
Потом, в какой-то из дней, через год после всего этого, язвы исчезли. И несмотря на свой ужасный вид, он снова начал орать на улицах. Он врывался на вечеринки и кричал: «Я исцелился!» Но он не исцелился. У него начало мутнеть в глазах, и он не мог выносить даже самый слабый свет. Пошли опухоли — по рукам, по шее, — и вместе с ними появились боли. Я просыпаюсь от его стонов. Потом начал размягчаться нос. Кажется, что его кости просто растворяются. Он может мять нос пальцами, как глину.
Ремус отвернулся, и мы оба посмотрели на нашего спящего друга. Его кресло было очень большим, но казалось, что в нем сидит ребенок: руки гиганта беспомощно свесились, ноги раскорячились. Подушка соскользнула на пол, и его голова упала на грудь.
— И вы остались совсем одни, — сказал я.
Ремус кивнул:
— Но разве это не то, чего я желал? Только он и я, и больше никого. Наша уединенная пещера. Наверное, мы получили то, что заслужили.
VIII
Когда стояла хорошая погода и Гуаданьи ничего не отвлекало, он велел мне садиться в карету, а кучеру — везти нас в Пратер или в какой-нибудь другой королевский парк, где ему позволено было гулять, и мы часами катались по дорожкам, которые император приказал проложить для охоты. Я ненавидел эти дни, поскольку лишался возможности бродить по улицам вокруг дворца Риша. Пока мы разъезжали в карете по дорожкам парка, я только и думал о том, что этот день может быть тем — самым единственным днем, когда моя возлюбленная решит сделать несколько шагов по улице.
Как-то в один из этих дней, забравшись глубоко в чащу Пратера, где только пение птиц да шорох колес экипажа по гравию были моим единственным развлечением, я решил показать своему хозяину, что у меня тоже есть мозги. И еще пылкое сердце. Я решил поднять в нашем разговоре тему, для нас обоих чрезвычайно важную.
Я спросил у Гуаданьи:
— Синьор, а кто кастрировал вас? — И затаил дыхание, ожидая, какая последует реакция.
Мой хозяин закрыл глаза и покачал головой.
— Mio fratello, — ответил он, — ты никогда не должен задавать музико подобных вопросов.
Я извинился и захлопнул рот на замок.
Но потом он улыбнулся.
— Прости меня, — промолвил он. — Откуда тебе знать о подобных правилах? Из многих людей ты единственный, кто заслуживает ответа. И я тебе отвечу: меня кастрировала Италия.
В воображении моем возникла армия из одних Рапуччи, несущаяся по италийским землям под предводительством злого царя с митрой на голове. Но мой хозяин имел в виду не это.
Он предостерегающе поднял палец:
— Mio fratello, кастраты существуют так же давно, как и ножи, которыми их режут. Ни одна культура не была свободна от этого варварства, но только такие, как ты и я, — особое сословие среди кастратов. Вдумайся: в Древнем Египте, в Греции и Риме, в Индии и в исламских землях кастрация всегда была оскорблением. Быть обрезанным — это значило стать чем-то более малым, чем-то более простым, прирученным Как-то в Лондоне, — продолжал он, — один человек рассказал мне о китайских евнухах, которые составляли целое сословие слуг в тех землях. После того как все было сделано, мальчики получали свои члены, заспиртованные в глиняных кувшинах. Они всегда держали их при себе. Ставили на полку в своей комнате. Называли это Пао. Когда они хотели получить повышение или сменить род занятий, они приносили Пао своему новому хозяину, который поднимал крышку и внимательно смотрел на то, что этот человек потерял, как будто это было свидетельством его достоинств.
Я сглотнул слюну и оттянул пальцем воротник рубахи. Гуаданьи засмеялся.
— Тебе противно? — спросил он. — А почему тебе противно?
— Потому что они должны были… хранить это, — прошептал я. — В кувшине?
— Да, — подтвердил он. — В спирту. Кажется, они меняли жидкость раз в год, чтобы она не мутнела. Каждому хотелось рассмотреть это во всех подробностях.
— Пожалуйста, давайте больше не говорить об этом, — взмолился я.
Гуаданьи хмыкнул.
— Хорошо, — согласился он. — Не будем больше говорить о Пао. Я тебе лучше расскажу о Греции и Риме, об этих знаменитых цивилизациях. Там резали мальчиков, как будто подстригали кустарник, штук по пятьдесят или больше за раз, поскольку десятка два из каждой партии погибали от ран. Разрезать до брюха — так у них это называлось. Оставалась только маленькая дырочка. По тогдашним представлениям, это увечье усмиряло, и такие рабы были самыми желанными. Они не копали землю и не мыли полы. Разряженные в золото, лоснившиеся от благоуханных масел, они кормили своих хозяев, наливали им вино, растирали уставшие спины. Их тела были сосудами для развлечения хозяев. Из этих хозяев Нерон, наверное, был самым известным. Был у него мальчик-раб, Спорус, которого он любил больше всех остальных. Невинное, прекрасное дитя. Он приказал своему хирургу, чтобы тот вырезал Спорусу его мужской орган, весь, без остатка, и, когда мальчик выздоровел, Нерон надел на него покрывало невесты и женился на маленьком евнухе. И лишил девственности на императорской постели.
Тут уж у меня совсем перехватило дыхание. Я слышал, что многих мальчиков постигла такая же несчастная участь, как и меня, но сейчас понял, что очень многие страдали еще сильнее, намного сильнее.
— Можно остановиться ненадолго? — слабым голосом попросил я. — Я хочу немного пройтись.
— Но это еще ничего, — продолжал резать по больному мой хозяин, и его ровный голос, казалось, пригвоздил меня к сиденью. — Нерон и Спорус. Очень даже мило, если принять во внимание другие примеры. Прочти Евангелие от Матфея. Апостол чтит благородных «скопцов, которые сами сделали себя скопцами»[56]. Господи! Одно дело, когда тебя режут, и совсем другое, когда ты режешь себя сам. И сколько таких, кто искромсал себя кинжалом после этой Матвеевой премудрости? Тысячи. Ученые, мистики, просто дураки. Я читал об одном экстатическом ритуале в древней Анатолии: в День крови мужчины собирались на горе, все вместе, как-то молились, вверяя себя заботам Бога, и отрезали себе всё осколками глиняных кувшинов.
Я открыл дверь, чтобы глотнуть немного воздуха, хотя карета все еще тряслась по ухабам. Мелкий дождик запятнал мои туфли, но воздух был как прохладная влажная ткань, которую положили на мой пышущий жаром лоб.
Гуаданьи рассмеялся и потянул меня за завиток волос, как мог бы сделать это мой брат:
— Mio fratello, не задумывайся над этим! Разве ты не видишь? Эти несчастные не могут сравниться с нами. Мы — из другого сословия: их презирали, как рабов, а нас за это же превозносят, как богов. Даже тебя, хотя ты еще не богат и никому не известен. Никто никогда не заставит тебя показать то, что ты потерял. Твой хозяин никогда не посмеет осматривать тебя. Никто не прикажет тебе лечь на кровать лицом вниз. Твоя боль пропала много лет назад, и от своей раны ты не умрешь. — Он взял мою руку в свои и протянул ее к свету: — Посмотри, mio fratello, что этот разрез дал тебе. Ни у одного мужчины нет таких прекрасных рук. Таких изящных пальцев. А посмотри на это. — Он прикоснулся к своей щеке, слегка подкрашенной, чтобы усилить ее природный румянец. — Ни у одного мужчины нет такой чистой кожи, как эта. Прыщи — это бич для некастрированных. Более того, посмотри, какие они все маленькие и какие высокие мы. — Он положил руки себе на грудь, выпиравшую из-под расшитого золотом камзола: — У какого еще мужчины такая громадная грудная клетка? Мои легкие в два раза больше, чем у любого, даже самого лучшего в мире, некастрированного певца. Да, со мной обошлись жестоко. Но именно волшебство этого разреза сделало наши ребра такими длинными. И вот еще что: пока мы поем, наше главное сокровище спрятано. — Он поднял палец и взглянул на меня, как будто призывая догадаться, куда он им укажет. Наконец он приставил его к центру своей шеи. — У них есть эта мерзкая, подпрыгивающая штука, la pomme d’Adam[57] выпирающая из горла. И они думают, что в этом кривом выступе зарождается голос! Но их горло так же не приспособлено для пения, как скрипка с расщепленным грифом. — Он погладил свое горло, как будто это была спина кошки. — А у нас же, напротив, гортань не опускается вниз и висит в том месте, куда Господь ее повесил. Разве ты не видишь! — воскликнул он и сжал мне руку. — Наше пение делает нас иными, если сравнивать с кастратами других веков. Их резали потому, что они были бедны, или красивы, или несчастны. Со мной это случилось потому, что в детстве я пел как соловей. А сейчас, в Вене, они просят меня быть их Орфеем! Я пел Орландо, Соломона, Юлия Цезаря. Это боги среди людей! И я не их раб. Я не их слуга. Я — их герой. Я — их ангел. Я тот, кого они видят в своих снах. О, и как легко им любить меня! Любовь между женщиной и мужчиной в лучшем случае скучна, в худшем — грязна и постыдна. Но когда с ними я, их желание становится бурлящим потоком. Страх не сдерживает их. В такую ночь не будут зачаты дети, никто никого не женит на себе насильно, не будет вечного позора. Они знают, что утром воспоминания об этих удовольствиях будут чисты и никакого сожаления не появится. Бог не может неодобрительно относиться к ангелу, принимающему участие в их сладострастных грезах. И поэтому я не только пою Орфея, я еще исполняю и роль Вакха. Иногда их тупые мужья высмеивают меня — я слышал, как они говорили, что мой меч не может уколоть. Они просто глупцы! Потому что этот, проникающий в женский таз тычок, который они считают величайшим подвигом, может быть кое-чем заменен и даже улучшен.
Гуаданьи ухмыльнулся, как будто перед глазами у него возникла картина, служившая подтверждением его бахвальства. Он стал смотреть в окно, пока улыбка не сошла с его губ, а потом снова повернулся ко мне:
— Так о чем ты спросил меня? Ах да: кто меня кастрировал? Я уже ответил тебе, что это Италия сделала меня тем, кто я есть. Я не могу винить ни моего отца, ни труппу комической оперы, которой он меня продал, ни цирюльника, которому заплатили, чтобы он подрезай меня. Конечно же я надеюсь, что все эти люди сейчас в аду, но это было бы слишком малым вознаграждением — и для меня, и для тебя, и для тысяч других мальчиков, которых каждый год подрезают на землях Италии. Mio fratello, их режут из-за красоты их голоса. Их режут потому, что каждый вечер в каждом итальянском городе на сцене поют ангелы, и каждый мужчина, у которого есть сын, возвращаясь домой, думает: А не может ли и мой сын тоже стать ангелом?
Прохладный ветер охладил меня, приступ прошел, и я снова поднял глаза на своего хозяина. Его гладкое лицо было таким же собранным, каким оно обычно бывало на сцене, но в его голосе я почувствовал легкую дрожь. Сейчас он смотрел в окно, как будто говорил уже не со мной, а с самим собой.
— Я часто спрашиваю себя, — сказал он, — когда выхожу на поклоны, скольких мальчиков я кастрировал сегодня вечером своим голосом?
IX
Когда я попросил Ремуса выучить меня итальянскому языку, он воспринял мою просьбу с исключительной серьезностью. Мы занимались по два часа в те дни, когда я не был нужен Гуаданьи и мог выбраться к своим друзьям. Ремус, занимавшийся со мной итальянским, оказался учителем еще более требовательным, чем Ульрих, с которым я постигал искусство пения. За словами и предложениями он видел некую четкую структуру, одинаковую для самых разных языков, — и это находилось за пределами моего понимания. Но все-таки язык строится не из слов, а из звуков, и вот в чем был мой дар: я тотчас же узнавал все основные звуки, и, хотя после двух недель учебы, Данте оставался для меня все так же непонятен, читая его вслух, я начинал схватывать отдельные сгустки смыслов: король, захлебывающийся в свином пойле; ревущий сицилийский бык; тысячи задыхающихся посиневших лиц[58].
— Его итальянский уже лучше, чем твой, Ремус, — вскоре пошутил Николай, сидевший в своем кресле.
— Произношение не имеет значения, — возразил Ремус, — если он не понимает того, что говорит.
— Я тоже этого не понимаю, — сказал Николай из темноты, потому что из-за его глаз мы зажигали только одну свечу, — но то, что он читает, просто прекрасно. Это что-то о бессмертной любви?
— О распутстве и сладострастии, — ровным голосом ответил Ремус. — Стоны, слезы, жалобы. Здесь страдают те, кто предавался плотским утехам. Без всякой надежды на облегчение боли, без надежды, что это когда-нибудь кончится.
— Как мы счастливы, Ремус, что ты с нами, — произнес Николай. — Иначе бы мы приняли низменную похоть за самую настоящую любовь.
— Продолжай читать, Мозес. Не обращай на него внимания.
— А в этой мерзкой книге хоть что-нибудь есть о настоящей любви? — спросил Николай.
— Во всех ее видах, — нашелся Ремус. — Разделенные любящие сердца, неутолимые страсти и преклонение перед недосягаемой возлюбленной.
— Возьмите другую книгу, — с негодованием потребовал Николай. — Я хочу, чтобы любовь была сейчас. Данте мертв. Ад далеко. Нельзя ли рассказать мне о чем-нибудь другом, чтобы я мог это ощутить?
— Читай, Мозес.
Я открыл книгу, но руки мои дрожали. Расскажи им! Прямо сейчас! Расскажи им о ней! Мне очень хотелось, но я не мог. Я знал, что они не засмеются надо мной, но боялся увидеть в их глазах удивление. Ты? Влюблен? В кого?
Они, конечно, этого не произнесут, но это будет сказано мысленно.
Как-то вечером, когда в Бургтеатре по программе не было ни оперы, ни балета, ни театрального представления, я уговорил Тассо оставить свое подземелье и прийти к нам в Шпиттельберг. Он резво поскакал за мной по улицам, стараясь держаться в тени, как будто боялся, что какой-нибудь ястреб бросится на него с небес и унесет.
Когда я провел карлика вверх по лестнице в полутемную гостиную, он остановился на пороге и внимательно осмотрел комнату, как человек, оценивающий корабль, на котором собирается плыть. Ремус поздоровался с нами и протянул Тассо руку, но рабочий сцены ее не принял. И стал рассматривать громадную фигуру, находившуюся за спиной у Ремуса.
— Это что, два мужика, — спросил Тассо, — и больше никого?
— Да, только мы двое, — ответил Ремус.
— И что, женщин нет?
— Нет.
Тассо внимательно посмотрел на Ремуса. Дернул носом.
Николай, не поворачиваясь, крикнул:
— Мозес, это тот самый карлик, которого ты собирался привести, чтоб мы с ним познакомились?
— Да, — неловко промолвил я. — Эго Тассо. Из театра.
— Давай, — заорал Николай, — заходи! Это правда, что ты знаком с императрицей? Расскажи нам о ее дочерях!
Тассо взглянул на Ремуса. Показал пальцем на Николая:
— А что случилось с твоим мужем?
— Он мне не муж, — сердито ответил Ремус и покраснел, чего прежде мне никогда не доводилось видеть. — Он болен.
— С головой у него не все в порядке, — бросил Тассо и прошел мимо Ремуса в комнату.
— Мозес, — сказал Николай, — мне нравится этот мышастик.
Тассо сел рядом с Николаем в кресло Ремуса.
— Это надо отпраздновать! — воскликнул Николай. — Мозес, спой! Нет, нет, подожди, нужно еще кое-что для настроения. Ремус, спустись-ка вниз и скажи, чтобы герр Кост приготовил нам свое самое наичернейшее зелье.
Несколько минут спустя Ремус появился с четырьмя кружками, в которых дымилась черная жидкость, напоминавшая смоляные озера в Дантовом Аду.
— Сахар, — наставительно произнес Николай. — В этом весь секрет, чтобы вы смогли протолкнуть это зелье себе в глотку.
Мы растворили в каждой чашке по нескольку кусков сахара. Тассо зажимал нос, пока пил. Я же смог это проглотить, только удвоив порцию сахара, что превратило напиток в сладкую тину. Но когда он был проглочен, не прошло и минуты, как волшебство начало действовать: полутемная комната начала пульсировать. Мне показалось, что я больше никогда не засну. Тассо тихонько захихикал.
Николай затряс головой, как будто в ней зажужжал шмель.
— Спой нам, Мозес, — попросил Ремус.
Я улыбнулся. За все эти годы, что я знал его, он никогда не просил меня спеть, и сейчас, когда это снадобье билось в моих венах, мне захотелось, чтобы звук вырвался наружу.
Я встал перед ними и окатил трех моих друзей своим пением. Николай откинулся назад и закрыл глаза. Тассо сидел, болтая ногами, которые наполовину не доставали до пола. Ремус, прислонившись к стене, покачивал ногой в такт музыке, и слезы радости стояли у него в глазах.
X
Наконец наступила та ночь сентября, которую нам предстояло провести у графини Риша. Гуаданьи нарядил меня в красный бархатный камзол с вышитыми на груди золотыми рычащими львами.
— Чем ты озабочен? — спросил меня мой наставник, когда мы громыхали по ночной Вене в его карете. — Тебя не будут просить спеть.
Его лицо было спокойно, одежда изысканна.
— Ничем я не озабочен, — ответил я. И стал крутить пуговицу на своем камзоле. Она оторвалась и осталась у меня в руке.
Он неодобрительно покачал головой:
— Постарайся не быть таким занудой. Охота, mio fratello, это все.
Миновав ворота, мы проехали во внутренний двор, и привратник-великан — тот самый, что менее двух месяцев назад выбросил меня на улицу, пообещав разбить мне рожу, если встретит еще раз, — лично распахнул дверь нашей кареты. Я был так напуган, что ступил мимо подножки кареты и упал. Прямо в его затянутые перчатками руки. Он поймал меня, и наши лица приблизились друг к другу, будто мы были любовниками. Он узнал меня и чуть не задохнулся от потрясения.
— Мой господин, — только и смог сказать он, ставя меня на ноги.
Гуаданьи повел меня во дворец, в сравнении с которым дом Дуфтов казался жилищем пещерного человека. Полы в нем были орехового дерева, стены обиты красным шелком, а дверные рамы и столы изукрашены золотом. Парадная лестница вела на верхние этажи здания. Там я задержался, прислушиваясь к звукам, которые мне очень хотелось услышать, но Гуаданьи потянул меня за рукав дальше.
Я проследовал за ним в бальную залу. И сразу же налетел на него, когда он начал с кем-то раскланиваться. «Болван», — прошипел он сквозь сложенные в улыбку губы, и все сразу повернулись поглазеть на нас. Я улыбнулся и слегка согнулся в талии, как будто у меня заболел живот. Потом он начал свой танец, и женщины хихикали, когда он прикасался губами к их рукам, а мужчины краснели и нервно сглатывали, когда он им подмигивал.
Я начал слоняться по зале, и меня толкали и пихали локтями, как будто я был плывущим по течению бревном. Я старался услышать все. Щелканье мужских каблуков по твердому ореховому полу. Шорканье белых мысков женских туфель по отделанным рюшем кромкам бальных платьев.
— Я не переношу поездок в свое имение, — говорил один князь. — Это так далеко от всего, что воистину имеет какое-то значение в жизни.
— Уголь превращается в пар? — вопрошал другой. — Или пар в уголь?
Я натолкнулся на кружок морщинистых вдов, которые, зафыркав, направили меня к нескольким дамам с чрезмерно накрашенными лицами.
— Я не понимаю, — сказала одна из них. — В деревне у них есть поля, дома, вода, чтобы мыть детей, а они все настырно лезут сюда, чтобы жить здесь.
В небольшом отдалении несколько девиц восхищались свежеиспеченным герцогом.
— Папенька сказали, что титул стоил ему огромных денег, — прошептала одна, а другие облизнули губы. — О, как бы я хотела стать герцогиней!
Я заметил графиню Риша, которая промчалась сквозь толпу, преследуемая жадными взглядами мужчин. Господин с медалями на груди вытянул ей вслед руку и чуть не упал.
— О, графиня, — мямлил он. — Не могли бы вы на минутку…