Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» Вишленкова Елена
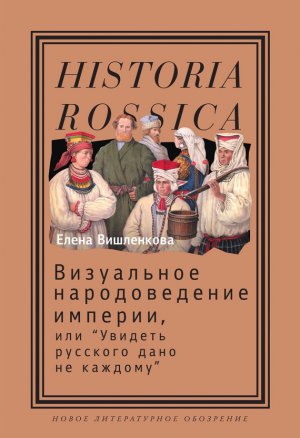
Редакционная коллегия серии
HISTORIA ROSSICA
Е. Анисимов, В. Живов, А. Зорин, А. Каменский, Ю. Слёзкин, Р. Уортман
Индивидуальный исследовательский проект № 10-01-0023 «Визуальное народоведение Российской империи второй половины XVIII – первой трети XIX века» выполнен при поддержке программы «Научный фонд ГУ-Высшая школа экономики»
Тане посвящается
Благодарность автора
Эта книга обогатила меня новым опытом научного письма и новыми формами научного общения. В силу своей специфики исследование долгое время не позволяло мне воспользоваться традиционными для историка способами апробирования научных результатов посредством их предварительной публикации в виде статей, тезисов докладов и выступлений на конференциях.
У меня не получалось публиковать фрагменты исследования, не закончив целого. Дело в том, что в результате нахождения новых источников или более гибкого и глубокого анализа уже описанных артефактов концепция темы постоянно корректировалась, порой довольно радикально меняясь. К тому же мне не давались краткие доклады для многолюдных конференций, потому что ограниченная временем тезисная форма не позволяла слушателям-зрителям довериться моим выводам. Вырванные из контекста общего повествования и связей с другими сюжетами отдельные фрагменты исследования, как мне казалось, утрачивали убедительность.
Все это меня удручало, поскольку культурные исследования требуют тщательной защиты от произвольности авторской интерпретации, то есть их проверки и перепроверки. В связи с этим пришлось искать новые формы обсуждения полученных результатов и сделанных выводов. Во-первых, ими стали мои лекции и семинары сначала в Казанском государственном университете (2004–2008), а затем в немецких университетах Тюбингена (2006), Майнца (2008) и Берлина (2009). Моими студентами были историки, теологи, филологи и историки искусства. Их пытливые вопросы, свежий взгляд, комментарии и доклады позволяли выявлять уязвимые места интерпретации, побуждали искать более убедительную аргументацию, заставляли проводить параллели и сравнения с западноевропейской визуальной культурой. Я благодарна всем моим слушателям и соучастникам исследования.
Во-вторых, мне очень помогли опытные коллеги – организаторы международных научных семинаров: профессора Зива Галили и Джоанна Рыгульска в университете Ратгерс, профессор Ричард Уортман в Колумбийском университете, профессора Дитрих Байрау и Клаус Гества в Университете Тюбинген, профессор Ян Кузбер в Университете Майнц, профессор Бергард Бонвеч в Германском историческом институте в Москве, профессор Гертруд Пикхан в Свободном университете Берлина и профессор Ирина Савельева в Высшей школе экономики. Развернутое обсуждение на их научных мероприятиях методов анализа визуальных источников было неотъемлемой частью работы.
Еще одной эффективной формой помощи явились «внутренние» рецензии на мои рукописи редакторов журнала «Ab Imperio» и стимулированные ими мои отзывы на книги, посвященные визуальным исследованиям. Перекрестное обсуждение методологии изучения визуального языка описания нации, технологии создания визуальных образов и отдельных методов анализа графических источников придало мне чувство профессиональной уверенности.
И наконец, новой устойчивой формой научного общения по теме стала электронная переписка. Совершенно необходимыми для меня были обмен мнениями и рекомендации знатока российской истории Александра Каменского, специалиста в области психологии визуального Галины Орловой, исследователя европейского национализма Андрея Доронина, тонкого аналитика интеллектуальной истории Российской империи Марины Могильнер, эксперта в области гендерной истории Александры Суприянович. Мне помогла в оформлении книги библиограф-исследователь Юлия Лексина. За время работы над этой книгой изменилась моя жизнь. С 2009 года я работаю в Институте гуманитарных историко-теоретических исследований НИУ – Высшая школа экономики, в котором обрела друзей и единомышленников.
Всем им, а также моей семье и друзьям я выражаю свою искреннюю благодарность.
Эту книгу я посвящаю памяти моей рано ушедшей сестры, талантивого историка Татьяны Шанской.
В разные годы данное исследование было поддержано грантами фондов Герды Хенкель на чтение лекций в Университете города Тюбинген и ДААД на изучение научной литературы и музейных коллекций в Германии, а также стипендией Германского исторического института в Москве на проведение архивных изысканий.
В тексте книги все источники, кроме переводных, цитируются в орфографии и пунктуации оригиналов.
ВВЕДЕНИЕ
Российская империя как опыт и как пространство взаимодействия человеческих групп может быть представлена в разных ракурсах. Обращаясь к визуальной перспективе, мне представляется необходимым сфокусировать взгляд читателя, познакомив его с нетривиальным объектом изучения, а также с особенностями позиции и исследовательской оптики автора данной книги.
Панорама исследования
Какие образы возникали в воображении человека XVIII в., когда он представлял себе Россию?
Этот вопрос для историков отнюдь не праздный. Мы вряд ли в состоянии реконструировать в деталях ушедшую действительность, но по сохранившимся свидетельствам можем восстановить реальность переживаемую, – ту, что была в умах у оставивших их людей. Важно, что, исходя из представлений об этой реальности, они испытывали эмоции, принимали решения и действовали. Сегодня благодаря эвристическим исследованиям И.К. Фоменко и Ларри Вульфа стало очевидно, сколь эфемерными были представления жителей Западной Европы о людях, населяющих восточные земли, сколько страхов, суеверий, следов библейской и античной мифологии было в этих ярких фантазиях[1].
Проведенное мною исследование сосредоточено на проблеме соотношения этнического, национального и имперского воображения россиян в пространстве визуального. Иными словами, я реконструирую фантазии жителей России о себе и своих ближайших соседях, анализируя воплощающие их изображения и тексты.
В данной книге есть два взаимосвязанных сюжета. С одной стороны, мое внимание сфокусировано на интеллектуальных продуктах, зафиксировавших человеческое разнообразие империи и сконструировавших представления современников о его структуре и свойствах. В данной связи анализируются визуальные послания, запущенные в элитарную и низовую культуру России XVIII – первой трети XIX в., их семантика, коммуникативные и мобилизационные возможности. Я стремилась извлечь из них категориальную и дискурсивную матрицы визуального языка, то есть определить связь или соотношение единиц и категорий в конкретно-историческом пространстве.
С другой стороны, данное исследование – это попытка осмыслить культурный мир россиянина сквозь призму его визуальной культуры, то есть проследить участие его зрения в процессе осознания империи и себя в ней. Соответственно, меня интересует процесс самоотождествления российского подданного с ментальными конструктами, созданными изобразительными (или графическими, по классификации Дж. Митчелл[2]) текстами: с образами на картинах, медалях, ткани, табакерках, шкатулках, карикатурах, лубках, театральных декорациях, в оптических развлечениях и в посудной росписи, со скульптурными символами.
Обозначенный подход к теме родился, с одной стороны, в результате многолетнего аналитического рассматривания визуальных и чтения вербальных источников, а с другой – как реакция на историографические интерпретации национальных и этнических сюжетов, связанных с Российской империей. Подавляющая их масса располагается между далеко отстающими друг от друга полюсами: от признания России многонародной страной с неразвитым национальным сознанием и жесткой государственной идеологией[3] до указания на древние истоки русского национализма и утверждения слабости интегративных ресурсов государства[4]. Сама широта спектра «больших теорий», их опора на взаимоисключающие друг друга свидетельства говорят в пользу того, что механическое наложение на «российский материал» жесткой структурной схемы – весьма уязвимая процедура[5].
И дело не в пресловутом «особом пути» или принципиальной «непознаваемости» России, а в соответствии исследовательского объекта и применяемых к нему методов анализа. Ограничения позитивистского видения империи как общежительства «всегда бывших» наций и народностей мне видятся в том, что оно приводит к зависимости исследователя от националистических дискурсов, сложившихся в XIX в. В результате Россия предстает то как «тюрьма народов» (концепция советской историографии), то как «зонтик», накрывающий судьбы устойчивых во времени этнических групп (направление, заданное трудами А. Каппелера)[6]. Кроме того, сосредоточение на фиксации оппозиции «было и стало» (причинах появления новых феноменов и их эволюции, а применительно к истории идей – на той версии, которая продемонстрировала жизнестойкость) не позволяет ответить на «технологический» вопрос, как и почему в исследуемое время рождалось чувство имперской или «народных» солидарностей.
Конструктивистский анализ сместил исследовательское внимание с результатов на процессы и механизмы их запуска, однако и его применение само по себе еще не панацея. Здесь понятие «нация» обрело исторически изменчивый характер и вместе с ним генеалогию создания и бытования. Выполненные в данном ключе работы высветили когнитивную экстрасложность имперской ситуации[7]. С одной стороны, встроенная в мировое взаимодействие Россия обрела в них амбивалентный статус «колонизующей колонии», то есть пространства, испытывающего культурные (в том числе нациестроительные) влияния Западной Европы и самого выступающего в роли цивилизатора по отношению к «нерусским народам» и внутренним окраинам[8]. С другой стороны, анализ рождения, распада, трансформации различных групп внутри империи потребовал от исследователей столь жесткой привязки к контексту, что породил сомнения в самой возможности типологизации отдельных «казусов» и использования обобщающей теории.
Кроме того, объективная сложность работы с нестабильной (неравновесной) системой создала как следствие асимметрию в российском «народоведении». Произошел явный перекос в сторону изучения сообществ, механизмов и дискурсов управления, конфессиональных и прочих идентичностей пограничья, в то время как «русские» и «центр» (за некоторыми важными исключениями) оказались за кулисами данного действа. Показательный тому пример являет серия издательства «НЛО» «Окраины Российской империи», в которой империя представлена отдельными томами по окраинам (т. е. как совокупность регионов, в которой центр присутствует как невидимая зона притяжения)[9]. Соответственно, в историографии империи есть «нерусские» народы, а «русские» в качестве подданных, а не абстрактных не-инородцев так и не появились. Аналитики социогуманитарных исследований признают, что «центр» и «русский вопрос» как самостоятельные проблемы применительно к истории Российской империи сейчас почти не изучаются[10]. В связи с этим тезис о том, что империя сдерживала и препятствовала развитию русского национализма, остается в историографии влиятельным допущением.
В оправдание русистам надо сказать, что долгое время схожая ситуация наблюдалась в американистике и европеистике. Культурная неоднородность, широкие зоны взаимодействия «белых» (или «западных» людей) с другими народами, их локальная и социальная динамичность, историческая изменчивость требовали разработки и применения к данным группам более гибкой и сложной аналитической рамки, чем в случаях изучения «меньшинств». Подобным же образом деконтекстуализация «русских» из имперского окружения, игнорирование зон их взаимодействия с локальными культурами, использование одномерного ракурса описания порождают небезупречные объяснительные теории. Почти сразу после появления они размываются не укладывающимися в них примерами и свидетельствами.
На сегодня применительно к теме «российского народоведения» наиболее релевантным мне представляется подход, последовательно реализуемый создателями «Ab Imperio» – международного издания, специально посвященного проблемам отечественного национализма. В «новой имперской истории» Россия рассматривается в качестве органичной части мирового устройства, ни один компонент которого не является системой с фиксированными местами/ролями. Выходящие под обложкой этого издания исследования сосредоточены на анализе динамики и постоянной изменчивости данного образования, стремящегося к сбалансированию внутренних противоречий и управлению различиями. При таком подходе проблема «приоритетов» (кто первый?) или «влияний» (кто от кого заимствовал?) замещается изучением адаптации и рецепции, то есть выявлением витальных свойств Российской империи, ее способности воспринимать, трансформировать и использовать поступающую извне информацию[11].
Для меня заявленный подход привлекателен не только интердисциплинарностью, но и проблематизацией языка самоописания групповой солидарности (понятно, что им может быть не только вербальный, но и графический текст культуры)[12]. Оба этих свойства принципиальны для изучения визуального «народоведения». Ни этнография с ее фиксацией на процессе накопления сведений и признаков «издавна существовавшего» народа, ни традиционное искусствоведение с интересом к способности искусства фиксировать социальную реальность, ни национальная история, создающая рассказ о разворачивающейся во времени жизни народа, ни даже нарождающаяся историческая психология не могут в собственных дисциплинарных рамках реконструировать и контекстуализировать идентификационные процессы, породившие группность и обеспечившие мобилизацию Российской империи. Анализ же языков самоописания позволяет обнаружить скрытые резервы самоорганизации.
Графические образы России исследуемого времени явно образуют коммуникативную систему со сложной знаковой кодификацией, что побуждает рассматривать их в качестве языка и ограниченно применять к ним методы семиотики и лингвистики. Работоспособность данных техник продемонстрирована исследованиями периода «лингвистического поворота» и ориентальными дебатами. Их следствием стало то, что ныне аналитическая процедура для историка-русиста перестала исчерпываться восстановлением условий порождения и функционирования понятий (Begriffsgeschichte)[13]. Проводить такую реконструкцию необходимо, и это сложно делать, но сама по себе она была бы достаточной только в том случае, если бы язык лишь отражал интеллектуальные явления, фиксировал уровень их концептуализации. Однако он их еще и порождает.
Смещение исследовательского внимания с результата на способы его достижения стимулировало обсуждение технологических аспектов такой процедуры. В последние годы на встречах русистов речь часто идет об интегративных и мобилизационных механизмах империи, в том числе о способах классификации подданных и практиках их ранжирования[14]. Очевидные для участников этих встреч творческий характер понятия «народонаселение» и разнообразие применявшихся способов распознавания народов, а также зависимость современного языка описания от утвердившегося в XIX в. русского этноцентричного дискурса подтверждают произнесенный несколько лет назад Х. Хаарманом (редактором сборника, посвященного «русскости») «диагноз»: бытующие в современной науке и массовом сознании представления о русской нации (как, впрочем, и об остальных народах империи) весьма фантастичны и в значительной степени базируются на созданных в разные времена идеологемах, стереотипах, мифах и топосах[15].
Наука пока не предложила убедительной альтернативы этим формам знания. Дело в том, что применение рутинных методов анализа письменных свидетельств не дает положительного эффекта для выявления групповой солидарности в России XVIII в. Их низкая производительность порождена спецификой исследуемого культурного пространства, для которого характерны либо отсутствие, либо семантическая многозначность русскоязычных терминов и символов, выделяющих человеческие общности[16].
В Западной Европе до эпохи Просвещения термины «народ» и «нация» применялись преимущественно к неевропейцам. Они допускали описание человеческого разнообразия без использования каких-либо классификаций и схем развития. Писатели-путешественники раннего Нового времени не испытывали потребности в различении неевропейского мира, представляя его жителей как некое нераздельное «бесконечное множество» наций Африки и Америки. К XVIII в. западный концепт «нация» начал отделяться от «этничности». Он стал увязываться с культурными качествами, отсутствующими вне Европы. Тогда же идея расы дала основания для разделения людей по «природе», что низвело различия между неевропейцами до уровня тривиальности. А слово «племя» обрело коннотации априорной ущербности[17]. Однако пришедшие в Россию вместе с иностранными специалистами и переводной литературой европейские термины в XVIII в. еще не получили однозначного признания в речи отечественных элит. Слова «народ», «народность», «нация», «Россия» использовались в столь вариативных значениях, что не позволяют заподозрить наличие твердых соглашений по этому поводу. В силу этого оказываются неплодотворными розыски в письменных источниках свидетельств отрефлексированного чувства единства.
Кроме того, исследовательская ситуация для русиста осложнена слабостью в XVIII в. публицистического дискурса и фрагментарностью массовой культуры, а также тем обстоятельством, что лишь определенный сегмент населения был открыт интеллектуальному импорту идей, текстов и образа жизни, тогда как значительная часть жителей страны оставалась к ним невосприимчивой[18]. Если добавить к этому неплотность административной сети[19], недооформленность сословных групп[20], пористость границ между локальными общностями[21], неразвитость гражданских образований, то вовсе не простой оказывается задача выяснить, по какому наитию из этой, по метафорическому выражению Петра I, «рассыпной храмины»[22] выросло у современников видение империи как логичной конструкции, иерархии социальных слоев и этнических групп, накрытой «русским покрывалом».
Попытавшись разделить решение проблемы на стадии, я столкнулась с целой группой неразработанных сюжетов и открытых методологических вопросов. Что заставляло людей задумываться над категориями «народ», «нация», «империя» в реалиях XVIII – начала XIX в.? Какие метафоры и политические практики были задействованы при формировании российских идентичностей и имперской самости? Что делало человека «русским» или «нерусским» в Российской империи? Были ли, и если да, то где проходили границы между русской нацией и русской этничностью? Каково место в этом процессе воображения и чувств, письма и рисунка? Собственно, в этом «идентификационном» поле и ведется исследование, результаты которого я излагаю в данной книге.
Еще одним стимулом для обращения к «технологическим аспектам» этнического и национального воображения послужило для меня нынешнее состояние культуры. По всей видимости, современный человек является продуктом не столько литературного, сколько визуального творчества. Учет элитами разных стран данного обстоятельства приводит к тому, что национальная политика и деконструкция национального сознания становятся все более тесно связанными со зрительными ресурсами[23]. Это типологически сближает ситуацию начала XXI в. с культурно-психологической обстановкой в России исследуемого времени. В обоих случаях тело являлось и является одним из базовых оснований для работы культуры с идентичностью. Обнаружение данного сходства позволяет увидеть в национальном проекте российских интеллектуалов эпохи Просвещения успешный опыт культурного манипулирования, осуществленный посредством художественных практик. По всей видимости, он базировался на законе неписьменной цивилизации, согласно которому существовать в жизни может лишь то, у чего есть форма или тело. Следовательно, чтобы обрести реальность и порождать идентичности, любая абстракция (в том числе «империя», «нация», «народ») должна была стать видимой и показанной.
Конечно, речь в данном случае не идет об упрощенном сопоставлении и игнорировании отличий. Напротив, сравнение современной массовой визуальной культуры и выявляемой в ходе анализа ситуации используется как способ выделения в типологически похожих явлениях сущностных различий. Мне было важно понять, каким образом данная культура работает с визуальным: как создается иконическая форма знания, как изображение используется в психокультурном творчестве, как оно задает направление групповой идентификации. Сегодня эти проблемы признаются приоритетными направлениями социогуманитарных исследований вообще[24].
Применительно к России они рассматривались исследователями в основном по отношению к Средневековью и XX в. В первом случае объектом анализа оказались сакральные изображения, интерпретируемые как «книга образов» с потаенным смыслом вещей и знаков; во втором – фотографии, фильмы и цифровые изображения как способ порождения желаемой реальности[25]. Период империи мало затронут исследовательским вниманием. И можно понять почему. Во-первых, историки империи не любят работать с традиционными произведениями искусства, наталкиваясь на дисциплинарные интересы и незыблемые концепции традиционного искусствоведения. Во-вторых, в отечественной историографии за Российской империей утвердился статус пространства письменной культуры, в котором визуальное устойчиво воспринимается как вторичное. В результате этого до последнего времени исследователи, работающие с символическим миром Российской империи, рассматривали визуальные репрезентации либо как иллюстрацию письменного текста, либо как специфическую упаковку для артикулированных идей[26].
Соответствует ли такая установка культурным реалиям России, где при низком уровне приобщения к письменному слову большинство подданных должны были быть визуально ориентированными реципиентами? Признав существование данного несоответствия, ряд исследователей сделали мир визуального главным объектом своих штудий. Благодаря этому К. Фрайерсон выявила варианты имперской и национальной самости в текстах икон и визуальных образах крестьянского мира[27], а Е.И. Кириченко, К. Эли и С. Норрис обнаружили и ввели в научный оборот их «каменные» и «графические» версии, прописанные в архитектуре, пейзажной живописи и военном лубке[28]. А после выхода русскоязычного перевода книги Р. Уортмана[29] изучение репрезентаций и церемониальных сценариев власти превратилось в автономное направление в русистике[30].
Эти исследовательские намерения и опыты сделали возможным появление обобщающих работ[31], образовательных учреждений[32] и учебных изданий, сосредоточивших внимание на визуальных проявлениях национального и имперского воображения[33]. Участник их обсуждения Г. Янковская предельно четко выразила возобладавшее мнение: «Национальная и социальная “чересполосица” всегда создавала проблему интеграции чрезвычайно разнородных социальных, религиозных, этнических групп в государственную целостность. В условиях, когда большая часть населения до начала второй четверти ХХ в. не владела навыками чтения светской литературы, именно визуальные объекты – торговые марки, сувениры, географические карты, мелкая фарфоровая пластика, детские игрушки, лубки, фотографии, одежда, дизайн публичных мест – выполняли функции символических скреп национально-государственной идентичности»[34]. Другое дело, что, даже признав богатые созидательные и медиативные возможности визуального, мы все еще далеки от знания специфики работы образов с идентичностью[35]. Полученный исследовательский опыт убедил лишь в том, что слово и образ действуют на потребителя по-разному, в связи с чем требуются аналитические техники, специально приспособленные для работы с изображением[36].
Художественная оптика
Приступая к анализу графических источников, я предполагала, что специфика их языка обусловлена особенностями производства, воспроизводства и потребления образов в культуре вообще и в российской культуре исследуемого периода в частности. В ходе исследования эта гипотеза подтвердилась. Данное допущение я выводила не только из опыта изучения конкретной исторической ситуации, но и опираясь на теоретические разработки феномена массовой визуальной культуры, изложенные в трудах Р. Барута, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Лакана, Д. Левина, Г. Дебора, М. Шапиро, Т.Дж. Митчелл, К. Силверман, Ж. Бодрийяра, С. Московичи, Г. Поллок[37]. Данные теоретики признали презумпцию, озвученную еще в 1940-е гг. Э. Панофским: «Свойством реальности, – утверждал он, – наделено лишь то, что постигается посредством зрительного представления… которое ни при каких обстоятельствах не может быть рациональным»[38]. Следовательно, воображаемые реальности (в том числе человеческие общности) должны изучаться посредством анализа зрительских предпочтений и особенностей видения, а не рационализирующего письма.
Хронологию произошедшего, благодаря публикациям и организаторской деятельности протагонистов «визуального поворота» (или «pictorial turn»), принято отсчитывать от 1988 г. – времени выхода книги «Видение и визуальность» под редакцией Х. Фостера[39]. В ее создании принимали участие специалисты в разных академических дисциплинах – литературной критике, истории искусства и литературы, культурологии, философии искусства и др. Такое дисциплинарное разнообразие предопределило различие подходов к теме. С тех пор и поныне одни последователи визуальных исследований полагают, что главная их цель – реконструкция «истории образов», базирующаяся на семиотическом понятии репрезентации (Н. Брайсен, М.Э. Холли, К. Мокси и др.). Для других данное исследовательское пространство – это социальная теория визуальности (А. Дженкс, Г. Поллок, Ф. Джеймисон, Дж. Вулф и др.), для третьих – анализ визуальных стратегий и технологий (О. Хорхордин, Н. Мирзоев, Т. Митчелл, С. Московичи, Дж. Бергер). Общим же является изучение культурных детерминаций основанного на зрении опыта в широком смысле.
Для исследований идентичности визуальная культура[40] создала новую перспективу, в которой визуальное признается не менее важным, чем нарратив[41], и не сводимым к структуралистскому пониманию языка как логоса[42]. Это синкретичное пространство, в котором социальные и культурные различения проявляются особенно драматично в силу их апелляции к человеческим чувствам и эмоциям. Здесь человек сталкивается с Другим и ищет механизмы для его понимания и обозначения отношений с ним. В связи с этим в визуальные исследования входит изучение эмоций и анализ процессов стереотипизации, через которые осуществляется осознание пола, расы, сексуальной ориентации, класса, нации, субкультурной идентичности и пр.
И поскольку визуальные образы относятся к миру договоров и конвенций, каждый исследователь вынужден отвечать на следующие вопросы: «как мы смотрим», «как мы можем, как нам позволяют, как нас заставляют видеть», «как мы видим видимое и невидимое». При таком подходе изобразительные искусства предстают одним из способов социального дизайна. Практиками рассматривания и изображения они программируют в современниках ракурс видения, а значит, и восприятия реальности[43]. Поэтому им обучаются и обучают в соответствующих учреждениях.
Исследователи, вставшие на путь анализа визуального, отрицают иерархические и дихотомические рамки, отделяющие искусство от «неискусства», элитарное от профанного, считают, что интерпретация самого образа как текста настолько же важна, как и знание экстратекстуальных – исторических, социальных, культурных и экономических – параметров его производства и функционирования[44]. Вскрытие этих параметров позволяет обнаружить в меняющихся способах смотрения и видения борьбу создателей эстетических канонов[45]. При этом сам канон понимается как результат соглашения о художественных продуктах, принципах их сортировки и использования для проведения культурных границ[46]. В самом обобщенном виде он видится как своего рода доминирующее мировоззрение и система ценностей, что дает ему возможность действовать в качестве средства интеграции людей в единое культурное и национальное сообщество. В таком виде история канона является уже не историей визуальных объектов, а историей политики смотрения[47]. Поддерживая власть нормы, ее законодатели и защитники навязывают современникам общую (иллюзорную) идентичность и подавляют (или ретушируют) альтернативные версии.
Россия представляет благодатную почву для проверки данных теоретических положений. С конца XIX в. и по сей день отечественное искусствоведение выстраивает свой дискурс на трех аксиомах: «история искусства есть борьба художественных канонов», «русское искусство – народное и реалистичное», «сокровищница отечественной живописи состоит из великих творений»[48]. Теоретическая рефлексия на тему эстетических норм[49] сразу же поставила под сомнение незыблемость этой триады, а выявленные мною в изданиях конца XVIII – первой трети XIX в. рассуждения о «красивом», «прекрасном» и «возвышенном» убеждают в историческом характере канона, позволяют увидеть в нем подвижный компромисс персональных и групповых намерений. По всей видимости, язык отечественного искусствоведения нуждается в такой же деконструкции и профессиональной рефлексии, как те, через которые уже прошли языки этнографии, истории, географии, ботаники, антропологии и социальных наук[50], тем более что сейчас выявлена связь между художественным воображением, научными открытиями и политическими интересами[51].
Моя «сверхчувствительность» к языковым проблемам обусловлена спецификой рассматриваемой темы. Каждому исследователю, имеющему дело с визуальным миром России XVIII в., приходится представлять и описывать его посредством вербальных категорий. При этом подавляющая часть таких описаний использует категории, созданные в контексте модерного знания, возникшего значительно позже изучаемой эпохи и превратившего ее в «архаичную». Избегая модернизации исследуемой эпохи, а также произвольной трактовки изучаемых культурных феноменов, мне постоянно приходилось иметь в виду онтологическую несводимость образа к вербальным терминам, с одной стороны, и факт разрыва языковой преемственности, с другой.
Подобная процедура семантического перевода не имеет устойчивого алгоритма. Ограничения искусствоведческого способа его осуществления лежат в нарративной описательности и вольной интерпретации изображенного. А уязвимость семиотического метода мне видится в анализе нелигвистических явлений через прямую аналогию с вербальным языком, в доминировании пролингвистической аргументации[52]. Предлагаемая в данной книге процедура перевода основана на анализе изменений в воображении современников, вызванных визуальными образами. Такой подход коррелирует с идеей Б. Андерсона о «нации как воображаемом политическом сообществе»[53]. Для того чтобы увидеть или не увидеть общность людей, чтобы современники приписали художественным объектам (или опознали в них) соответствующий смысл, чтобы они вызвали у них эмоции, заставляющие их говорить и действовать заданным образом, – для всего этого требовалась деформация фантазии, появление способности переводить конкретные отношения между объектами из пространственных в темпоральные (например, способность превратить «местных жителей» в «современный народ» или в «историческую нацию»).
В растяжении воображения современников художник[54] играл ключевую роль. Не случайно в эпоху Просвещения на него возлагали особую социальную ответственность. Охваченный страстью или энергией творческого замысла, мастер должен был показывать зрителям скрытые миры и «пролагать новые пути». На этой миссии настаивали Д. Дидро, Ш. Батто и А.Г. Баумгартен[55]. Предполагалось, что созданные ими творения не просто зафиксируют реальность, а создадут желаемую действительность. Посредством зрения она проникнет в головы зрителей, они облекут ее в слова (тем самым завербовав новых единоверцев), а потом воплотят в жизнь через отношения, дела и поступки.
В связи с этим художественное производство сопровождалось интенсивной рефлексией над изображением и публицистическо-литературными заказами на него. Институциональные условия для этого создали Академии художеств, одна за другой возникавшие тогда в европейских странах. Систематическое обучение требовало размышлений над природой искусства, над формами его воплощения и путями развития. Выходившие где бы то ни было теоретические работы на эти темы тут же переводились на национальные языки. В процессе порождения воображаемых сообществ рационализация играла роль деструктивного фактора, посредством которого художественные миры проверялись на возможность их адаптации к исторической действительности (а значит, независимого от художественного гения бытования и воспроизводства). Артикуляция или вербальное описание либо «уничтожали» шедевр, либо давали ему социальную прописку[56].
Опираясь на данную логику, мне предстояло выявить нарративные и ненарративные ситуации, рождавшие в современниках фантазии и размышления на тему человеческой многоликости Российской империи; реконструировать созданные ими художественные миры; и, наконец, выявить используемые в исследуемой культуре способы апроприации этих эфемерных созданий текстоцентричными системами. Данный подход побуждает работать не в одном языковом регистре (визуальном или вербальном), а сразу в обоих. Он требует анализа коммуникативных возможностей различных языков в исследуемой культуре, выявления специфики смыслообразования в них, определения зон взаимоусиления и конфликта.
Чтобы ослабить зависимость собственного письма от национализирующего дискурса описания прошлого, я, во-первых, подавляла в себе соблазн искать в источниках свидетельства за или против какой-либо телеологии Российской империи. Поэтому понятия «народ», «нация», «империя» в данной книге играют роль открытых семантических ниш. Они наполняются конкретным содержанием по мере анализа графических образов и письменных свидетельств современников. Во-вторых, я заменила термины современных рассуждений на эту тему нейтральными аналитическими категориями («группа», «народ», «солидарность», «общность», «сообщество» вместо «этнос», «племя» или «нация»). И лишь в тех случаях, когда данные термины употреблялись в источниках или если не получалось осуществить замены без ущерба для понимания, я вводила их в создаваемый текст. Так, мне не удалось найти заместителей для современных понятий «идентичность» и «идентификация», и они используются в моем тексте, несмотря на понимание их исторической обусловленности и нелюбви к ним моих коллег.
Одним из центральных сюжетов данной книги является проблема упаковки естественно-научных теорий в иконографическую форму[57]. Меня интересовало, как инструментальное знание участвовало в графическом описании и упорядочении сведений о Российской империи. Деформировал ли российский опыт эмпирических наблюдений западные «большие теории» (например, А. Цезальпино, Ф. Ансильона, К. Линнея, Дж. Вико, И. Гердера, И. Винкельмана)? Выявленный комплекс знаний и представлений о человеческом разнообразии («многолюдье») Российской империи я не рискнула обозначить современным термином «антропология», имеющим вполне определенную дисциплинарную привязку и генеалогию. Обычно в таких случаях исследователи стараются воспользоваться документальными терминами, извлекая их из языка источников. Близкий к антропологии раздел науки люди XVIII в. называли «политической географией» (относя к ней изучение нравов и обычаев народов)[58], а в начале XIX в. к описанию людских сообществ подключилась «натуральная история человека»[59]. Данная дисциплина исследовала человеческие тела, выявляла анатомические признаки рода, разрабатывала таксономии (классификации) групп и видов, занималась поисками общих прародителей человечества, экстрагировала «нравы» народов из их физиологических особенностей. Объект своих исследований естествоиспытатели Российской империи определяли как «россияне вообще и народные племена в особенности»[60].
Термины «политическая география» и «натуральная история человека» не удовлетворили меня: первый тем, что его предмет радикально отличается от объекта современных исследований, а второй – своей сосредоточенностью на рациональном описании. Поскольку в предлагаемой книге речь идет не столько о производстве научных «высказываний», сколько о невысказанном, но осязаемом и, следовательно, об условиях таких ощущений и видения, – поскольку в ней повествуется о рождении этнических стереотипов и профанных представлений (то есть об определенной «парадигме мышления» по Т. Куну или «дискурсивном фоне» по М. Фуко), то более корректным для обозначения данной тематической области было ввести условный аналитический термин. Я использую «народоведение»[61].
Необходимость поименования «означающих» (то есть субъектов, имеющих право присваивать значения политическим и культурным явлениям) в очередной раз поставила меня перед выбором. Очень разные личности, для аналитических нужд объединенные мной в категории «российские элиты» и «отечественные интеллектуалы», в реальности были связаны лишь временем, физическим пространством и участием в создании представлений о собственной культурной среде, цивилизации, эстетике, морали, праве и прочем. Особенно меня интересовала та их часть, которая участвовала в изобретении способов их показа и установлении норм рассматривания. На языке XVIII в. художники костюмного жанра и этнографических портретов именовались «рисовальщиками для сбора живописных объектов» или «рисовальных дел мастерами». А в публицистике начала XIX в. производители образов и их интерпретаторы стали называть себя «любителями изящного».
Для разграничения их участия и позиции в идентификационных процессах Зигмунд Бауман предлагал разделить данную группу (он называл ее «эксперты») на «производителей» и «потребителей»[62]. К первым философ относил тех интеллектуалов Нового времени, кто мерил мир категориями «свой» и «чужой». Для художника такого типа было важным выявить и показать потенциально возможное сопротивление Чужого цивилизационному процессу. Данная задача представлялась необходимой постольку, поскольку сопротивление не позволяло достичь единства норм, а значит, и стабильности мира. «Чужой мир» виделся частью работы, которую следовало совершить, а признание за «другим» его собственной значимости таило опасность утратить четкость цели, а с ней и критерии ее достижения. Поэтому, как правило, «производителей» не интересовала идентичность осмысляемого «другого»: они пренебрегали ею, попирали либо изменяли до неузнаваемости и растворяли в присвоенной идентификации.
Согласно типологии Баумана, «потребители» обобщали мир через иные отношения: «я» и «не-я». Сквозь призму такого взгляда наблюдаемый народ мог видеться тем самым «другим», который нужен наблюдателю как автономный объект. В данной ситуации художник оказывался заинтересованным в том, чтобы силою художественного письма выделить и даже придумать его инаковость и оригинальность. Такой подход порождал изображение народа как эстетической «натуры», приносящей удовольствие зрителю.
Зрелищная эпоха
В качестве хронотопа для общения с читателем я выбрала дофилософский и дофотографический период в истории самоосмысления империи, то есть вторую половину XVIII – первую треть XIX в. Его специфичность состоит в том, что тогда антропологическая мысль России еще не свела очевидное разнообразие человеческих общностей в жесткую этноцентрическую схему, а визуальные образы занимали доминирующее положение в культурной коммуникации (в том числе в литературе).
Историки отечественной культуры определяют данную эпоху как «зрелое Просвещение»[63]. Использование данного термина соотносит процессы, происходившие в России, с общеевропейским феноменом[64]. Главный его пафос оказался направлен на построение совершенного общества на рациональных основаниях. Отвергнув безысходность Промысла, человек эпохи Просвещения искал природные законы бытия и плодил социальные утопии. В контексте его интересов, намерений и идей вопрос о человеческом разнообразии мира оказался одним из центральных.
Кроме того, его проблематизации способствовало изменение восприятия освоенного людьми пространства. К концу XVII в. развитие экономических связей, географические открытия и освоение заморских колоний, появление и распространение новых средств информационной коммуникации и технических знаний объединили мир в единую «цивилизацию»[65], каждый элемент которой выступал как часть системы, а стержнем оказывался Человек[66]. Получившие тогда развитие статистика и география создали каркас этой конструкции[67]. Одновременно с этим накопление сведений о живущих на земле реальных и фантастических сообществах поставило перед европейскими интеллектуалами несколько первоочередных задач: выработать единый язык их описания, систематизировать собранные данные и выявить рациональную (в противовес религиозно-мифологической) логику происхождения многообразия[68]. В разработанных тогда вопросниках для натуралистов все человеческие существа были переопределены по двум критериям: как живые организмы и как локальные культурные типы[69]. В последующем полученные данные были организованы в научные классификации и встроены в культурные иерархии, ставшие основой концепции европейской самости. Отправной точкой этой концепции являлось признание доминирования «цивилизованной» Европы над окружающим миром варварства.
Вместе с тем освоение на протяжении XVIII в. Южной Америки, Канады, стран Тихого океана, Центральной Азии, Сибири, поиски северо-западного пути, стабильного торгово-колониального присутствия на Востоке, изучение исламских государств, Китая, Индии и Персии познакомили европейцев с другими формами цивилизации[70]. Сравнивая их, писатели эпохи Просвещения пытались совместить обретенную самость с интересом к уникальности «иного». Это обстоятельство породило противоречивые версии описания взаимоотношений между людскими сообществами.
Введение в рассуждения о человеческом разнообразии прогрессивного исторического времени позволило сместить бинарную оппозицию с пространства на время (концепция Дж. Вико). Теперь состоянию «цивилизации», идеалом которой служила Франция (В.Р. Мирабо, Д. Дидро, Г.Т.Ф. Рейналь, Т. Пейн), было противопоставлено не локальное «варварство» неевропейских народов, а архаичная «дикость». Между ними разместились стадии («века») развития человечества. Соответственно, начальная и конечная стадии оказались соединены в единую линию эволюции или прогресса. Изменение системы координат повлекло за собой признание динамичности, изменчивости конфигурации человечества и укрепило просветительский статус Европы. Довольно быстро интеллектуальные изобретения были освоены политиками и идеологами колониализма. Например, Наполеон использовал цивилизационный дискурс для обоснования права «самой цивилизованной страны» на территориальную экспансию.
Неоднородность европейского Просвещения стала особенно ощутимой на рубеже веков. Разочарованные Французской революцией и напуганные наполеоновскими завоеваниями немецкие философы противопоставили концепту «цивилизованная нация» понятие «культурная нация», означавшее способы жизни и мышления народа. Мировое признание данный концепт получил после поражения Франции. Сам термин «цивилизация» стал употребляться элитами пострадавших стран с негативными предикатами «пагубная» и «разлагающаяся». В отличие от Ф.М.А. Вольтера, который не верил в возможность познать происхождение народов, опираясь на фольклорные и легендарные свидетельства, немецкие романтики, напротив, именно в них стали искать «народный дух». Описывая немецкую культуру, И. Гердер, И.Г. Кампе, М. Мендельсон, И. Песталоцци, В. Гумбольдт и их последователи немало содействовали культурной гомогенизации («германизации») окружающего социального пространства. При этом европейская и национальные общности представали результатом объединения (на разных основаниях) локальных групп-культур, а человеческое разнообразие мира стало описываться в категориях богатства.
Соблазн добиться устойчивого царствования (овладеть «искусством управления») привлек к участию в обсуждении данной темы политические элиты европейских государств. С точки зрения просвещенных монархов, многонародность, с одной стороны, легитимировала распад христианского мира на локальные зоны – светские государства (что хорошо). С другой стороны, она же и связанные с ней полилингвизм и конфессиональная гетерогенность осложнили и ослабили государственную стабильность (что плохо). Эта двойственность пробудила желание формировать европейские общности на новых основаниях – национальных интересах. В XVIII в., в эпоху классицизма, для формирования нации использовались ресурсы античных образцов гражданственности и добродетели, что породило утверждение художественного канона «идеальной формы». Для их пропаганды политические элиты Европы широко привлекали визуальные формы обращения к населению («официальный видеодискурс») и пресекали появление альтернативных посланий.
Охватившая Российскую империю европеизация проблематизировала данные сюжеты в среде элит. В исследуемую эпоху они довольно близко познакомились с опытом колониального описания мира, национальными идеологиями и соответствующими визуальными репрезентациями. Это способствовало складыванию российских представлений о структуре мира, стереотипов о французской и немецкой моделях государственной нации[71], породило размышления на тему многонародности Российской империи и мечты о «своей» нации. Таковы контексты, из которых в России исследуемого времени не только черпались образы для конструирования «народа», «племени», «гражданина», «подданного», «русского», но и рождалась мотивация к их превращению в субъекты истории.
Во всем этом зрение играло ключевую роль. Зрелое Просвещение сопровождалось кардинальными переменами в способах видения и изображения (ревизия идеи горизонта и перспективы, утверждение парадигмы паноптической визуальности). Вместе взятые, они создали феномен власти знания и видимости[72]. В основе своей это также были процессы общеевропейского характера. Аэронавт, поднявшийся в 1783 г. на воздушном шаре над землей, обнаружил радикально иную по сравнению с привычной ландшафтную перспективу, что впоследствии привело к изменениям в визуальном структурировании пространства. В 1791 г. был изобретен первый паноптикум – круговая тюрьма с металлическим каркасом и стеклянными стенами, где каждый заключенный все время находился под пристальным взглядом охранника-наблюдателя. И хотя данное изобретение было сделано в специфических условиях присоединения к Российской империи южной территории[73], М.Фуко и его последователи интерпретируют паноптикум как систему, ставшую символом модерного типа властвования в визуальном регистре[74].
На рубеже XVIII–XIX вв. в крупных европейских городах, в том числе в Петербурге, появились первые панорамные развлечения, посетитель которых оказывался в объятиях зрительной иллюзии либо прошлого (панорамы битв и сражений), либо иного пространства (например, панорамы Парижа или сельской местности). В темноте вращающейся зрительной площадки он созерцал подсвеченную круговую живопись. И в отсутствие возможности сравнения увиденного с действительностью он, по свидетельству современников Х. Гершейма, терял представление о расстоянии и месте, захваченный иллюзорной реальностью[75]. Ставшие популярным развлечением оптические машины привели к появлению новых форм мобилизации (перенос деревни в город, перевод прошлого в настоящее).
Выбранный период охватывает художественные эпохи классицизма (в том числе ампира) и раннего романтизма. В это время «зрелищный» подход к жизни пронизывал российское общество от аристократа, декорирующего имение, до крестьянина, изготавливающего игрушку детям. Визуальная ориентация породила расцвет архитектуры, скульптуры, паркового зодчества, изобразительного, декоративно-прикладного искусств и театра. И она же стимулировала стремление людей сделать «красоту» критерием оценки реальности, что повлияло на особенности исторической психологии, моделей поведения и реакции современников[76].
О театральности культуры XVIII в. написано много[77]. В России данный вектор поддерживался политикой верховной власти, импортом оригинальных и переводных пьес, домашним и школьным обучением, рекрутированием иностранцев на русскую службу, практикой гранд-туров дидактического характера. Все это сделало возможным во второй половине столетия превращение пространства империи в своеобразную сцену для разыгрывания пьесы о русском «Эдеме»[78]. В свое время Ю.М. Лотман показал, что, в отличие от европейского общества, где театр соединял мир фантазии и реальность, в России он получил дополнительное политическое измерение[79]. Здесь вступали в символическое противоборство элитарная культура, ассоциируемая с «европейскостью» («прогресс»), и традиционная, понимаемая как локальная и архаичная («отсталость»). На театральных подмостках демонстрировались образцовые модели жизни и поведения, признаваемые властью нормой для дворянства. Благодаря этому «изменение себя», приравненное к «самоусовершенствованию», стало осознаваться как политическая и социальная задача для российских элит.
Однако суть такого перевоплощения не оставалась неизменной на протяжении всего восемнадцатого столетия. Она смещалась от задачи быть русским европейцем до желания предстать европейским русским. Во времена Петра I быть просвещенным и цивилизованным значило отказаться от естественности в пользу искусственности, разыграть роль «европейского другого»: переодеться, проникнуться его мыслями и эмоциями, выучить «чужой» язык и способы самовыражения. Однако играя на сцене и в жизни роли «европейцев», актер усваивал сложный комплекс противоречивых идентичностей, расщепляющий воображаемую целостность Европы[80]. Примеряя на себя маски различных этнических групп (например, датчан), российские театралы оказывались соучастниками культурных конфликтов и символической борьбы за национальную оригинальность. «Спор о естественности и даже национальном самосознании, отразившийся в сатирических произведениях о петиметре, – свидетельствует Д. Смит, – тоже не был исконно русским – его заимствовали во Франции как часть более обширной общеевропейской дискуссии на эти темы, развернувшейся в XVIII в.»[81].
Ориентированный на потребительский вкус, театр «национализировал» импортируемые сюжеты[82]. Устроители спектаклей в России считали, что «русификация» текста пьесы (изменение языка оригинала, имен героев, названий упоминаемых мест) сделает ее более интересной и поучительной для зрителя[83]. При этом изменение вербального языка тут же влекло за собой перекодирование визуальных репрезентаций. Адаптированная к отечественным реалиям пьеса провоцировала создание художественного мира, который идентифицировался как «российский». Он воплощался в декорациях, костюмах, макияже, актерских жестах и позах. Данное изменение обогащало новыми деталями и сюжетами воображение как декораторов, так и их зрителей. Оно предполагало заключение соглашений о том, как «народность» той или иной группы может быть выражена в одежде, именах, походке, речевом поведении актеров. Одновременно с этим такая репрезентация требовала соотнесения изображаемого персонажа с командой Добра или Зла.
Принимая догадку Ю.М. Лотмана о том, что театральное «кодирование оказывало обратное воздействие на реальное поведение людей в жизненных ситуациях»[84], можно предположить, что игровое перевоплощение служило провокацией моды на «народность» в среде отечественных элит. И уж совершенно ясно, что оно повлияло на складывание этнических стереотипов.
Другая особенность исследуемого коммуникативного пространства проявлялась в присущем ему художественном полилингвизме. Наряду с «высоким» языком «изящных искусств», который подчинялся европейскому эстетическому канону и использовал достигнутые в его недрах соглашения, существовал «сакральный» язык русской иконописи с присущим ему византийским символизмом. А «площадному» языку русской бытовой речи в визуальном формате соответствовал язык малых изобразительных форм – лубка, раешных картинок, любительских зарисовок, графических рисунков, гравюр и литографий, игрушечных фигурок. Многообразие «социальных» языков усиливалось наличием локальных «диалектов» (традиции письма архангельских косторезов, палехских иконописцев, подмосковных лубочных мастеров и пр.). Если добавить к этому репрезентации различных конфессиональных групп (например, старообрядцев) и народов, то визуальное пространство империи окажется весьма дискретным, образованным из множества языковых и прочих сообществ.
Данное обстоятельство должно было создавать препятствия для порождения имперской «макросолидарности». Ведь для того чтобы у людей, живущих в России, появилось ощущение общности, нужен был множественный перевод такого рода призывов на разные языки, и прежде всего на языки массовой циркуляции. В пространстве визуального каждая такая процедура сопровождалась перекодированием оригинала, адаптацией визуального послания и рождением новых смыслов. Желание быть понятыми (то есть услышанными и увиденными) в «низовой» культуре заставляло российские элиты создавать «общерусский» язык. В результате в исследуемое время шло становление не только национального литературного языка, но и визуального тоже.
Архитектоника книги
Исследовательские задачи данной книги заданы блоком проблем технологического, стратегического и коммуникативного характера.
Художественное воспроизводство изучаемой эпохи подразумевало прохождение авторского рисунка через технологический процесс изготовления гравюры. Как правило, к зрителю он попадал в виде очерковой гравюры, выполненной в технике офорта. До открытия в 1796 г. А. Зенефельдом литографии, или метода плоской печати, гравюрная техника в России была двух видов – высокой и глубокой печати. Та и другая давали «штриховую» трактовку образа. Чаще всего в гравюре воспроизводился только абрис изображения, а основной акцент делался на ручной раскраске полученного рисунка. Ее мог выполнить сам автор, его ученики, или выполнение такой работы отдавалось «под заказ».
В публикациях того времени встречаются два варианта гравюр – однотонные, сочно и глубоко протравленные, и цветные, или раскрашенные от руки по бледной гравированной основе. Для получения мягких «акварельных» переходов в протравленной гравюре использовался метод акватинты. Для этого гравировочная доска покрывалась порошком канифоли, которая в результате подогрева равномерно обтекала поверхность. Травление поверхности происходило постепенно, благодаря чему гравер добивался мягкости перехода одной части поверхности в другую. В этом случае получалось изображение, напоминающее работу водяными красками в один тон[85].
В 1812 г. для тиражирования авторских рисунков применялся прием иглового офорта. На полированную поверхность медной или цинковой доски гравер наносил лак, по которому затем особой иглой процарапывал рисунок. После этого доска протравливалась. Затем в углубленный рисунок набивалась офортная краска, доска накрывалась плотной и влажной бумагой, на нее клалось сукно, и всё вместе пропускалось сквозь вал на металлографическом станке. В результате такой процедуры на бумаге оставался отпечаток – эстамп.
По мнению историка гравюрных технологий П.Е. Корнилова, использование данного способа позволяло граверу сохранить живой свободный рисунок оригинала, а создателям проекта он давал «возможность размножать “простовики” в большом количестве и распространять их в самых широких кругах народных масс»[86]. Отвечая на растущий спрос потребителей, карикатуристы нередко делали так называемые «повторные доски», вводя изменения и уточнения в образ и в текст[87]. Этим объясняется наличие в коллекции карикатур двенадцатого года целого ряда односюжетных и близких по композиции рисунков.
Технические возможности копирования, тиражирования, перевода абриса на различные поверхности (плоскость листа, объем поверхности посуды или табакерки, воплощение в скульптурных формах) – все это определяло условия появления образа и его воздействие на воображение современного зрителя. На специфике и возможностях визуального языка сказывались также техника и материал изготовления образов (карандашный или угольный рисунок, металлогравюра, литография на камне, косторезная композиция или роспись по дереву). А финансовые возможности их приобретения определяли широту социальной циркуляции данных посланий.
Что касается состава видеодискурса, то для того чтобы определить какие художественные феномены стали его объектом, мне предстояло выявить используемые в данное время стратегии «включения – исключения». Их анализ подразумевает, в том числе, изучение репрезентаций телесности. Как правило, они составляют ядро изображения в «народоведении». В этой связи было важным определить, какие типы и конфигурации тел включались в дискурс, а какие – нет, какие эталоны выдвигались, как они могут быть упорядочены в соответствии с его внутренней логикой.
В изучаемое время отождествление визуальных образов с тем или иным этнонимом осуществлялось посредством различных когнитивных кодов (через исторические аллюзии, метафоризацию, благодаря инверсии значений, в опоре на ассоциативный ряд, гендерные и этнические стереотипы). Визуальные критерии «народоведения» создавались из физической антропологии («славянские черты», «азиатское лицо»), исторической и военной атрибутики (кольчуга, шлем, конфедератка), речевых идиом, элементов традиционного костюма, посредством построения типических персонажных позиций и жанровых сцен (диспозиций), определялись режимом просмотра «картинки» или альбома. Таким образом, исследование выходит на анализ технологий визуального конструирования групповой идентичности. Их выявление позволит говорить об антропокультурной механике изготовления репрезентаций.
Появление образов (а также символические значения, которые они несли) было предметом неизменного внимания властей и прежде всего самого монарха. В исследуемое время императорский двор задавал эстетический тон в аристократическом обществе, поощрял проведение конкурсов в Академии художеств, выступал заказчиком и оценщиком художественной продукции, финансировал возведение скульптурных памятников, отбирал эскизы монет и медалей, утверждал проекты публичных сооружений, инициировал возведение декораций для ритуалов и настаивал на типовой застройке российских городов.
Однако процесс порождения художественных текстов не был монополизирован. Он осуществлялся и силами губернской бюрократии, и по инициативе редактора журнала, и желанием владельца лубочной мастерской и даже отдельного художника-любителя. Разница в социальных и интеллектуальных идеалах отразилась на разнообразии способов описания «состояний» и групп. В связи с этим мне предстояло проанализировать коммуникативное пространство визуального дизайна и выяснить распределение власти в данном дискурсе. Такой анализ потребовал выявления субъектов, имевших право изготавливать, устанавливать, тиражировать образы империи, ее народов и русской нации.
Данный подход позволил рассмотреть трансформацию групповой идентичности как следствие многовекторных коммуникаций. У любой из них, в том числе визуальной, были условия, задающие границы понимания. «Схватывание смысла» обусловлено критериями утвердившейся рациональности, и в частности, если говорить о произведениях искусства, визуально-образными процедурами. В связи с этим данное исследование вторгается в историографический спор о (не)возможности диалога элитарной и низовой культур[88]. Ограничиваясь текстуальными свидетельствами, на этот вопрос нельзя дать позитивного ответа. Между тем визуальная культура содержит следы рецепции социальных обращений. Сам факт приобретения профессиональных гравюр крестьянскими кустарями, само наличие коммерческого спроса на изображения со стороны простонародья, отбор кустарными художниками определенных сюжетов и образов для копирования, а также новшества, привнесенные ими в оригинальный рисунок при копировании, дают богатый материал для анализа. Наличие таких свидетельств позволяет выявлять не только восприятие, но и механизмы адаптации изобретений в недрах массового сознания.
С данным сюжетом тесно связана другая задача – выявить способы концептуализации видеодискурса. Они различны, и их анализ ослабляет противопоставление слова и образа. В культурных исследованиях давно признано: визуальное нуждается в вербальной поддержке, а вербальная коммуникация нуждается в визуальном опосредовании[89]. Однако изучение механизмов их взаимодействия ставит перед исследователем вопрос о границах: следует ли связывать в единый коммуникативный союз с рисунком только подпись к нему, или весь лист, или даже все издание? Вербальные и визуальные элементы пространственно интегрированы через их композицию на листе. Но на композицию также влияет и временная последовательность их прочтения – порядок показа. Таким образом, вербальный контекст[90] может быть привязан к изображению либо пространственно (близость), либо темпорально (последовательность). Все остальные разновидности текста рассматриваются как часть более широкого «дискурсивного контекста». Контекст-зависимость означает, что в некоторых случаях смыслы скорее подразумеваются, чем выражены, и что они открыты для широкого спектра возможных интерпретаций[91]. Эта многофункциональность, а также гибридные формы взаимодействия вербального и визуального образуют разнонаправленные векторы в идентификации[92]. В исследуемое время их упорядочение сопровождалось письменной фиксацией российских норм изображения и видения, утверждением локального канона.
В пространство действия западных художественных канонов Россия вступила довольно поздно – в конце XVIII в. Сама по себе ее интеграция стала возможной лишь после обособления в среде российских элит слоя «любителей изящного». Характерно, что в обсуждении критериев, назначения, сферы применения канона принимали участие не только выпускники Академии художеств, но и художники-любители, а также «критики», то есть «просвещенные» современники, не принимавшие непосредственного участия в художественном производстве. Именно они присвоили себе сначала право судить о «настоящей красоте», «возвышенном» и «прекрасном», оценивать изящество произведений, осуществлять их сортировку, а также право пропагандировать отобранное соотечественникам, объясняя скрытые смыслы и значения. Они же объявили впоследствии Россию приоритетным объектом художественного увековечивания и потребовали от создателей изобразительных произведений «патриотизма», выраженного в сотворении привлекательных образов страны и ее людей.
Относительно позднее вхождение в поле действия западных художественных канонов предопределило специфические черты российского эстетического сознания. Во-первых, для него характерно усвоение ранее существовавших в Западной Европе конвенций без учета их генеалогии и внутренних противоречий (в результате чего они были восприняты как единый пакет «цеховых норм»). Вторая особенность состояла в том, что заключение собственных договоренностей шло в контексте становления национализирующего дискурса. Поэтому проблематизация художественного канона оказалась связанной с вопросом о необходимости формирования сокровищницы русского искусства.
Этот сюжет тесно связан с историей бытования (то есть эффективности и устойчивости) созданных образов, иными словами, с проблемой процессуальности видеодискурса. Его специфика обусловлена интерпретационной открытостью изображения. Естественно, что, складываясь, любой дискурс постепенно замыкается на себе, пресекая возможность семантической новизны. Но при этом, согласно концепции М. Фуко, происходят следующие типы его трансформации: деривация, связанная с адаптацией или исключением тех или иных понятий, их обобщением; мутация позиции говорящего субъекта, языка изображения или смещение границ объекта; редистрибуция, вызванная внешними социокультурными процессами. Эти теоретические положения мне предстояло контекстуализировать и проверить на исследуемом материале.
Изучаемые мною тексты и тиражируемые копии содержат разные варианты прочтения визуальных образов. Их выявление позволяет реконструировать рецепцию изобразительных текстов и проследить процесс перекодирования значений. Все это является частью культуры imago в России. Понятно, что она носила гибридный характер. Но вряд ли правомерно при ее анализе исходить из европоцентристского ракурса рассмотрения. Я полагаю, что западноевропейские конвенции визуальной репрезентации не являлись единственными, и на это, в частности, указывают различия в реакциях на увиденное россиян и иностранцев. В связи с этим анализ визуальной культуры Российской империи потребовал обращения не только к современным ей западноевропейским, но и к отечественным культурным практикам допетровского времени. Таким образом, я предпочла полицентристский подход, акцентирующий внимание на динамичных образованиях, возникших в результате взаимодействия культур и сообществ[93].
Таковы сюжеты данного исследования.
Глава 1
«РУССКИЕ/РОССИЙСКИЕ КОСТЮМЫ»
Народо-видение как государственная проблема
На протяжении веков обыденные представления жителей Западной и Южной Европы о людях, населяющих земли к северо-востоку от них, опирались на фантазию античных авторов и средневековую космологию. Помпоний Мела писал о свирепости скифов – народов, живущих на севере от греков, описывал их обычай поедать тела умерших родителей, рассказывал, что «агафирсы расписывают лицо и все тело несмываемыми знаками»[94]. О сарматах древние греки свидетельствовали: «Это воинственный, вольный, необузданный и до такой степени дикий и суровый народ, что даже женщины у них принимают участие в войне… Достигшие зрелости девушки обязаны убить врага»[95]. Фантазия древних географов населяла неведомые земли причудливыми существами – поедателями вшей, людьми с козлиными ногами, амазонками, бессмертными существами, людьми с песьими головами, народом, питающимся паром[96]. Средневековое христианство добавило в эти миры новых персонажей. Согласно библейской мифологии, на север от Каспийского моря ушли исчезнувшие поколения Израиля – свирепые народы Гога и Магога.
«Русский». Кукла бродячих кукольников из музея Любека (Германия)
Воображаемые образы были частью реальности. Вера в них рождала действия. Свидетельством тому явились еврейские погромы, прокатившиеся по Европе после появления в XIII в. отрядов монгольских кочевников. Современники верили, что евреи призвали родственные орды на погибель христианам. И вплоть до XIX в. отправлявшиеся в рискованное путешествие на «Восток» авантюристы «открывали» в России те самые существа, описания которых веками воспроизводились в письменных и художественных текстах.
У обитателей Московии представления о человеческом многообразии собственной страны складывались на иных источниках. Кроме заезжих иностранцев такие описания делали местные подьячие, служившие в приказах и аккумулировавшие сведения о занятиях, особенностях культуры, а также о численности «тяглого люда». Записи, а иногда и зарисовки подобного рода составляли странствующие монахи, описывавшие среду, в которой обреталась новая чудотворная икона или учреждался монастырь. Наконец, их создавали посольские дьяки, сообщавшие в Москву практические сведения об увиденных народах и странах. Резные и живописные образы соседей творили крестьянские кустари – на забаву или на продажу. Сегодня образы «московитов» исследователь может отыскать не только в книгах, но и в графике, иконах, изразцах и прочих предметах искусства допетровской эпохи.
Такой вариант производства знания антропологи называют «бытовой этнотизацией»[97], и он присутствует в истории многих стран. В этом отношении трудно согласиться с мнением В.А. Дмитриева о принципиально различных способах познания народов в Западной Европе и в России[98]. Вероятно, речь может идти лишь о специфических особенностях «нормы». Как и на «Западе», в России на поиски неизведанных земель и «новых народов» отправлялись не только правительственные, но и частные экспедиции торговцев и зверопромышленников. Известно, что во второй половине столетия к Тихому океану ушли более 100 частных промысловых и пять государственных научных экспедиций[99]. Другое дело, что, в отличие от практики западного колониализма, их описания не были произвольными (альтернативными по отношению к научной схеме). Петербургская академия наук снабжала «любителей» специальными инструкциями, которые структурировали «естественный» взгляд и предопределяли увиденное. Соответственно, контроль над результатом смотрения оставался за тем, кто определял объекты сравнения и параметры, по которым оно проводилось. Таким образом, политика видения Российской АН сказалась на специфике собранных отечественными предпринимателями данных и на сопроводительных комментариях к ним.
А. Экхот «Мамелюк» (1641) и «Мулат» (б.г.)
В остальном же, как и в прочих странах, стихийные писатели и рисовальщики образовывали в русском государстве тот самый субъект, благодаря которому формировалось представление местных элит о населении в целом и о составляющих его людских сообществах в частности. В этом отношении отличие XVIII в. от предшествующего времени состоит не в появлении новой темы, а в том, что в Российской империи процесс описания жителей и производство «народных» образов обрели системный и инструментальный характер. Это произошло в силу потребности перевести рассказ о них на язык западной культуры.
Примеривание петровскими «птенцами» западного имиджа власти сопровождалось обыгрыванием метафоры возникновения и символического движения от невежества к науке (как заявлялось, «общего для политичных народов мира»[100]). Соответственно, молодая империя стремилась утвердить за собой престижное место в создаваемом западными интеллектуалами «порядке»: системе вещей, народов и культур[101]. Учрежденная для реализации этой задачи Петербургская академия наук и рекрутированные из Германии и Швеции ученые должны были собрать «российский материал», пропустить его через западные способы рационализации и вписать в европейскую парадигму знания. В условиях России это потребовало иной заточки западного научного инструментария.
Западные натуралисты добывали первичные сведения об аборигенах посредством вопросников – «рамки», которую естествоиспытатели заполняли полученными ответами, собственными визуальными впечатлениями и современными им этническими стереотипами[102]. Ведь для того чтобы изначально выделить исследовательский объект, путешественнику предстояло соотнести интересующих его людей с их окружением, что предполагало наличие априорных критериев сопоставления. Выявляя, описывая, показывая обнаруженные группы жителей, путешественники называли их, локализовали в имеющейся на тот момент картине мира, определяли их место в иерархии «народов», устанавливали границы – где один народ кончается, а другой начинается.
В течение столетия используемый в России вопросник постоянно корректировался и расширялся. Так, отправляясь в 1733 г. в путешествие по просторам империи, Г.Ф. Миллер получил от Академии наук список из 11 пунктов, а спустя несколько лет составил для своего ученика и последователя И.Э. Фишера список из 923 вопросов[103]. Первоначальный вариант анкеты В.Н. Татищева состоял из 92 вопросов, а в расширенной редакции 1737 г. она включала 198 пунктов[104]. Такое расширение приводило к изменению семантики понятия «народ» и смещению границ между группами жителей[105]. Соответственно, Татищев обнаружил в Российской империи 42 народа[106], а последующие исследователи – гораздо больше.
Изучение «наречий» в XVIII в. было в значительной степени отделено от описания внешнего облика людей. Как правило, «прото-этнографов» интересовали визуально познаваемые явления, а «прото-лингвисты» занимались сравнением языков, причем прежде всего их фонетического ряда. Сегодня сравнительное языковедение эпохи Просвещения историки науки называют тупиковой ветвью развития филологии, а тогда российские элиты с энтузиазмом занимались лингвистическими изысканиями, стремясь найти в разнообразии звучащих слов и диалектов общую основу, или прото-язык.
Обнаружить универсум во множественности было главным желанием всех тогдашних исследователей. Фиксируя человеческое разнообразие, естествоиспытатели тоже стремились найти «природную» общность людского рода. И поскольку возврат к «исходной естественности» мог стать основой имперского единства, такие исследования получали финансирование от верховной власти. К тому же экспедиционные карты и зарисовки служили легитимным документом, подтверждающим права российского престола на «новые» земли. Издавая их в виде гравюр, правительство показывало современникам территориальные и людские приобретения. В этой связи особенно важно было назвать и показать периферийные народы, на владение которыми претендовали и другие империи (чаще всего это были Англия и Франция). Отправляя очередные корабли или обоз в дальние края, Петербург побуждал путешественников тщательно фиксировать странности увиденных людей, составлять словари их говоров, зарисовывать тела и одежду (рисовать «костюмы»), делать планы и снимать панорамы[107].
Судя по прямым и косвенным свидетельствам, увиденные образы оказывали сильное воздействие на этническое воображение современников. «Костюмы» воспринимались неоспоримым доказательством существования той или иной группы жителей, ее принадлежности к России, они же давали обществам локальную и культурную приписку. Таким образом, у рисовальщиков была возможность возводить зримые границы между людскими группами, а назвав их, они утверждали наличие у членов сообщества стабильных отличительных признаков. В результате принявший все это на веру зритель в реальной жизни соотносил внешность встречаемых людей с известными ему по гравюрам «народами», то есть использовал графические «костюмы» как опознавательные маркеры.
Далеко не во всех экспедиционных отрядах были рисовальщики и копиисты[108], но там, где их удавалось нанять, результаты исследований оказывались особенно популярными среди современников. Характерно, что в сложившейся тогда структуре знаний этнографическое письмо и рисунок оказывались разделенными. Вербальное описание относилось к текущей политике, а рисунок идентифицировал время и место, а потому принадлежал к «гистории». По крайней мере, таким был статус «костюмов» (графических образов народов) в системе, разработанной Г. де Гатцером (1621–1700) для коллекционеров эстампов и описанной в отечественных учебниках рисования[109].
Искусство видеть
Рисовальщики XVIII в. осознавали силу собственного влияния на картину мира современников и объясняли ее либо божественным даром художника, либо архетипическим доверием человека к изображению[110]. Сегодня такое объяснение не может убедить или удовлетворить историка. Исследования визуальной культуры показали, что каждый акт эстетического восприятия состоит из комбинации когнитивных процедур. Он включает в себя изучение объекта, его оценку, отбор существенных черт, сопоставление со следами памяти, их анализ и организацию в целостный образ, который в дальнейшем тяготеет к упрощению[111]. Это универсальные или вневременные свойства визуального языка. Но в нем есть еще и динамичная часть, которая связана с социальными конвенциями или художественным каноном. Анализ ее динамики позволяет выявить историко-культурные особенности производства и потребления визуальных образов в данном месте в данное время, то есть контекстуализировать их.
С точки зрения диалога культур отечественные рисовальщики светских композиций оказались синтезаторами практик иконописи и современной им западноевропейской живописи. Признавая это, историки искусства считают, что выявить исходную традицию для русской графики XVIII в. труднее, чем определить источники внешних влияний[112]. Например, появившаяся в ней практика выделения формы светом (особенно человеческого тела) отсылает к холстам старой Руси, в которых использовалась своеобразная тонированная подмалевка[113]. А вот желание отечественных художников придать вещам «иллюзорный натурализм» связано уже с театральностью современной им культуры барокко.
Сохранение иконописных норм прочитывается и в странных позах изображенных рисовальщиками людей. Дело в том, что в иконе «похожесть» оправдывала любые неправильности, а композиция сводилась к тому, чтобы расположить фигуру в наиболее «представительном» положении. Для иконописца было важным показать действие (стояние, держание книги, сидение, благословение), а не части тела или жесты. Такая же установка была у живописных дел мастеров, поэтому ноги (например, на «Портрете Ф.Н. Голицына» И.Я. Вишнякова и «Портрете К.И. Тишининой» И.К. Березина) распластаны в левую и правую сторону. Это так называемый условный разворот ступней. В таком положении человек стоять не мог, и значит, художник не стремился изобразить объект реалистично. Спрятанные в обувь ноги относились не к живому телу, а к костюму, который он писал с манекена в своей мастерской. Отход от данной «позитуры» давался российским художникам трудно и занял продолжительный период времени. Переходным к натуралистической манере письма стал прием изображения рук с немного вывернутыми локтями и согнутым мизинцем (знак женственности).
В середине столетия восприятие западных художественных норм далеко не всегда происходило в ходе прямого обучения художника, чаще – в результате рассматривания им «шедевров». Адаптация включала применение отдельных художественных элементов, переложение на холст общей композиционной идеи, увлечение необычным сюжетом. В творчестве конкретного рисовальщика наличие данных тенденций можно обнаружить в разных соотношениях.
Вплоть до открытия Академии трех знатнейших искусств передача навыков изображения осуществлялась в паре «учитель – ученик». В связи с этим о художественном методе российские искусствоведы считают уместным говорить лишь применительно ко второй половине XVIII столетия. Тогда же отечественные художники образовали автономную социальную и творческую группу с едиными профессиональными нормами и методом, а само искусство изображения трансформировалось из ремесла в способ отношения к действительности и миру. Учреждение Академии институционально закрепило обучение у нескольких, а в идеале у всех живописных дел мастеров, служащих в ней. Поскольку подавляющее их большинство составляли приглашенные на российскую службу иностранцы и поскольку существовала практика зарубежного пенсионерства, то западные конвенции показа и видения довольно скоро утвердились в среде российских элит. Впрочем, поскольку эти конвенции не были едиными и поскольку адаптация всегда привносит изменения, имеет смысл реконструировать отечественную версию воспринятого канона.
Легко предположить, что новые формулы видения и критерии оценки художественного произведения должны быть зафиксированы в академических учебниках или руководствах для художников. И даже если они полностью или частично состояли из фрагментов переводных сочинений (что было характерно для России XVIII в.), все равно это значит лишь то, что содержавшиеся в оригинальном сочинении эстетические соглашения принимались переводчиком и его читателями за действующую норму. В конце XVIII века на российского читателя обрушился настоящий шквал литературы, посвященной необычной для него теме – теории и истории искусств. За десятилетие с середины 1780-х и до середины 1790-х гг. были опубликованы письма немецкого живописца дона Антонио Рафаэла Менгса в переводе Н.И. Ахвердова (1786), оригинальный трактат французского художника И. Виена «Диссертация о влиянии анатомии в скульптуру и живопись» (1789), а также учебники преподавателей Российской академии художеств А.М. Иванова (1789), П. Чекалевского (1792) и И.Ф. Урванова (1793). Последние также не были оригинальными сочинениями, а представляли собой переложения одного или нескольких трактатов западных теоретиков искусства.
«Антики» для копирования учащихся
В силу жанровых различий этих изданий, а также тематических предпочтений авторов их описания не равноценны по объему и различаются в деталях. Наиболее развернутые суждения по интересующему нас вопросу содержатся в сочинении «Понятие о совершенном живописце», которое в 1789 г. издал Архип Иванов[114]. Оно представляло собой вольное изложение сочинения французского художника и теоретика искусства Роже де Пиля (1699), которое Иванов перевел на русский язык с итальянского издания[115]. Некоторые детали к прописанному у Иванова канону добавил учебник П. Чекалевского. В значительной мере его автор опирался на суждения знатока искусств, дипломата, доверенного Екатерины II по приобретению произведений итальянской и флорентийской живописи кн. Д.А. Голицына. В 1760-е гг. этот хорошо владеющий теорией искусства знаток новейших эстетических концепций записал для Академии художеств практические советы начинающим художникам и составил первый словарь художественных терминов[116]. Судя по всему, до выхода в свет учебника Иванова обучение академических воспитанников теории искусств осуществлялось по этим рукописям.
Итак, как оценивалось художественное произведение в России второй половины XVIII в.? Первое, что привлекает внимание, – от художника не ждали показа реалий жизни. «Ежели кто захочет представить Пейзаж, а никогда не видел местоположений выгодных по отменности или приятности для представления их, – наставлял учебный текст, – или хотя бы и видел их, но без дальнего применения, то поступит весьма благоразумно, если воспользуется трудами тех Художников, кои с таковых мест рисовали, или которые в пейзажах своих представили чрезвычайныя натуры произведения. Он может принять сии искусных Живописцев творения за самую натуру и употребить их потом в своих сочинениях»[117].
Для овладения мастерством следовало не изобретать новые пути, а идти проверенными дорогами: копирование образцов позволяло учащемуся приобщиться к великим тайнам живописи. Впрочем, это относилось не только к обучающимся рисовальщикам. Став самостоятельным, художник не переставал быть копиистом творений «великих мастеров». Великий художник, учил воспитанников П. Чекалевский, отличается от прочих тем, что может найти достойные объекты изображения и выявить их внутреннюю ценность. У него есть «гибкость руки», позволяющая материализовать плоды воображения, которые, в свою очередь, есть порождения философического разума. Мастер открывает новую тропу к совершенству, по которой пойдут последователи. Копируя произведения учителя, изучая его труды, они будут усваивать мысль и воображение наставника[118].
Описание стадий производства «шедевра»[119] обычно делалось на специфическом языке, посредством которого общались члены художественной корпорации и по которому они опознавали друг друга. Сегодня эти термины уже не кажутся прозрачными и требуют перевода на современный язык искусствоведения. Итак, «расположение» (композиция) подразумевало постановку объектов «для привлечения изящного внимания, и для удовлетворения зрению, показывая лучшие части, и наблюдая между оными хорошее противоположение, разноту и взаимную связь во всем»[120]. Приступая собственно к рисунку, художнику следовало помнить, что «изражения» (мимика или выражение лица) должны соответствовать предлежности (замыслу) и быть благородными, величественными и превосходными в главных лицах (персонажах); наблюдая притом правильную средину между «излишностию и неприятностию»[121].
Что касается поз персонажей рисунка, то «поставления должны быть естественны, выразительны, в оборотах своих различны и в членах противоположны; сверх сего просты или благородны, пылки или умерены по содержанию картины и рассмотрению Живописца»[122]. Руки следовало прописывать особенно тщательно, ибо «они способствуют к лучшему выражению действия фигур»[123].
Конечно, художнику следовало усвоить не только корпоративный язык, но и законы перспективы[124]. Но что делало живописца настоящим профессионалом в глазах «цеха», так это умелое «расцвечивание», которое давало образу «местный цвет» (основной) и «оттенение»[125]. Далее картине следовало придать «единство предмета», то есть подчинить композицию одной идее, единой тональности[126]. Соблюдение всех перечисленных правил должно было обеспечить «красоту» созданного произведения.
Чекалевский поправил де Пиля в том смысле, что ныне (спустя сто лет) под «красотой» подразумевается не столько следование правилам рисунка, сколько художественное усовершенствование реальности: художество «избирает в целом зрелище природы самое совершенное, соединяет разные части многих мест и красоту многих частных людей», то есть типизирует и идеализирует.
Помимо знания корпоративных законов, «совершенный художник», или «великий мастер», должен обладать несколькими врожденными, богоданными дарами. Одним из них признавался «большой вкус», помогающий выбрать в качестве объектов живописи достойные ее предметы («великие, чрезвычайные и правдоподобные»)[127]. Для исторической живописи их рекомендовалось брать либо из Истории, либо из Баснословия[128]. При этом даже от художественного полотна на историческую тему не требовалась достоверность. «Ежели я пожелаю научиться Истории, – вторил оригиналу Иванов, – то не стану в рассуждении сего советоваться с Живописцем, который не иначе как по случаю Историк»[129]. Назначение художественного образа виделось в том, чтобы развлекать и учить, а не документировать. Второй дар, необходимый художнику, это «приятность». Она соблазняла зрителя, заставляя полюбить художественный образ, «не проницая истиной ее причины»[130].
Изложенные в упомянутых учебниках положения о технике показа и видения в истории искусства получили условное обозначение «канон идеальной формы». Готовя в 1997 г. к переизданию текст «Рассуждений» Чекалевского, И.В. Рязанцев справедливо утверждал нормативность зафиксированных в них рекомендаций. «Большинство подобных знаний и навыков, – пишет он, – ранее существовало в академическом обиходе в устной форме или как наглядный, “из рук в руки” показ, как методика, передающаяся в личном общении от учителя к ученику, от одного поколения педагогов к последующему»[131].
В стенах Академии рисунок выполнялся, исходя из описанного в учебниках представления о прекрасном. Конечно, Академия художеств не была застывшей и монолитной корпорацией. Как и в любой школе, в ней были люди, тяготевшие к консервации, и педагоги, склонные к поиску и обновлению художественного метода[132]. Так, уже в конце XVIII в. И. Урванов выступал против копирования с оригиналов, считая, что оно затрудняет «живое понятие о натуре» и что только сама натура может дать верное представление «о свете, тени, отражении, перспективе и, наконец, о движении, без которых понятий молодому рисовальщику все кажется быть невразумительно»[133]. Другое дело, что тогда «натурализацией» достигался не столько эффект реальности, сколько иллюзионизма.
Но в любом случае педагогов не интересовала исходная культура воспитанника: его эстетическое мнение или привычка видеть. Предполагалось, что они заведомо неверны и требуют исправления. Первый историк Академии Николай Рамазанов вспоминал, как профессор А.Е. Егоров по утрам входил в натурный класс, «поочередно обходил учеников и меткими оригинальными замечаниями на рисунках и рассуждениями об искусстве направлял молодое поколение к истинному пониманию прекрасного»[134].
Под руководством учителя воспитанник рисовал условный мир. Он «изображал не тело конкретного человека, а просто человеческое тело, не дуб или березу, в вообще дерево»[135]. Поскольку основной задачей для него было не достижение сходства, а «подражание» качествам реальных предметов, от него требовалась общая символизация образов и сюжета. В результате такого обучения ученик даже в натурном классе ощущал, как между ним и портретируемым «как бы невидимо и постоянно помещался всегда древний Антиной или Геркулес, смотря по возрасту натурщика»[136]. Современники постоянно говорили об эффекте «поставленного взгляда»: «Он (воспитанник АХ. – Е. В.) смотрит на натуру чужими глазами, пишет чужими красками»[137].
Консервируя традицию, преподаватели «ставили» руку воспитанников, заставляя их годами копировать «антики» (копии греческих и римских статуй) и «оригиналы» (произведения классиков европейской живописи). Для этого профессора использовали экспонаты, собранные в Эрмитаже и Академическом музее. Эти собрания призваны были дать воспитанникам наглядное представление о том, что есть мировая сокровищница искусства и чем различаются «особые вкусы». Другое дело, что упомянутые коллекции не являлись систематизированной летописью и не давали полного представления о мировом искусстве.
Эрмитаж давал зрителям фрагментарное представление о западной живописи. В его залах были весьма слабо представлены работы немецких и английских художников, было мало работ современных живописцев, но зато музей разворачивал перед зрителем богатую панораму искусства эпохи Возрождения[138]. Музей Академии художеств складывался из специальных приобретений скульптуры и слепков, вывезенных из Греции и Италии, частной художественной коллекции первого президента И.И. Шувалова, собрания И.И. Бецкого и обязательных пожертвований прибывших на русскую службу иностранных профессоров. В результате будущая художественная элита России обучалась на творениях художников итальянской, фламандской, французской и бельгийской школ XV–XVIII вв.[139]
На основе этих же «оригиналов» создавались учебные пособия по «грамматике» художественного языка, которую должен был усвоить начинающий ученик. Так, профессор А. Лосенко издал атлас пропорций идеальной человеческой фигуры, по которому определялась «правильность» реальных тел[140]. Порядок копирования гравюр с «головами и прочими частями тела» соответствовал развитию руки и глаза воспитанника рисовального класса.
Руководствуясь каноном «идеальной формы», Совет профессоров выставлял оценки ученикам, награждал их золотыми и серебряными медалями и возводил понравившиеся работы «в оригиналы» – образцы для последующих поколений учеников. Наряду с европейской классикой, они висели на стенах учебных классов и в академическом музее, составляя с ней единое целое[141]. За пределами учебных помещений Академия осуществляла контроль над техникой рисования посредством отбора произведений для тиражирования за «казенный счет». Кроме того, власть «изящного вкуса» реализовывалась такими средствами, как проведение конкурсов и выставок, раздачи наград и выставление оценок, приоритет при распределении заказов, возможность получить место постоянной службы в Эрмитаже или поехать за рубеж на стажировку, получить выражение монаршей благосклонности или обрести личный патронаж, а также установлением высокой цены на продукцию.
В пространстве производства художественной проекции мира Академия претендовала на роль главного проводника и охранителя правил. Так было во всех европейских империях. В Париже, Лондоне, Вене и Петербурге Академии художеств являлись центрами художественного вкуса и цензорами эстетических взглядов. Все памятники славы отечественной, предписывал устав школы, должны возводиться с одобрения Академии. Изучая ее роль в художественной жизни страны, А. Бенуа называл российский храм искусств конца XVIII в. «олигархической думой», в которой учили не только тому, как справляться с техническими трудностями, но и тому, что считать прекрасным и что поэтому следует делать[142].
Судя по всему, утвердившийся в России синкретичный канон разорвал иконописную монополию и ввел отечественных любителей изящного в ренессансную парадигму западных художественных конвенций. Это повлекло за собой овладение техникой визуализации в режиме прямой перспективы (расслоение пространства на планы; уменьшение размеров тел, яркости тонов и отчетливости фигур по мере удаления тел на то или иное расстояние; схождение зрительных лучей и живописного пространства в точку в центре рамы и сюжета) и усвоение специфической эстетики (красота – это «химера», составленная из многих идеальных качеств)[143].
Все эти изменения в способах изображения и художественные договоренности предопределили, какие образы народов Российской империи увидели современники и как в них были вписаны представления об отличительных чертах российских обывателей.
Визуальная упаковка для инструментального знания
Посылая в экспедицию академического воспитанника, власть рисковала получить художественную проекцию империи, далекую от реальности и бесполезную с точки зрения информативности. Дабы снизить негативные последствия этого, направляющийся в путешествие художник получал правительственную инструкцию. «В изображении иноплеменных народов, – предписывала она в XVIII в., – надлежит вам стараться списывать с них вернейшие портреты и сохранять в оных характер, свойственный каждому народу или племени… хотя бы они казались или действительно были уродливы, ибо в рисунках Ваших натура должна быть представлена как она есть, а не так как она может быть красива и совершенна»[144]. И в 1829 г., отправляя художника с китайской экспедицией, президент Академии художеств А.Н. Оленин требовал того же: «Главное ваше старание, – писал он, – должно быть обращено к тому, чтоб все вами видимое и вами рисуемое, было представлено точно так, как оно в натуре находится, не украшая ничего вашим воображением»[145].
Цель данных руководств состояла не в том, чтобы научить, а главным образом в том, чтобы откорректировать существующую художественную практику – создавать условную реальность. Именно поэтому в инструкциях так много отрицательных императивов типа: «Вы не должны ничего рисовать по одной памяти, когда не будете иметь возможность сличить рисунка Вашего с натурою», «Надобно сколько возможно избегать того, чтоб виденное дополнить или украсить воображением»[146]. По всей видимости, паноптический режим властвования требовал протокольных репрезентаций реальности. Художник должен был усвоить, что «несоблюдение сего верного правила [т. е. отступление от документальности. – Е.В.] делает совершенно бесполезными рисунки, приложенные к разным, впрочем, весьма любопытным, путешествиям»[147]. Поэтому, подавая отчет в руки императора, исследователи заверяли: «Главным свойством описания путешествия почитается достоверность»[148].
В отличие от письменного отчета, рисунки не считались собственностью автора и рассматривались как общее достояние Академии наук. Поэтому созданные однажды образы надолго поселялись в научных изданиях и использовались издателями как объективное свидетельство. Например, рисунки, сделанные во время «Великой Северной экспедиции» (1733–1743) художниками И.В. Люрсениусом, И.Х. Берханом и И.К. Деккером, впоследствии много раз служили иллюстрациями к описаниям различных по маршруту и времени путешествий, с них изготавливались гравюры к академическим публикациям по всем отраслям наук.
Получивший деньги на экспедицию ученый (сам или посредством сопровождавшего художника) описывал встречающихся на его пути жителей, осуществляя процедуру, которую З. Бауман назвал «неточная и тривиальная стереотипизация посредством показа различий»[149]. Несмотря на полученный заказ, графические типажи естествоиспытателей не были точной проекцией реальности даже на уровне эскиза. Во-первых, результаты любого антропологического наблюдения содержат значительную долю субъективной интерпретации увиденного. А во-вторых, художественное изображение не способно фиксировать рутину[150]. И поскольку художник помещал этнический образ в контекст ландшафта, культуры, социальных отношений, персонального восприятия, то нарисованный им персонаж воспринимался сквозь призму вопроса «Что это значит?», побуждая зрителя к реконструкции взгляда создателя.
С точки зрения техники рисунка большинство сохранившихся костюмных гравюр являются составными и условными композициями. Так, на одной из них, помещенной в изданном уже после смерти С.П. Крашенинникова отчете, изображена двухфигурная сцена. На фоне холмистой земли нарисованы две женщины: одна в зимнем облачении стоит в полный рост, другая с татуировкой на голом теле сидит на земле[151]. Идентификационная подпись под рисунком указывает на Чукотку как место их обитания. Трудно предположить, что художник на самом деле когда-либо наблюдал такую сцену и перенес ее на лист с «натуры». В лучшем случае рисунок мог быть выполнен по памяти, а скорее всего, был составлен из фрагментов разных визуальных впечатлений, приправленных воображением.
Как правило, понятие «иллюстрированное издание» для того времени подразумевало наличие гравюр в теле книги, а не визуальное сопровождение текста или дополнение рассказа. Особенностью академических изданий второй половины XVIII в. является почти полное отсутствие связи текста и рисунка. Мало того что гравюра помещалась в книге произвольно, не подтверждая слова исследователя, она нередко имела к ним весьма отдаленное отношение. Визуальный и вербальный тексты сосуществовали под одной обложкой независимо друг от друга и, видимо, прочитывались/просматривались соответственно.
Гравюра «Чукотские женщины» из книги Крашенинникова «Описание земли Камчатки…»
С расширением опыта научных исследований и профессионализацией издательской деятельности в российских изданиях стали появляться рисунки, более тесно связанные с авторской концепцией и имеющие более широкий набор элементов этнографического описания, таких как пропорции лица и тела, летний и зимний костюмы – вид спереди и сзади, орудия труда, элементы флоры и фауны, характерные для места проживания данного народа, а иногда и образцы жилища. Примером тому служит описание путешествия И.Г. Георги 1773–1774 гг.[152]
Автор представил взору читателя несколько гравированных монохромных рисунков. Во втором томе их шесть. При каждом есть указание страницы текста, к которому данный рисунок тематически относится. Три гравюры представляют собой городской план и карты местности, один рисунок изображает рыбу, один – предметы культа, и один посвящен «костюмам». План «старой Казани», а также карта дельты реки Чусовая, как явствует из подписи, выполнены С. Максимовым. Карту озера Байкал делал А. Рыков. Остальные рисунки не имеют авторской подписи. Их художественное несовершенство позволяет предположить авторство самого Георги. Как будто отвечая на незримый вопросник, исследователь поместил «костюмы» тунгусов в богатый по наполнению пейзаж – среду их естественного обитания. Подобно музейной экспозиции, гравюра составлена из соответствующих вещей и зверей. Одетые в традиционные костюмы персонажи не имеют каких-либо антропологических особенностей. Они стоят с вывернутыми руками, в которые вложены колчан и стрелы. Такие позы обусловлены, с одной стороны, любительской выучкой рисовальщика, плохо справляющегося с изображением рук, а с другой – негибкостью деревянных манекенов, на которые надевались костюмы из Кунсткамеры. При этом ассоциации с уродцами и диковинками, между которыми экспонировались эти вещи, должны были порождать в российском зрителе их соотнесение с экзотикой.
Гравюра «Рыба» из книги Georgi J.G. «Bemerkungen einer Reise…». 1775
Гравюра «Ритуальные вещи» из книги Georgi J.G. «Bemerkungen einer Reise…». 1775
Гравюра «Тунгусы» из книги Georgi J.G. «Bemerkungen einer Reise…». 1775
«Чувашанка спереди» из книги Георги И.Г. «Описание всех…». 1799
Гравюра «Мордовка» из книги Палласа П.С. «Путешествие…». 1809
Схожие рисунки можно обнаружить и в трактате П.С. Палласа. Если верить сопроводительным подписям, на них изображены мордовка, чувашка и марийка. Каждая из фигур одета в традиционный костюм и показана в трех видах: со спины, фронтально и в профиль. Все они статичны, у них условно прорисованные лица и вывернутые, так же как на гравюрах Георги, руки. Композиционное отличие состоит лишь в том, что в рисунках Палласа фоновый пейзаж снят, и «костюмы» предстают перед зрителем в виде выставленных на подиум манекенов[153].
Судя по гравюрам, созданным по эскизам И. Георги[154], И.В. Люрсениуса, И.Х. Беркхана и И.К. Деккера, российские рисовальщики хорошо знали соответствующие западные образы. Люди на них выглядят так же, как туземцы и дикари в гравюрах, сделанных по зарисовкам Д. Веббера и иллюстрирующих путевой журнал Дж. Кука[155]. Как правило, такие рисунки содержали набор вещей, приписанных тому или иному сообществу, а постановка, позы и взгляд изображенных персонажей выдавали в них объекты, данные зрителю для изучения.
Несмотря на различия в форме и содержании, добытые в академических экспедициях знания не могут рассматриваться как продукт индивидуального творчества. Так, четыре монохромные гравюры, часто воспроизводимые в изданиях второй половины XVIII в. (камчадал в зимнем и летнем платье, а также камчадалки с детьми в простом и летнем платье), были сделаны по зарисовкам участника экспедиции 1732–1743 гг. И.Х. Беркхана, рисунки с них выполнил И.Э. Гриммель, а гравировал их И.А. Соколов в Гравировальной палате Академии наук уже в 1754–1755 гг.[156] Другой пример: с Палласом по Сибири, Уралу и Поволжью странствовал художник Х.Г. Гейслер. Его рисунки вложены в отчеты ученого, и даже самостоятельно сделанные зарисовки исследователь отправлял к нему на доработку.
Попадая к граверу, рисунок вновь оказывался объектом множественных воздействий. Об этом свидетельствуют сохранившиеся документы Гравировальной палаты Академии наук. В одном из них академик Я.Я. Штелин сообщал, что в течение пяти лет имел смотрение над всеми «гравирными подмастерьями и учениками Академии» и правил все поступающие к нему доски. Среди правленых гравюр академик назвал, в частности, иллюстрации к путешествиям Палласа, Гмелина, Лепехина, а также к изданию «Собрание российских и сибирских городов»[157]. Участие в создании костюмного образа разных специалистов, их вмешательство в визуальный текст и, соответственно, различия индивидуальных интерпретаций весьма заметны при сопоставлении оригинальной зарисовки, «беловой» версии рисунка, гравированного отпечатка и расцвеченных экземпляров, поступивших в продажу.
К тому же при переизданиях изменениям каждый раз подвергался не только вербальный текст (перевод, сокращение, редакция), но и иллюстрации. В результате есть издания «Путешествия» Палласа с черно-белыми гравюрами, а есть – с цветными рисунками. Во французском переводе данного трактата все иллюстрации выделены в отдельный альбом, а в немецко– и русскоязычном изданиях расположены в двух вариантах: среди листов текста в увязке с теми страницами, где идет их вербальное описание, или в конце соответствующих томов. Цветные иллюстрации в переводных изданиях печатались с тех же гравировальных досок, что и в немецкоязычном оригинале, но в них догравированы русский и немецкий тексты, а сам отпечаток раскрашен вручную. Таким образом, книжные иллюстрации были коллективным трудом на всех этапах их изготовления.
Гравюра «Казанский Татар» из журнала Х. Рота «Открываемая Россия»
Очевидно, неброские, с явными погрешностями в композиции и деталях гравюры к академическим текстам соответствовали познавательным нуждам того времени. Другое дело, что они не удовлетворяют современных ученых. Мнение этнографов об их информативной ценности демонстрирует следующее высказывание:
…Этнографические сведения, которые мы находим в сочинениях Палласа, являются достаточно обобщенными. Описания одежды волжских народов, например, будучи относительно краткими, не дают представления о вещах. Что же касается иллюстративного материала автора (равно как и иллюстраций к этнографическому сочинению его современника Георги), то он также представляет собой лишь вольное воспроизведение подлинников художником, некую стилизацию, игнорирующую зачастую отдельные ценные детали, в целях разрешения общей композиции рисунка. Зарисовки, сделанные художником, нередко искажают оригинал и привносят в него нечто новое, в нем не содержащееся[158].
Такой приговор является следствием нереализованного желания обнаружить в экспедиционных рисунках зеркальное отражение действительности и разочарования от ее субъективных интерпретаций художником.
Собранные к 1770-м гг. графические сведения о народах Российской империи систематизировал и запустил в художественное производство служивший в Петербургской академии наук гравер из Нюрнберга Христофор Рот. Сегодня комплекс его гравюр исследователи называют «костюмы Георги», что является следствием их восприятия потребителями[159]. В 1774–1775 гг. на собственный страх и риск Рот издавал художественный журнал «Открываемая Россия», гравюры которого послужили основой для «народной» энциклопедии И.Г. Георги[160]. Естествоиспытатель с самого начала был участником нового издательского предприятия. Среди прочих сотрудников известно только имя рисовальщика Дмитрия Шлеппера.
Коммерческий проект удался: тираж «Открываемой России» был быстро раскуплен и довольно скоро стал художественной редкостью. В 1907 г. Н. Соловьев писал о нем так: «Вышло всего, по указанию Сопикова, 15 номеров по 5 рисунков без текста в каждом, причем издатель журнала нам неизвестен… Издание прекратилось в 1775 г. и представляет собой большую редкость»[161]. Выпуск первый начинался с гравюры «Якутская баба». Заглавие и подписи к раскрашенным от руки самим Х. Ротом рисункам были сделаны на трех языках: русском, немецком и французском, что отражало потенциальную аудиторию, к которой обращались издатели, – европейские и российские элиты.
Гравюра «Мокшанка спереди» из книги Георги И.Г. «Описание всех…». 1799
Гравюра «Мордовка с лица» из книги Георги И.Г. «Описание всех…». 1799
Сейчас трудно точно определить тираж данного издания. Можно лишь опереться на косвенные свидетельства. Историк русской графики Д.А. Ровинский утверждал, что техника гравюры XVIII в. позволяла снимать с резанных глубоким резцом досок до «1500 хороших отпечатков и еще 1500 послабее; оттиски четвертой тысячи выходят по большей части сероватого и однотонного колера. Доски, гравированные мелким резцом, дают тысячью отпечатками менее. Доски, гравированные сухою иглою (т. е. по голой меди), дают не более 150 хороших отпечатков; сильно резанные несколько более»[162]. Если речь шла о четырехтысячном тираже, это было много по тем временам.
Из первых, самых четких оттисков издатель сделал репрезентационный альбом с собранными воедино 95 раскрашенными гравюрами. Его украсил кожаный с золотым тиснением переплет. Вероятно, он был подарен самой императрице. Сегодня он вместе с прочими книгами и альбомами князя Г.А. Потемкина-Таврического хранится в библиотеке Казанского университета. Так же как и в журнале, в нем не было иного текста, кроме сопроводительных подписей. В немецком варианте альбом назывался «Представление о костюмах народов Российской империи»[163].
В России Христофор Рот прожил более 10 лет, но ни он сам, ни его помощник Шлеппер не были участниками экспедиций и гравюры «костюмов» делали, не выезжая из российской столицы. Историки искусства расходятся во мнениях о том, кто был подлинным автором этих рисунков и что служило для них «натурой»: образцы одежды, рисунки иных художников, фантазия или визуальные наблюдения. Разные версии по этому поводу отразились в справочных изданиях и в исследовательской литературе. Так, Н.Н. Гончарова считает, что они сделаны по зарисовкам Лепренса и Георги. Действительно, при сопоставлении видно, что, например, «костюмы» «Казанский Татар», «Татарка казанская спереди», «Татарка казанская сзади» Рот сделал, воспроизведя на меди соответствующие типажи с гравюры Лепренса «Tartares des environs de Kazan». Тот же источник (Лепренс) у гравюры «Женщина Валдая».
А.Э. Жабрева, выявляя интервизуальные связи данного журнала, пришла к выводу, что издательский проект Рота с самого начала был прочно связан с коллекцией набросков Георги. Вместе с тем исследовательница предупредила, что «вопрос о том, кто с кого перерисовывал и перегравировывал иллюстрации для разных изданий конца XVIII – начала XIX в., весьма запутанный и никем пока еще не решенный»[164].
Это не мешает мне предположить, что народные представители в «Открываемой России» создавались на основе трех компонентов: ранее изданных костюмных гравюр; отложившихся в архиве Академии рисунков (в качестве служащих Академии наук Рот и Георги имели к ним свободный доступ); и хранящихся в Кунсткамере образцов одежды. Каждая экспедиция привозила в Петербург и сдавала в главный музей традиционные или ритуальные костюмы из обследуемого региона. Так, одна только «Великая Северная экспедиция» обогатила императорскую коллекцию одеждой «юрацких, тавгийских, аванских, остяков, юкагиров, ламутов, коряков, тунгусов, курильцев и др.»[165]. Известно, что в 1740-е гг. все эти вещи хранились в шести шкафах, из которых два были посвящены народам Сибири и Урала, один – одежде иностранных жителей, три – ритуальным нарядам колдунов и язычников[166]. После пожара 1747 г. коллекцию восстанавливали. Так, когда в 1753 г. в Китай был направлен лекарь Франц Елачич, ему предписывалось: «Понеже платье Сибирских народов во время пожару згорело, то покупать вам каждого народа мужское и женское целое платье со всеми к нему уборами, також имеющихся у них идолов, куяки, ружье, домовую збрую и прочее сему подобное и все оное прислать в Академию»[167].
Гравюра «Черемиска в летнем платье» из книги Георги И.Г. «Описание всех…». 1799
Впрочем, проблема, столь важная для искусствоведа и библиографа, стоит не так остро для историка культуры. Атрибуция не является первоочередной задачей данного исследования. При стилистическом разнообразии использованных графических и материальных первоисточников Рот подчинил все народные образы единой интерпретации. Для этого он использовал технику типизации, характерную для «городских криков». С ней российский зритель познакомился благодаря кассельскому граверу А. Дальштейну. В 1755 г. Дальштейн выпустил альбом с художественными образами городских жителей Российской империи[168]. Издатель явно подражал широко известной французской сюите «Крики Парижа». Каждое изображение представляло в нем замкнутую ситуацию-сцену, в которой человек являлся носителем символического действия. Для его показа Дальштейн применял античный способ изображения, предлагая фронтальный или театральный разворот персонажа. Созданные таким образом «костюмы» – это статичные фигуры без фона. Персонажи стоят так, чтобы обеспечить зрителям лучший обзор надетых на них вещей и характерных орудий труда. Все это прорисовано с протокольной точностью и ярко раскрашено.
Данный жанр был весьма популярным среди нарождающегося слоя буржуа в Европе, желающих увидеть себя в художественной проекции мира. Их спрос приносил доход рисовальщику. В России А. Дальштейн не мог рассчитывать на интерес внутреннего потребителя. Свои зарисовки он делал в расчете на западную любознательность, а потому отбирал для изображения экзотические объекты[169]. Двадцать рисунков демонстрируют городских обывателей: старых и молодых, мужчин и женщин, в зимней и летней одежде. Восемнадцать гравюр посвящены коробейникам, восемь рисунков изображают духовных особ православной церкви. Кроме того, в данную сюиту включены фольклорные свидетельства – музыкальные инструменты и танцы. Человеческое разнообразие России художник передавал через социальные типы. Отсюда выбор городского многолюдья как проекции империи.
В отличие от Дальштейна, Рота интересовали не столичные города, а вся империя. Однако показанная зрителю через однофигурные композиции, она предстала как своего рода «империя-город» или «империя-музей». Каждый лист данного издания представляет собой гравюру с письменным указанием имени персонажа и места его обитания. В целом в данной художественной коллекции преобладают народы пограничных (западных, северных и восточных) регионов Российской империи. Само по себе это свидетельство зависимости автора от обнаруженных в архиве экспедиционных зарисовок и музейных приобретений.
Подобно художникам-путешественникам, Рот тщательно прописал костюм и предметы занятий каждого персонажа. При этом ему явно не были важны лицо и контекст их природного окружения. Нарисованные фигуры разнятся лишь основными «расовыми» признаками: европейцы и азиаты. У них всех универсальные театральные позы. Кажется, что специфика группы в проекте Рота приписана не людям, а вещам. Это отражало современную культуру видения мира. Костюм указывал на социальную роль, родоплеменную принадлежность, идейное и эстетическое содержание человека. Смена этого содержания меняла идентичность личности. Поэтому именно вещи (а также предметы труда и быта) любопытный зритель альбома «Открываемая Россия» рассматривал в качестве визуальных признаков группности.
Гравюра «Чувашанка спереди» из книги Георги И.Г. «Описание всех…». 1799
Все типажи, предлагаемые для распознания, расположены на фоне низкой линии горизонта. Использованная в данном журнале стратегия обобщения и технология производства гравюр подразумевала признание равенства между жителями империи. Все народные представители выглядят однопорядковыми элементами имперского многообразия. Примечательно, что в проекте Рота нет «русских» и «татар» как самостоятельных общностей. В «Открываемой России» есть образы «калужского купца», «валдайской девки», «донского казака», «российского крестьянина»; есть гравюры «тюменский татарин», «крымская татарка», «казанские татары». Но зритель вряд ли мог самостоятельно соединить их в мегагруппы. Наличие у жителей, вошедших впоследствии в эти категории, различных вариантов этнического костюма[170] и разные места их проживания побуждали художника изображать каждую известную ему вариацию как самостоятельный народ. Так появились связанные с местностью «калужцы» и «валдайцы», а также с социальными слоями «крестьянин», «купцы» и «казаки». Зримых признаков общности в альбоме «Открываемая Россия» они явно не имели.
В 1776 г., то есть год спустя после журнального и альбомного изданий, гравюры из «Открываемой России» были изданы в «Описании всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достойнопамятностей» Иоанна Готлиба Георги[171]. Сам автор в предисловии к немецкому варианту книги писал:
К составлению краткого связного описания всех наших наций в теперешнем состоянии и пр. побудил меня замысел К.М. Рота – издать с помощью некоторых ученых русские нации (что можно перевести и как «русские народы». – Е.В.) в подлинных изображениях под названием «Изображения различных одежд русских наций» в тетрадях по 5 листов, к чему он приступил в 1774 г. Они понравились, но для многих любителей потребовались краткие исторические сведения об этих, частью малоизвестных народах. Здешний книгопродавец г. К.В. Мюллер принял на себя это издание, требующее значительных издержек, а я взял на себя составление описания[172].
Гравюра «Башкирка» из книги Георги И.Г. «Описание всех…». 1799
Гравюра «Донской Козак» из книги Георги И.Г. «Описание всех…». 1799
Гравюра «Калужский Купец» из книги Георги И.Г. «Описание всех…». 1799
Гравюра «Донская Козачка» из книги Георги И.Г. «Описание всех…». 1799
Примечательно, что, судя по признанию Георги, рисунок предшествовал появлению научного текста, что он спровоцировал его написание и послужил для него структурирующим началом. В этом отношении история создания данного трактата воспроизводит последовательность мыслительных процедур. Согласно данным когнитивных исследований, интеллектуальная деятельность начинается лишь тогда, когда процесс визуального восприятия уже закончен[173]. В XVIII в. этнографическое знание рождалось из наблюдений и последующих расспросов. Соответственно, оно упаковывалось сначала в «картинку», а потом в «этнографическое письмо».
Тому, что в деле описания человеческого разнообразия изображение стало ведущей практикой, были и другие причины, имеющие отношение к читательской культуре. Во-первых, христианская традиция закрепила за рисунком больший ресурс достоверности, чем за литературным текстом. Считалось, что миметический (подражательный) образ воздействует, а значит, и учит быстрее и эффективнее, чем слово[174]. Во-вторых, поколение людей эпохи Просвещения видело в визуальном образе устойчивый медиум, через который реальность являла себя для понимания[175]. «Поэзия – невнятное лепетанье, а красноречие безмолвствует, если только Художество не послужит ему в виде истолкователя»[176]; «Ибо гораздо сильнее действуют на душу понятия, приобретаемые посредством зрения, нежели те, кои доходят до нее чрез слышание», – уверяли современники[177].
Такой подход стал едва ли не доминирующим при публикации народоведческих и исторических изданий второй половины XVIII в. Многие издательские проекты начинались тогда с изготовления гравюр. Так, в 1774 г. граверам Академии наук было поручено сделать рисунки с экспонатов Кунсткамеры и Медальерного кабинета. При этом в предписании оговаривалось: «Но как к объяснению сих редкостей необходимо также нужно описание оных, то сочинение онаго определено поручить господину академику Котельникову»[178]. Чтобы понять мир, надо было показать и описать его основные атрибуты. И лишь потом визуальный образ порождал текст-комментарий.
В немецкоязычном оригинале издания Георги «Ротовский музеум» появился в виде двух гравюр с трехуровневыми таблицами на каждой: 20 фигур в одной (предназначенной для иллюстрации первых двух частей исследования) и 19 фигур во второй[179]. То есть из 95 оригинальных гравюр в таблицы вошли только 39, но при этом репрезентированы были все поименованные в журнале народы. Видимо, делавший их гравер И. Шелленберг отбирал из «Открываемой России» один (или мужскую-женскую пару) из нескольких возможных социальных и возрастных образов народа, причем фронтальный образ считался предпочтительнее, нежели «костюм со спины» или в профиль. Все персонажи пронумерованы (шрифт цифр тот же, что и у подписи автора) и над каждым от руки (вероятно, рисовальщиком) сделана поясняющая подпись на французском языке.






