Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» Вишленкова Елена
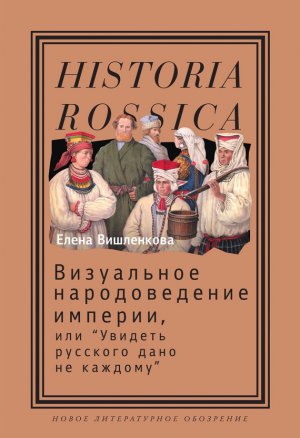
Описывая человеческое разнообразие империи, доктор Кларк обращал особое внимание на «смешанные» типы. «С того времени как мы оставили Тулу, – сообщал он, – стали видны значительные изменения во внешности людей, которые я не мог объяснить. Крестьяне часто имели светло-желтые волосы, как жители Финляндии, и такую же субтильную фигуру… В Воронеже часто встречаются цыгане и смешанные типы, произошедшие от браков цыган с русскими»[294]. Обычно по отношению к таким людям в русском языке XVIII в. использовалось определение «ублюдок»[295]. Оно соответствовало профанному представлению о народе как о замкнутом и стабильном образовании, устойчивым признаком которого является «чистота». Считалось, что смешение с другими группами образует «выродков» или «перерожденцев», отторгаемых общиной.
C древних времен понятия «чистоты» и «загрязнения» (оно же «осквернение») были обязательными элементами конфессиональных дискурсов. Ими обеспечивался контроль над сферой интимной и частной жизни, а также регулирование границ группы. Риторика «чистоты» участвовала в насаждении норм, конструировании социального порядка и стабильности[296]. С V в. средневековая Европа исповедовала культ «чистоты сердца», подразумевающий самоконтроль и контроль извне над мыслями и желаниями[297]. В эпоху Просвещения категории «чистота» и «загрязнение» были увязаны с представлениями о чести, морали и достоинстве. Тогда же антропологическая мысль заместила понятие «чистота сердца» расовым концептом «чистота крови», сохранив за ним часть предшествующей семантики. В результате «чистые» сообщества должны были обладать не только единым антропологическим типом, но и стабильными культурно-психологическими качествами. Таким образом, данная категория продолжала служить унификации и стабилизации. В этом отношении Россия представала в описании Кларка неупорядоченным и нестабильным образованием.
Гравюра «Крестьянин и крестьянка в летних одеждах» из книги Breton M.L. La Russie. 1813
Гравюра «Портрет девочки– калмычки» из книги Breton M.L. La Russie. 1813
Публицистический жанр позволял колониальным путешественникамапеллировать к массовым представлениям современников. Это, с одной стороны, облегчало их восприятие и обеспечивало популярность издания, а с другой – придавало содержащимся в них суевериям и стереотипам статус достоверности. При этом встроенные в текст, обосновывающий культурную иерархию мира, экспедиционные зарисовки обогатились новым символизмом. Костюм перестал в них выполнять функцию стабильного идентификационного знака. Основанием для определения места народа на цивилизационной шкале были признаны плохо поддающиеся изменениям «нравы». Они виделись результатом синтеза исторической традиции и просветительских действий власти.
На основании этого признака процесс европеизации, наблюдаемый иностранными путешественниками в России, ее активное вхождение в мировую политику интерпретировались как своего рода переодевание, направленное на то, чтобы обмануть доверчивых европейцев: «русские» (что было синонимом «россияне») варвары или дикари подыгрывают Европе, чтобы покорить ее. Безусловно, стремление сделать их младшими или и вовсе вытеснить за границы цивилизации поддерживалось настроениями военного противостояния. В этих условиях научный дискурс оказался экспроприирован политикой.
Установленная Портером и Кларком иллюзорность естественного видения и вторичность рисунка в познании империи (в силу его ограниченной способности выразить скрытые сущности), продемонстрированная ими управляемость визуального образа текстом привели к тому, что в зарубежной россике одни и те же образы стали использоваться в разных жанрах и в разных дискурсах: и для создания карикатур, и в качестве иллюстраций к энциклопедиям. Так, в 1813 г., когда Великая армия Наполеона была разбита в России, а на территории Восточной Европы шли коалиционные бои, в Париже вышло шеститомное миниатюрное издание – «Россия»[298]. Выбор его формата и структуры был опробован издателями ранее. В эпоху растущего интереса западноевропейского читателя к Востоку французские мастера книжного дела выпускали подобные энциклопедии о Китае и Османской империи[299]. Изданные на роскошной вeленевой бумаге, со множеством высококачественных гравюр, форматом в 1/12 листа, переплетенные в картонные с кожаными корешками переплеты, книги стали успешным коммерческим проектом. Несмотря на высокую цену, тираж быстро раскупался и приносил прибыль.
Вероятно, в преддверии войны с Россией французские издатели почувствовали момент для создания новой энциклопедии, дополняющей «восточную серию». Европейский читатель хотел знать: куда направляется Великая армия? С кем она сражается? И его мало убеждали сатирические образы россиян, что время от времени появлялись на парижских книжных рынках. Глядя на них, обыватель невольно задавался вопросом: почему для покорения столь странно выглядящих, одетых в причудливые костюмы аборигенов требуется столь дорогая армия? Он, кажется, желал знать, чего ожидать, чего бояться и на что надеяться в будущем. Однако трудность создания данной энциклопедии заключалась в том, что ответить на эти вопросы потенциальных покупателей издателям предстояло в обстановке цивилизационного пафоса наполеоновской идеологии и неизвестного исхода текущей войны.
Верхняя обложка книги Breton M.L. La Russie. 1813
Нижняя обложка книги Breton M.L. La Russie. 1813
Взявшийся за это М. Лебретон написал текст о России на основе изданных в Европе академических трактатов и травелогов, а в качестве иллюстраций воспользовался гравюрами Р. Портера и Э. Кларка. Впрочем, переписывая тексты и перегравируя иллюстрации, издатель весьма вольно обращался с оригиналами, манипулируя их смыслами. В пространстве графики это достигалось следующими техниками: из двух и более композиций составлялась одна, в оригинальный образ вносились коррективы, менялись идентификационные подписи. Например, по указанию Лебретона граверы убрали панораму Стокгольма и катающихся на коньках персонажей в портеровской гравюре «Шведские прачки» и назвали ее «Петербургские прачки». В таком виде она показала социальный сюжет, соответствующий идеологическому замыслу ориентализации России (западные женщины не стирали белье в ледяной воде), а этнографизм не имел в этом проекте большого значения.
Восточность, или цивилизационная отсталость противника, кодировалась визуальными знаками разного семантического наполнения. Так, в качестве фронтисписа в первом томе представлена панорама Москвы, на ближнем крупном плане которой изображен купол церкви с восточнохристианским крестом. Но, пожалуй, наиболее зримо стратегию визуального снижения описываемого объекта демонстрирует гравюра, аналога которой нет ни у Кларка, ни у Портера. Это изображение трех аллегорических женщин. Две из них – статные и величавые – сидят на кушетке в позах античных статуй и смотрят на девочку-подростка, стоящую перед ними (спиной к зрителю). В отличие от дам, облаченных в мусульманское и греческое платье, ее костюм не идентифицируется. Подпись под гравюрой гласит: «Мусульманка и гречанка» («Femme musulmane. Femme grecque«). Это символическое изображение той роли, которую издатели отводили России в мире: недоросля меж двух цивилизаций – Запада и Востока. Она тянется к античному наследию, имея за спиной мусульманскую традицию.
Большинство костюмных гравюр в этой серии составлены как многофигурные композиции. Так, образ русских крестьян объединяет женский и мужской типажи из издания Р. Портера. Для того чтобы осуществить это технически, мастеру пришлось изменить разворот персонажей. При механическом копировании женщина и мужчина, держащие на руках детей, оказались бы отвернувшимися друг от друга, что противоречило идее семьи. Кроме того, некоторые детали их костюма и внешности оказались изменены либо отсутствуют вовсе. Например, кокошник на русской крестьянке превратился в головную повязку, а у крестьянина исчезла борода. Для российского зрителя эти нюансы меняли семейный статус образов: получалось, что совместных детей имеет несемейная пара, что свидетельствовало о дикости русских нравов. Впрочем, французский читатель вряд ли был посвящен в семантику русского костюма.
Подобно ротовскому альбому, Парижская энциклопедия представила Россию как совокупность народов-земель. Благодаря такой репрезентации империя воображалась дискретным лоскутным образованием, состоящим из множества никак не связанных между собой поселений и объектов. Они проживали в разных исторических временах, далеко отстающих от Франции – пика цивилизационного развития. Визуальным доказательством российского анахронизма служила ее костюмная репрезентация. В начале XIX в. «знатнейшие народы» через традиционные костюмы уже не описывали[300]. Этнография считалась «нижней» частью истории. Ее высшей частью были письменные рассказы. Соответственно, «высшей» историей обладали нации и государства, а племена и народы – только этнографическими описаниями. В западноевропейских изданиях рубежа веков нации говорили с читателем собственными «голосами», представляли свидетельства самоописания. По своему композиционному решению размещенные в Парижской энциклопедии костюмы напоминали зрителю образы племен в альбомах колониальных путешественников[301]. К тому же Лебретон усилил данный эффект гравюрами с изображением экзотических (ритуальных) вещей и даже профильными изображениями изучаемых объектов.
Предоставленная читателю возможность сравнить физиогномические признаки русских и греков была данью новому направлению в западной антропологии. В отличие от своих предшественников, натуралисты начала XIX в. интересовались не столько костюмами и татуировками (то есть изменчивыми признаками), сколько черепными формами и физиологическими особенностями скелета. Такой подход стал результатом нарастающего значения френологии, «науки об изучении человеческого черепа». С конца XVIII в. ее сторонники доказывали, что особенности мозга связаны со свойствами его «хранилища». Считалось, что размер той или иной его части прямо влияет на характеристику мышления. Следовательно, череп мог служить указателем способностей и характера человека[302]. Соответственно, для того чтобы показать народ или племя, не требовалось все тело или костюм. Опознать его и понять его качества можно было по черепу и лицевым признакам.
Под первой картонной обложкой парижского шеститомника читатель обнаруживал гравированным способом отпечатанный символический портрет России. В стилизованных восьмигранниках представлены пять голов: в центре – созданное Портером лицо девочки-калмычки, которое обрамляют лица двух европейского вида женщин (сверху) и двух азиатской внешности мужчин (снизу). При желании головы взрослых можно было идентифицировать по костюмным гравюрам, размещенным внутри издания. Это головы ярославской купчихи и мещанки, а также калмыка и донского казака. И если в костюмных гравюрах народное представительство передавалось через элементы костюма, то на символическом портрете главными для художника оказались лицевая мимика и антропологические признаки. Дело в том, что образы на обложке были довольно вольной копией с соответствующих оригиналов. Их лицевые черты были увеличены и физиогномически стилизованы, что позволило приписать образам и воплощенным в них народам культурно-психологические свойства, которые на языке того времени назывались «качества народов» (например, «кичливый сармат», «добрый лапонец», «спокойный, важный кахетинец», «смелый вогулич»).
На нижней обложке издания помещена монохромная гравюра с пейзажным рисунком, изображающим матерого лося, бредущего по лесному бурелому. В европейской графике лось символизировал пустые, не затронутые человеческим воздействием («нецивилизованные») земли. Так иллюстратором книги задавались параметры восприятия России – дикие люди и пустое пространство, человеческая многоликость и непокоренная природа.
Потребность внутреннего видения
Ориентализирующая «россика» задевала и травмировала чувства просвещенных россиян. Недовольство циркулировавшими на Западе образами они объясняли некомпетентностью (незнание русского языка) и намеренной предвзятостью (политической ангажированностью) создателей. Как правило, уверяли патриоты, записки и рисунки иностранцев – это коллекция смехотворных казусов, небылиц и анекдотов. В качестве примера указывали на травелоги Р. Портера и Э. Кларка[303]. Крепко усвоив западные модели мышления, российские элиты желали получить правильный образ многонародной России. Но теперь он сопрягался не со «взглядом извне» (западным научным дискурсом и художественным каноном), а с внутренним правом художника, порожденным его опытом наблюдений и «особым вкусом»[304], то есть местным представлением о красоте.
Несмотря на антизападную риторику, проблематизация самоописания явилась закономерным следствием растущей европеизациии отечественных элит. Их стремление обрести статус представителей «политичной нации» (то есть рационально описанной и участвующей в принятии мировых судьбоносных решений), добиться высокого места на цивилизационной шкале стимулировало изучение ими мирового универсума людей. Оно по необходимости подразумевало овладение языком европейской культуры и инструментальными техниками западной рационализации. Естественно, что вооруженные ими интеллектуалы захотели воспользоваться этим для того, чтобы вписать Россию в европейскую телеологию.
С наступлением эпохи классицизма референтным источником аргументации для такого рода деятельности служила античность, вернее – весь комплекс идей, ценностей и образов, который с ней ассоциировался. Используя ее символику и мифологию, протагонистам российского Просвещения удавалось переводить факты отечественного прошлого и настоящего на язык универсальной европейской культуры. Для облегчения такого перевода в XVIII в. издавались специальные словари «символов и эмблематов», инструкции медальерам и рисовальщикам аллегорических виньеток[305]. На исходе столетия российские интеллектуалы не только описывали в античных категориях имперское прошлое, но и переводили на язык античной метафорики фольклорные тексты. Так, развенчивая зрительское впечатление от гравюр Гейслера, П.И. Шаликов провозглашал: «Мудрено ли нам быть Героями на бранном поле; трудно ли сделаться нам победителями вселенной, ежели лучшая забава народа Русского состоит в драке, самой жестокой?»[306] В его рассуждениях традиционная тема былин и жанровых гравюр – кулачный бой – была перекодирована из драки в римское состязание.
Такая переводческая деятельность породила новые идентификационные явления: адаптацию конструктов патриотизма, гражданственности, отечественной добродетели и других составляющих глобального просветительского проекта. Испытав это, «мы среди блеска просвещения, нами приобретенного, – признавался В. Измайлов, – можем без стыда заглянуть под мрачную сень древности, скрывающую наших добрых предков, и у них научиться народному духу, патриотической гордости, домашним добродетелям и первому физическому воспитанию, которое имеет столько влияния на душевные способности человека»[307].
Долгое время противостоять западной стигматизации Российской империи и опровергнуть мифологию «дикой русскости» элитам не удавалось в связи с тем, что за их плечами не было гуманистической традиции, отточившей в академических спорах аргументы в пользу национальной культурной традиции. Их приходилось создавать наскоро уже в другой ситуации и при почти полном отсутствии собранного комплекса исторических свидетельств. Желание обрести такой комплекс стимулировало розыски, изучение и публикацию различных следов прошлого[308]. В последнюю треть XVIII в. такого рода активность вышла из монополии Академии наук и увлекла людей разного состояния. Крупные и мелкие чиновники различных ведомств, духовные лица, частные исследователи собирали летописи, записывали пословицы, издавали сборники песен и сказок. Тем самым Россия оказалась вовлечена в общеевропейский процесс «открытия фольклора», что, в свою очередь, знаменовало начало эры романтического национализма[309]. Один из его идеологов, веймарский философ И.Г. Гердер, утверждал, что всеобщая история состоит из жизней различных наций, ранний период которых отражен в песенном и устном народном творчестве сельских жителей[310].
Адаптация этих идей в России проявилась в растущей значимости фольклора. Так, если в 1780 г. В. Левшин публиковал сказки для их сохранения и в подражание французам и немцам, в 1792 г. М. Попов издавал «Русскую эрату» как источник знаний о древних русских и о периоде их дохристианской жизни, то в 1805 г. В. Львов утверждал, что народные песни – это ключ к пониманию национального характера, дающий доступ к самой сердцевине «русскости»[311], а в 1809 г. В. Измайлов призывал соотечественников активно участвовать в сотворении фольклора. «Во Франции, – уверял он, – множество стихов из комедий Мольеровых сделались пословицами; и у нас бы множество выразительных и кратких стихов вошли в общее употребление, есть ли бы мы более занимались своею Словесностью»[312]. Таким образом, фольклор перестал восприниматься мертвым неприкосновенным запасом и получил значение живого, развивающегося источника народного духа. В этой связи была сформулирована культурная миссия российских элит – адаптировать к традиционной культуре европейские достижения и тем самым обогащать ее.
В своем исследовании Н. Найт пришел к важному выводу, что после признания интеллектуалами за фольклором статуса живой традиции и части национального наследия утвердилась идея народа как нации-культуры[313]. Прежнее понятие «народ» перестало быть ограничено тотальностью реальных субъектов, а этничность перестала осознаваться как следствие языка и обычаев. Теперь она была вещью в себе – скорее создателем, нежели продуктом. Соответственно, этнические русские представали творцами собственной культуры.
В опоре на фольклорные тексты россияне рассчитывали создавать положительную отечественную традицию («русскость») и защищать ее от негативных интерпретаций. Собственно, именно это делал И.Н. Болтин, когда, опровергая суждения французского историка Н.Г. Леклерка[314], ссылался на пословицы как на достоверное свидетельство и утверждал, что смелость русских воинов объясняется не низкой ценностью жизни и рабством, а «вкорененной в них мысли, что чему быть, тому не миновать»[315].
Тактика защиты созидаемой традиции включала отстаивание монопольного права россиян судить о «русскости»: «Не зная о правоте, о твердости душ наших предков; не хотя или не умея видеть основательности, здравомыслия и прочих похвальных их дел: могли ли иноплеменники судить о Русской старине»[316]. Разоблачая намерение автора «Статистического описания о России» показывать специфику «русскости» глазами иностранцев, издатели «Русского вестника» уверяли: «О всем Русском должно доискиваться в России»[317].
Сама «русскость» стала осмысляться в качестве внутренней заботы, которую и познать надо изнутри, и использовать следует для себя. «Почему же Русским не пристойно описывать нравственность Русских?» – вопрошал автор статьи о пословицах.
Тут дело идет не о похвальбе, а о том, как силою отечественной нравственности двигать души и разумы. Кто же лучше Русских это выведает? Душа душу знает. Свои ближе к своим, и потому лучше высмотрят, что для них полезно (курсив в тексте. – Е. В.)[318].
И если это так, то к мнению иностранцев следовало относиться как к вызову, а не как к приговору: «Повествования иностранных вызывают только нас, чтобы мы лучше и основательнее занимались тем, что составляет запись сердец, душ и помышлений Русских»[319].
Уже сам факт выделения «русской традиции» вел к тому, что отныне отечественные нравы и обычаи представали в виде некоего систематизированного рассказа или структуры, противопоставленной, с одной стороны, абстрактной общеевропейской культуре, а с другой – столь же воображаемым «нравам азиатским».
Изучая простонародную культуру, российские элиты стали иначе оценивать свою непохожесть с ней. И если ранее они считали отход от традиционной культуры собственным достижением, то теперь непохожесть интерпретировалась как искажение, отступление от естественного развития и даже как национальное предательство. Исходя из этого, например, задача журнала «Русский вестник» его издателю Ф. Глинке виделась в том, чтобы «заставить любить по Руски Отечество тех, кои его презирают, не знают своего языка и по необходимости Руские». Такие соотечественники рисовались издателем в образе оборотней, «отпавших от своих и впавших в чужих»[320].
Портрет П.П. Свиньина
В контексте этих настроений рождался и реализовывался замысел переиздания иллюстрированной энциклопедии о народах России И. Георги. За последние десять лет XVIII в. его опубликовали дважды. Первый раз переиздание появилось на русском языке в двух частях в 1795–1796 гг. Уже тогда издатели предупреждали читателя, что текст подвергся исправлениям. Правда, в тот раз они коснулись «предуведомления» и посвящения: имя императрицы Екатерины II во всем тексте было заменено на имя ее преемника Павла I. Это никого не удивило. Вольное обращение с оригиналом было нормой для того времени[321]. Издатели переводной литературы не только вторгались в авторский текст, но и меняли иллюстрации. Так, в опубликованном переводе австрийской энциклопедии «Зрелище природы и художеств» (1784–1790) наряду с гравюрами из оригинала использовались иллюстрации, сделанные для него российскими мастерами[322].
А в 1799 г. российский читатель смог впервые познакомиться с не издававшейся на русском языке четвертой частью трактата Георги, той самой, где содержалось описание «россиан». Ее перевод осуществил издатель журнала «Беседующий гражданин» (1789) М.И. Антоновский, а Д. Шлеппер сделал для нее несколько жанровых гравюр. Совокупно в издании размещено 100 костюмных и жанровых гравюр и 8 виньеток. Две из них, изображающие благоговение лопарей перед священным холмом и похороны у чувашей, были изготовлены еще Х. Ротом[323], авторство остальных установить не удалось.
По сравнению с журналом «Открываемая Россия» гравюры в переиздании 1799 г. светлее по раскраске, в них четко видны игловые штрихи. Колористическая насыщенность придавала ротовским образам большую живописность, а цветная печать с нескольких досок усилила в глазах зрителя документальность. Но самое главное – это то, что гравюры Рота вступили в издании 1799 г. в явный конфликт с текстом, причем это было не просто несоответствие, а дискурсивный конфликт, порожденный различными версиями описания России.
Сначала я заподозрила, что стилистический и жанровый контраст создан техническими трудностями перевода. Однако впоследствии выяснилось, что установить авторство данного тома вообще довольно трудно. Как гласит подзаголовок, его текст «во многом исправлен и вновь сочинен»[324]. Описывая собственную жизнь как цепь страданий и несправедливых обид, переводчик данного издания – выходец из Малороссии М.И. Антоновский – писал в воспоминаниях: «Между прочими трудами своими, – сообщал он о себе, – перевел он переписку Екатерины Великой с Вольтером, с Французскаго; Путешествие игумна Биноса в Обетованную Землю, с Немецкаго; Нурзагада, человека неумирающаго, с Польскаго; Описание народов, обитающих в России, три части с Немецкаго исправил и почти вновь сочинил, а четвертую всю от себя сочинил» (курсив мой. – Е.В.»)[325].
Судя по фактам его биографии, случай с «вольным» переводом трактата И. Георги не был отдельным казусом в жизни Антоновского. В 1795 г. он был арестован и допрошен в Тайной канцелярии за публикацию текста о России, который вставил в перевод труда Э. Тоце и Ф. Остервальда «Новейшее повествовательное землеописание всех четырех частей света…»[326]. Антоновский был человеком, близким к «новиковскому кругу». По всей видимости, данная тактика была частью масонско-просветительского проекта группы московских интеллектуалов, вознамерившихся использовать переводы для трансляции в образованное общество идей совершенной нации, «чистой нравственности» и «доброго гражданина». Приступая в 1789 г. к изданию журнала «Беседующий гражданин», Антоновский откровенно писал: «Старались мы в оных везде, посредством ли собственных, или заимствованных переводом изобретений, развивать чувствования любви к гражданским добродетелям, и сим образом как бы беседовали с Читателем Гражданином»[327].
Несмотря на репрессии властей, «переодевание» оригинальных сочинений в «европейские одежды» и позже казалось современникам простым способом русификации отечественных элит. Например, Ф.В. Ростопчин советовал издателю «Русского вестника» «называть подлинные сочинения наши переводными… украсить каждую книжку французским или английским эпиграфом и картинкой, представляющей невинную в новом вкусе насмешку (то есть карикатурой. – Е. В.)»[328]. Так что в утверждениях доктора Кларка о европейском переодевании русских была доля правды.
Впрочем, мемуарное заявление Антоновского о полном авторстве четвертого тома было явной похвальбой. Это не подтверждается анализом текста[329]. Раздел «Россиане» начинается с этнографических описаний, сделанных Георги, но потом читатель буквально спотыкается о большой по объему, полемически-назидательный по стилю фрагмент, резко отличающийся от основного повествования, в том числе и прямыми обращениями типа: «Вы, непорочные девицы, не повинны в том…»[330] Сочиненный Антоновским пассаж включен в рубрику нравов и обычаев. Обычно в этом разделе этнографы описывали еду, одежду, орудия труда, потом стали включать еще и верования, праздники, культурные ценности. Это была одна из линий культурного разделения народов. Как правило, в контексте именно таких описаний они обретали оценочные характеристики – «мирный – воинственный», «честный – лукавый», «добрый – злой» и т. д.[331]
К концу столетия под влиянием идей Ж.Ж. Руссо о «естественном», то есть не испорченном цивилизацией человеке – в отечественных описаниях страны и ее жителей появилась еще одна дихотомия: «натуральный – искусственный». В опоре на нее и в контраст рассуждениям Георги Антоновский декларировал эстетику «природного русского». С упреком к соотечественницам он писал: «При нарядах Купчих и Мещанок, так и их дочерей, никогда уже не бывают забыты белила и румяны. Самые свежие и молодые, к сожалению, к порче их природной чрезвычайной, а большею частию, а особливо в Калуге, красоты, очень много употребляют сих, не нужных им прикрас»[332]. Он уверял «единоземцев», что «природная чрезвычайная русская красота» искажается от употребления косметики, ношения иноземного платья, от диет. Анормальность изменения тела объяснялась культурно-психологическими расстройствами или недооформленностью обладающей им личности.
Антоновский опубликовал эти рассуждения в конце XVIII в., а буквально через несколько лет российская публицистика наполнилась призывами к соотечественникам вернуться к естественной жизни. Они появлялись в разной связи и в разных контекстах. Например, издатель журнала «Патриот» В. Измайлов уверял, что, к сожалению, крепкое тело, а следовательно, и здоровый дух остались в прошлом нашего дворянства. В допетровской Руси игры, кулачные бои, грубая пища способствовали тому, что, «набравшись духу Русского и гордых дворянских добродетелей, они (русские воины. – Е. В.) являлись в эпоху зрелаго возраста твердыми мужами, готовыми ко всем трудам и подвигам»[333].
И речь шла не только о людях войны. Формирующие национальный дискурс публицисты воображали, что все русские люди в допетровские времена были красивыми (то есть правильными). «В старину… едва ли не каждая молодая женщина, – свидетельствовал тот же Измайлов, – была красавицей: ибо юность и красота, требующие полного развития для совершенства их цвета, зрели на свободе и распускались во время со всею силою природы. Так и мужчины были гораздо статнее и красивее»[334]. Такое тело было частью русской культуры, результатом ее естественного развития. Обнаруженный идеал позволял приступить к созидательной работе над соотечественниками, чьи тела деформированы европейским влиянием: «Видимое различие между Русскими одного времени и Русскими другого есть, без сомнения, действие воспитания»[335].
И это находит широкий отклик в среде отечественных элит. О пагубности французского воспитания писали люди разных мировоззренческих принципов: Н.М. Карамзин, А.С. Шишков, Ф.В. Ростопчин, П.А. Ширинский-Шихматов[336]. В представлении противников галломании культурные заимствования ушедшего столетия обогатили Россию плодами европейской учености, но приучили дворян к томности, мечтательности и удобствам жизни. Нега если не уничтожила, то во всяком случае ослабила тела, а значит, и дух «природных русских»: «Цвет красоты рано увядает; нежная томность заступает в лице место блестящей живости»[337]. Отклонившиеся от «естественности» тела дворян, став европейскими («томными и слабыми»), перестали быть русскими («бодрыми и сильными»). По мнению патриотов, они свидетельствовали о скрытой пагубной тенденции: уже не только тела, но и сама отечественная «нравственность» (то есть «народный дух») утрачивает природную самобытность, становясь все более космополитичной («слабой»). «Храбрость есть, конечно, и ныне добродетель Русских, – заверял Измайлов, – но усилия, предпринимаемые любовию к славе и отечеству, дорого стоят слабым людям нашего времени»[338]. В его версии сильное тело как репрезентант культуры представлялось частью не только славного прошлого, но и желаемого будущего России.
В контексте этих интеллектуальных настроений Антоновский не описывал «россиан» как исследовательский объект, а напрямую обращался к читателю – совокупному «русскому человеку» – с призывом хранить и беречь народный дух. Самой формой диалога он превращал его в субъекта, стоящего перед возможностью выбора групповой идентичности и вытекающими отсюда последствиями. При таком подходе остальные народы России оказывались в статусе объектов для познающего мир и себя в нем русского читателя.
И все бы хорошо, только гравюры Рота противоречили такого рода рассуждениям о русской нации. Во-первых, распознавание народа в них осуществлено через костюм, что на рубеже веков воспринималось как анахронизм. Во-вторых, в ротовском каталоге образов, идентифицированных как «русские», нет вообще. Если бы данный раздел Антоновского не был проиллюстрирован, это бы соответствовало западным описаниям политичных народов. Графическое изображение костюма заведомо снижало цивилизационный статус объекта описания. Реагируя на такие способы архаизации, Э. Саид писал: «…Восточный человек изображен как тот, кого судят (как в суде), кого изучают и описывают (как в учебном плане), кого дисциплинируют (как в школе или тюрьме), кого необходимо проиллюстрировать (как в зоологическом справочнике)»[339]. Однако в издании 1799 г. текст о «русских» сопровожден образами валдайцев, тульчан и калужцев. А ведь в рассуждениях Антоновского «русский» не является локальным объектом, а «русскость» – продуктом воздействия на человека окружающей среды. Таким образом, в данной книге под одной обложкой оказались две конфликтующие версии народа – графическая Рота и текстуальная Антоновского.
Вероятно, «наружные швы» предложенной интерпретации были очевидны читателям книги. Во всяком случае, тема необходимости иного показа империи в начале XIX в. стала постоянной в публицистике. Кроме недовольства имеющимися образами создание такого альбома стимулировалось признанием за образом важного познавательного и аксиологического значения. Гравюра виделась ответственной за формирование массовых представлений и этнических стереотипов. Именно поэтому патриотически настроенные интеллектуалы ставили в вину иностранным художникам распространение на Западе предубеждений против русских[340].
В предисловии к тексту и изданию собственных рисунков П.П. Свиньин сообщал, что лично ему мысль создать визуальное описание Отечества подсказал И.А. Каподистрия. «Любуясь однажды моими Казаками, Черкесами и особенно лихими тройками и другими картинами, в коих старался я схватывать черты Русских, граф сказал: “Вам бы следовало сыскать случай обозреть Россию с карандашом в руке”. Сии слова электричеством проникли в мою душу», – признавался впоследствии художественный критик[341]. Разговор этот, по всей видимости, состоялся около 1806 г. А когда два его участника встретились вновь в 1809 г., опытный дипломат написал от лица Свиньина записку к великой княгине Екатерине Павловне – покровительнице российских интеллектуалов-патриотов. Павел Петрович сохранил ее и издал полностью на французском и русском языках в предисловии к своей последней книге.
Записка называлась «Мысль о живописном путешествии по России». В ней на трех листах дано обоснование государственной значимости позитивного визуального описания империи. Согласно законам дипломатического нарратива, текст начинается с одического провозглашения преимуществ Российской империи, порожденных ее геополитическими особенностями: «Государство безмерное, и отчасти неизвестное, объемлющее все климаты и богатства всех широт Земного Шара, народы, происхождения различного, коих нравы, обыкновения, обычаи погребены в бездне времен и пространств, места, достопамятные для Истории сих народов и для славы Монарха, ими владычествующего, прелестные виды, представляющие новые образцы для живописи и гравирования»[342].
Далее Каподистрия подарил великой княгине мысль о том, что «неведение» и «невидение» России вредят не только ее политическому имиджу, но и экономическому развитию[343]. Серия привлекательных гравюр с костюмами, видами и бытовыми зарисовками могла бы сделать Россию объектом гордости для ее жителей и объектом заинтересованного внимания для иностранных переселенцев (что было весьма актуальной проблемой в связи с необходимостью колонизации присоединенных территорий).
По мысли Каподистрии, данный проект должен был быть реализован в виде издания гравюр с текстом, содержащим исторические, статистические и бытовые подробности[344]. Граф признавал, что такого рода издания уже есть. Он даже упомянул о еще не состоявшемся, но готовящемся издании рисунков Е. Корнеева: «В скором времени, – писал он, предваряя, быть может, возражения, – должно появиться в Европе подобное сочинение, в котором труд и достоинство выполнения принадлежит Русским, но честь собрания отнесется к издателю, Баварцу, Барону Рехсбергу»[345]. Между тем граф считал, что дело показа империи должно быть в руках правительства. И контроль над визуальным текстом не должен быть слабее, чем цензура над литературными сочинениями. Однако если в деле литературы власти могут ограничиться селекцией уже созданного, то в деле пропаганды визуального образа надо пойти по пути заказа.
Заказать изготовление соответствующего художественного продукта следовало человеку, не случайному в профессии и, главное, россиянину. Предыдущая практика заказа изображения империи иностранцам виделась ему порочной по нескольким причинам. Во-первых, заграничный художник a priori предубежден. Во-вторых, у него нет опыта длительных наблюдений, позволяющих показать ощущаемое, но не очевидное. В результате иностранец в лучшем случае не создаст ничего нового, а в худшем – унизит Россию.
Опытный политик убеждал влиятельного адресата в том, что графические образы не фактографичны, что они способны передавать чувства художника зрителю. И эта способность предоставляет широкий простор для манипуляций[346]. Любящий Россию рисовальщик может выразить свои чувства через графические образы, а они, в свою очередь, будут вызывать соответствующие переживания у зрителя. Так в начале XIX в. российский дипломат сформулировал положение, впоследствии ставшее общим местом в искусствознании XX в. В 1900-е гг. гравер Н.З. Панов уверял, что «душа художника ни в одном из искусств не запечатлевается так детально, так ясно со всеми ее переживаниями и тончайшими ощущениями игры творческой мысли, как в гравюре»[347]. Итак, целью отечественного издания гравюр должно быть не знание, а мобилизационные чувства.
И уже от имени Свиньина граф закончил письмо уверением в способности выполнить данное ответственное поручение и предложением на весьма скромных условиях собственных интеллектуальных услуг[348]. По прошествии тридцати лет сам Свиньин так отозвался о замысле Каподистрии: «Несмотря на краткость изложения, нельзя не узнать в ней сильного пера искуснейшего дипломата, нельзя не подивиться чистым, светлым понятиям иностранца о России»[349]. В конце 1830-х гг. Каподистрия стал для российских патриотов иностранцем, но вряд ли он считался таковым во времена, когда занимал пост министра иностранных дел. В любом случае, в начале века на полуофициальном уровне речь шла о потребности получить «внутренний», исполненный любви к России взгляд на империю.
Более радикально настроенные интеллектуалы желали обрести образ не столько империи, сколько русской нации, полагая, что, как и все реально существующее, она должна быть видимой и, значит, доступной для показа. Вместе с тем проявления их интереса к формам и принципам этнической группности, к фольклору тогда еще не означали существования сформировавшегося национального дискурса или целенаправленного осуществления «национального проекта». Было лишь желание найти секулярный способ объединения «единоземцев». А на то, в какие художественные образы воплотилось это желание, оказывали влияние различные факторы, в том числе спор Карамзина и Шишкова о выразительных возможностях русского языка[350].
В предвоенное десятилетие полемика между ними и их приверженцами провела две культурные границы: «русский/славянский» и «русский/российский». В общих чертах А.С. Шишкову «русскость» представлялась местным вариантом варварства. Полемист противопоставлял ей «славянскость» как знак элитарной культуры, древней традиции, как символ благородства и одновременно концепт, связанный с духовностью и мудростью[351]. Из синтеза бытовой «русскости» и высокого «славянства», по его предположению, могла родиться «российскость»[352]. Для его оппонента Н.М. Карамзина «славянщизна» – архаизм, омертвевший канон церковной культуры, сдерживающий естественное развитие «русскости», которую он считал живой практикой отечественной жизни. И хотя спор шел о вербальном языке, он затронул и визуальный тоже. Вовлеченным в интеллектуальную полемику художникам предстояло решить сложный вопрос: то ли современный русский человек должен иметь видимую связь со славянскими предками и иметь признаки славянской культуры, то ли «русский» является локальным вариантом современной европейской культуры и должен выглядеть западным человеком.
В начале века идейным центром для обсуждения этих вопросов стало Вольное общество любителей словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ)[353]. Оно было создано группой молодых интеллектуалов в 1801 г., получило высочайшее утверждение в 1803 г., а прекратило свою деятельность в 1826 г. Многие писатели Александровской эпохи являлись членами Общества или были тем или иным образом связаны с ним. Кроме того, в его работе принимали участие представители провинциальных культурных центров, а также целый ряд российских ученых и художников.
Воспитанников Академии художеств в него привел кружок «остенистов», созданный А.Х. Востоковым – будущим основателем отечественного славяноведения[354]. Примечательно, что многие участники данного кружка впоследствии обрели славу создателей русской живописи, пейзажа, карикатуры и скульптуры, то есть прославились национальными художественными проектами. Среди них – Е.М. Корнеев, И.И. Теребенев, И.А. Иванов, С.И. Гальберг, Ф.Ф. Репнин[355].
Судя по всему, национальные темы в обоих объединениях рассматривались в связи с обсуждением произведений российских и западных мыслителей и художников. На предположение, что именно в Вольном обществе молодые рисовальщики получили заказ на визуальную репрезентацию империи и «русскости», меня навело изучение поэтических произведений и художественных «программ», написанных его лидерами. Тема «Кто есть русские в России?» звучит в них совершенно отчетливо. Так, в «Речи о просвещении человеческого рода» (1802) Востоков уверял, что идеальный сын Отечества – «просвещенный россиянин» – должен родиться в результате селекции лучших качеств, экстрагированных из разных народов. Видимо, по мысли руководителя Общества, подобно французам, русским предстояло стать гражданской нацией. К этой мысли подводили и официально изданные словари политической лексики.
В 1803–1806 гг. по повелению Александра I было выпущено издание, истолковывающее значения вошедших в русский язык иностранных терминов[356]. «Отечество, – объяснял его автор Н. Яновский, – есть тело, составленное из многочисленных семейств, которые все вместе образуют одно и то же политическое семейство»[357]. Здесь Россия предстает государственным объединением и воплощается метафорой «семья народов» во главе с отцом. В то же время если речь заходила о любви Отечества к подданным, то возникал антропоморфный образ матери: «Отечество любит, подобно чадолюбивой матери, всех своих детей»[358].
Кто же в такой интерпретации является истинным россиянином? Это патриот, «сын отечества, отчестволюбец, любитель отечества, рачитель, ревнитель о пользе отечества»[359]. Кроме просто «патриота» словарь выделял «настоящего патриота», который обнаруживается в несчастье, когда доказывает свою любовь жертвой[360]. Соответственно, быть патриотом может не только человек на службе Отечества, но подспудно, в потенции – любой житель страны. «Патриотизм есть естественен всем людям, – уверял Яновский, – нужно только знание произвести оной в них и питать»[361].
Примечательно, что в написанных участниками Общества программах для художников речь тоже шла о «сынах отечества», «одноземцах» или «единоземцах», «славянах», «подданных русского царя», «соотчичах», «россиянах», «россах», «славянороссах», «народе», но не о «русских» как этнической общности[362]. Русский герой для большинства российских литераторов был героем всенародным. И поскольку участники Общества довольно плохо представляли, как показать его, то в поэтических опытах многие из них шли по пути конверсии – пытались наполнить этим смутным ощущением классицистические формы, меняя имена античных героев на отечественные, вводя в текст переводных пьес элементы русского фольклора и адаптируя исторический и культурный контекст античной поэзии к российским реалиям. Так же предлагалось поступать и художникам – создавать национальных героев как русских сцевол, геркулесов, курциев, гераклов[363].
«Русский вкус»
Иначе аргументация разворачивалась в тех случаях, когда в основу рассуждений о «русскости» клались идеи немецкого романтизма. Тогда речь шла о «нации» как этнокультурной общности. В отличие от нейтрального понятия «народ», используемого в социальном или локальном смысле, народ-нация служил аксиологическим знаком, требующим личного отношения. В связи с этим надо было и показать характерные для него костюм и тело, и наделить их такими значениями, чтобы ими можно было гордиться и идентифицировать себя с ними.
Но даже выбор «типичного» для «русского народа» костюма был непростым делом. С одной стороны, поскольку всю служилую Россию затронули указы Петра I о ношении иноземного платья и форменной одежды[364], с течением времени именно сельский костюм стал восприниматься как «русский» и одновременно «народный». С другой стороны, при явном наличии общих черт в крестьянской среде не сложилось единого этнического костюма. Специалисты по этнографии народов России утверждают: «Обширность территории расселения, замкнутость отдельных мест, различное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существования были причиной возникновения многообразнейших вариантов одежды»[365]. Особенно различался женский костюм. Этнографы выделяют четыре основных комплекта женской одежды русских крестьянок: рубаха с поневой и головным убором-сорокой; рубаха с сарафаном и кокошником; рубаха с юбкой-андароком и рубаха с платьем-кубельком. Этим обстоятельством объясняется то, что женские персонажи в этнографических сериях XVIII в. так сильно отличались друг от друга. Почти по всей сельской России дети независимо от пола до 14 лет носили простую длинную рубаху. Такими они предстают и на рисунках.
Одежда крестьян-мужчин была более однообразной, нежели у женщин: рубаха (общеславянский элемент), порты и пояс. Порты шили, как правило, из полосатой ткани или набойки, из белой домотканины. Все эти вещи в XVIII и первой четверти XIX в. были ручного изготовления и домашней окраски. Поэтому ткань была, как правило, грубого плетения, а ее цвет был блеклым. В летнее время крестьяне почти повсеместно носили лапти поверх онучей – обвязанных вокруг ноги полос грубой ткани, которая крепилась специальными веревками – оборами. И цвет обор, и модель лаптей, и характер их плетения отличали руку мастеров из различных губерний империи.
Что касается национального тела, то здесь «любящие все русское» публицисты исхода XVIII в. столкнулись с еще большими трудностями выбора и отсутствием соглашений. Выделяя человеческие расы, Линней и Буало заверяли, что европеец растет в длину, а азиат – в ширину. Да и возрожденная античность демонстрировала зрителям высокие тела. Имея это в виду, Екатерина II заявляла: «Было время, в котором приказано было все заимствовать у датчан, потом у голландцов, потом у шведов, потом у немцов, но узкие кафтаны таковых тел малых не были впору колоссу нашему (русскому народу. – Е. В.) и долженствовали исчезнуть, что и сбылось»[366]. На рубеже веков отечественные элиты предпочитали видеть в дородности и рослости главный внешний признак «русской нации».
Эти представления отразились и в изобразительных искусствах. В 1797 г. Г.И. Угрюмов получил звание академика за картину, «представляющую богатыря Русского в глазах Великого Князя Владимира и других зрителей, вырывающего у разъяренного быка часть кожи из боку». «В богатыре, – одобрительно отзывались знатоки, – виден человек необыкновенный, сильный, поставление его и сочинение всей картины имеют много достоинств. Фигура богатыря нарисована прекрасно: смотря на нее видишь, что художник учился с Геркулеса Фарнезского. Для модели он употребил Татарина Юзея, который имел удивительную маскулатуру, и который, по совету Угрюмова, был принят в Академию натурщиком»[367]. По всей видимости, рецензента не смущало греко-татарское происхождение русского богатыря на картине. Собственно, оно соответствовало тогдашним представлениям об этногенезе русского народа.
Что касается натурных наблюдений, то очевидное разнообразие физического строения жителей России не давало однозначных свидетельств в пользу сильной и крепкой нации. Чтобы типизировать репрезентативный образ, П.П. Свиньин ссылался на идеальное прошлое. Он заверял читателей, что «в России в старину люди были несравненно крупнее. Это от того, конечно, что они жили согласнее с Русскою Природою. Есть, однако, и доныне волости и деревни в при-Волгских Губерниях, в коих мужчины и женщины выше обыкновенного росту. Замечательно, что крестьяне сии ведут отлично трезвую жизнь и держатся старинных обычаев»[368].
Субтильность и низкорослость остальных жителей империи он объявил последствием их патологического и антипатриотического поведения. «У нас люди помелели ныне… – констатировал современное состояние дворянства П.П. Свиньин, – от развращения нравов, от удаления с час на час от всего отечественного, от излишнего обезьянства нашего! Перенимая нравы, обычаи и одежду южных жителей, не только расстроили мы здоровье наше, но моральными усилиями к подражанию ослабили умственные силы»[369]. Так же как для Шишкова, русские для Свиньина – это неграмотные, простоватые, бесхитростные, глубоко православные крестьяне, а не дворяне[370].
Но помимо выбора натуры для типизации[371] трудность художественной задачи показать русскую нацию заключалась еще и в том, что от рисовальщика требовалась не документальность, а «правильная» проекция реальности: «Простой рисовальщик, хотя и изобразит видимый им предмет; но искусный живописец присовокупит к тому все то, что может усугубить подобие и восхитить чувства и разум»[372]. В этом смысле, как и в екатерининские времена, от костюмного художника ждали утопии, только не имперской с идеальным россиянином, а национальной. Соответственно, в отличие от Лепренса, творившего образ из идеальных черт, его младшим собратьям по цеху предстояло найти тела, соответствующие представлениям российских зрителей о русской красоте. По всей видимости, эта задача актуализировала проблему заключения эстетического договора и вылилась в споры о возможности влияния зрителя на канон изображения.
Е.М. Корнеев «Японец». 1809
Е.М. Корнеев «Китайские купцы». 1809
Изданный в 1780–1790-е гг. «свод» академических правил зафиксировал существование «большого вкуса» (универсального и вневременного канона искусства) и «особых вкусов» (канонов, принятых в данном регионе у данных народов). Признание единого для всех времен и народов «вкуса» позволяло утверждать наличие ядра всемирного искусства, знание которого делало зрителя «знатоком изящного». В свое время это ядро начал описывать еще Джорджо Вазари. В его трактовке художники были гениями, которые поднялись над временем, независимые от социальных обстоятельств, локальных культур и экономических условий. Каждый последующий гений развивал достижения предшественников, обеспечивая совершенствование «изящного».
В отличие от «изящного», «приятность» определяла изменчивое во времени художественное пространство, ведь зрительское удовольствие уже тогда признавалось результатом многих факторов[373]. Оно требовало и априорной любви тех предметов, образов и сюжетов, которые изображал живописец, и согласия с их интерпретацией. Соответственно, «особый вкус», по Иванову, это синоним «общего мнения», род договора между зрителями и художниками[374]. Из дальнейших рассуждений на эту тему видно, что в понятии «особый вкус» в неразделенном виде присутствовало и то, что в последующем будет названо «национальная школа живописи», и то, что подразумевает «эстетические предпочтения» зрителей или визуальную культуру народа.
Френологический атлас
Визуальные указатели возраста и социальной среды
И если большой вкус не учитывал художественные предпочтения потребителей, то местный канон, напротив, ориентировался на их эстетику. Описывая «большой вкус», учебники утверждали идею социального служения художника благу общества. Мастер представлял приятным все полезное и делал ужасным все вредное. Считалось, что социальное зло (к которому учебники относили «грубое невежество, зверский и упорный разум, или дурное сердце») проявляет себя внешне через «гнусность, производящую отвращение»[375]. Добродетель же надо было показать так, чтобы зритель не мог в нее не влюбиться. Поэтому «большой вкус» виделся фильтром, позволяющим расширять территорию добра и не впускать в нее разрушительные начала[376].
А вот «особый вкус» отражал локальные ценности и условия. В нем проявлялись «характерные черты» олицетворявших его народов. Следуярекомендациям Д.А. Голицына, учебник Чекалевского делил мировое искусство на три «школы»: итальянская школа создала идеальные образы, фламандская или голландская – реалистичные, а французская – экспрессивные. Иванов вслед за Р. де Пилем выделял римский, венецианский, ломбардский, немецкий, фламандский и французский «вкусы»[377]. В любом случае, деление основывалось на проявлении в художественном творчестве культурно-психологических различий народов.
В сводном виде они представлены в «Полной грамматике французского языка» Жана-Робера де Пеплие 1689 г.[378], которая на протяжении XVIII в. переводилась на многие языки и присутствует во всех переизданиях русского «Письмовника» Николая Курганова[379]. Очевидно, на этот свод «общего мнения» и опирались тогдашние теоретики искусства при описании художественных «школ». Так, поскольку «всем известно», что французы эмоциональны и легкомысленны, их художественный стиль представлен как лишенный тщательности и продуманности. Итальянцы красивы и наблюдательны, поэтому их письмо отличается эстетичностью и совершенством форм. «Все знают», что голландцы и немцы грубы и педантичны, потому-то они изображают окружающий мир натуралистично. Таким образом, этнические стереотипы стали основанием для «национализации» художественных школ, вернее, для обозначения техники художественного письма как «национальной особенности».
Как видно из учебников, на рубеже веков «русского вкуса» или «русской школы» еще не было. Отечественным любителям изящного очень бы хотелось ее иметь и представлять, однако они не обладали соответствующими основаниями: признанными за «русским народом» характерными чертами и их проявлениями в художественных произведениях местных авторов. Все, что смогли сделать в конце столетия теоретики искусства, – это письменно зафиксировать периферийную роль России в общеевропейском художественном процессе посредством составления списков «отличных» российских художников. Но даже эта процедура потребовала размышлений о том, кого и на каких основаниях следует включать в мемориальную зону. Поскольку основания не были определены, то ответы получились разные. Например, И. Виен (1789) назвал Г.И. Козлова, А.П. Лосенко, П.И. Соколова и И.А. Акимова[380], а Чекалевский – А.П. Лосенко, Г.И. Скородумова, М.М. Иванова, С.Ф. Щедрина, П.И. Соколова, И.А. Акимова[381]. Даже при ограниченности тогдашнего выбора видно, что российское представительство в этих учебниках было не исчерпывающим, а выборочным. Например, в отличие от Виена в списке Чекалевского нет произведений Козлова (хотя тот и был адъюнкт-ректором Академии) и не упомянуто имя Д.Г. Левицкого, вошедшего тогда в зенит своей славы.
Б. де ла Траверс «Соколиная охота». 1780-е гг.
Несмотря на старания мастеров, сохранить за искусством статус эзотеричного знания становилось все труднее. После издания учебных пособий и переводных сочинений по искусству ими могли воспользоваться уже не только учителя и воспитанники Академии, но и многочисленные преподаватели, а также ученики рисунка в военных школах, гимназиях, народных училищах, семинариях и Московском университете. Это увеличило круг людей, считающих себя «знатоками изящного». С одной стороны, данная коммуникативная ситуация расширила пространство действия академического канона, а с другой – популяризация сделала этот канон уязвимым, поскольку открыла для интерпретаций.
Е.М. Корнеев «Братская татарская девка». 1813
Е.М. Корнеев «Калмыцкая девка». 1809
«Вкус» стал обсуждаться в российском обществе, в том числе посредством публикации специальных «речей». А заказ на художественные произведения отныне воплощался не только в форме прямого торга, но иопосредованно, в виде литературных «программ» для художников. Развитию данной практики способствовали журнальные обзоры выставок и публикация рецензий на произведения искусства, обсуждение эстетических проблем в литературных объединениях и салонах.
Изданные в начале столетия «речи» позволяют реконструировать взгляд на графические образы более массового, чем академическая корпорация, современника, выделить критерии, которыми он руководствовался в оценке художественных произведений. Судя по приводимым в них прямым и скрытым цитатам, россияне столкнулись с проблемой адаптации и примирения на российской почве западноевропейских версий «идеального».
В основе рассуждений большинства начинающих теоретиков искусства лежал западный канон искусства в версии Шарля Батто (abb Charles Batteux, 1713–1780)[382]. Французский теоретик настаивал на том, что объектом изящных искусств должно быть только прекрасное. И поскольку античность была золотым веком искусства (до нее художественный вкус еще не образовался, а после – испортился), то, срисовывая «антики» (общеевропейскую классику), художник мог встать на кратчайший и верный путь создания прекрасного. И тут мнение Батто было полностью созвучно мнению российских академиков. А вот в вопросе об отношении к потребителю Батто был явно за учет его желаний. Он видел в зрителе фактор развития искусства и потому призывал воспитывать в нем изящный вкус. И поскольку просветительские призывы оправдывали участие непосвященной публики в делах искусства, они раздражали академиков.
Почти все авторы призывали художников улучшать жизнь. При всем том они хотели, чтобы созданный образ не отрывался от реальности: «Вымышляемое для удовольствия должно походить на истину»[383]. Правда, понятие «истина» для того времени было двойственным: оно подразумевало и похожесть, и суть вещей (их символические значения) одновременно. Вполне вероятно, что имелась в виду и та и другая семантика (к началу XIX в. оптика российского зрителя фокусировалась уже не только традицией византийской иконы (подобие), но и барочной традицией (игра смыслами)), хотя натурализм явно не подразумевался. Внешне красота могла проявляться в зрительском восприятии объекта как приятного, грациозного, совершенного, а также гармоничного и разнообразного[384]. Соответственно, образ надо было творить из имеющегося в природе материала: найти для этого в реальности «приятные и грациозные» типажи и сделать их «гармоничными» (если надо, то поправить «натуру», обогатив ее надындивидуальными свойствами).
Расхождения с прописанными в учебниках правилами ощутимы в рассуждениях поклонников Ж. Ж. Руссо. Увлеченные идеей естественной красоты, интеллектуалы призывали художников изображать жизнь и людей простыми и не испорченными цивилизацией, выражать через тело (то есть форму) их внутреннее достоинство и присущее благородство души (то есть свойства)[385]. Благодаря этому достойными кисти художника признавались не только объекты «чрезвычайные», но и обыденные.
Е.М. Корнеев «Башкирцы». 1809
А желание совместить канон «идеальной формы» с утверждающейся парадигмой экспериментального знания породило амбивалентное стремление зрителей получить достоверную фиксацию окружающего мира (что потребовало натурных зарисовок) и в то же время обрести дидактически ориентированную проекцию действительности (что проявилось в признании приоритета литературного образа). Соответственно, художникам рекомендовалось обращаться за вдохновением к «истории, баснословию, образам жизни, идеалам и даже самой Природе»[386], но предпочтительнее – к литературным образам. В деле познания визуальный образ расценивался как самодостаточный и даже не до конца описываемый словом, а вот в деле просвещения он представлялся вторичным по отношению к литературному. Не имея западного опыта борьбы за автономию живописного искусства от слова, отечественные любители изящного не видели в подчинении одного языка другому опасности и шли на это без дополнительных оговорок. К тому же оно позволяло им управлять образами.
Попытки интеллектуалов навязать свое видение прошлого соотечественникам и их стремление создавать культурные иерархии воплотились в издании специальных «программ» для художников. В XVIII в. «программы» с описаниями сюжета картины или скульптуры на историческую тему составляли либо заказчики, либо сами академические наставники. Но на рубеже веков инициативу в деле формулирования заказа у академиков перехватили частные, не входящие в академическую корпорацию «любители изящного» – поэты и философы.
Сначала речь в них шла о необходимости создать «храм», или сонм отечественных героев. К такой идее российский читатель был подготовлен чтением западноевропейских трактатов. Один из них, «Храм всеобщего Баснословия, или Баснословная история о богах египетских, греческих, латинских и других народов», переведенный с латинского языка И. Виноградовым, выдержал в XVIII в. несколько переизданий[387]. Более узкий круг интеллектуалов читал французский оригинал трактата «Храм благочестия или избранные черты из житий святых и деяния добродетельных мужей и жен, прославившихся в христианстве»[388].
Е.М. Корнеев «Физиономии разных народов». 1809
Судя по всему, инициатива создания аналогичного западному, но российского легендария исходила от круга участников ВОЛСНХ. Пытаясь скомпенсировать отсутствие отечественного нарратива, а также установить преемственность военных доблестей и славы, члены Общества заказывали создание храма, наполненного памятниками благочестивым и мужественным героям. Примером тому – трактат Павла Львова «Храм российских Ироев от времен Гостомысла до царствования Романовых». Фрагменты из него автор начал печатать еще в 1801 г. Тогда в журнале «Иппокрены» он дал описание памятников Юрию Долгорукому, А.В. Суворову и Д.М. Пожарскому, а в 1802 г. в «Новостях русской литературы» появились описания памятников графу П.А. Румянцеву-Задунайскому, князю Г.А. Потемкину-Таврическому и М.В. Ломоносову. Физически в ландшафте российских столиц все они появятся намного позже, но задолго до их материализации образы отечественных героев поселились в воображении современников.
Львов призывал создать художественную проекцию социально желаемого прошлого, которая бы питала патриотические чувства в соотечественниках[389]. В его версии Отечество представлялось сакральным объектом, требующим поклонения и защиты. Соответственно, «русские люди» виделись союзом богатырей, охраняющих божество. В сонм святых включались те, кто воинским подвигом доказал ему преданность и верность, за что им полагалось бессмертие и «искусственное» тело (коммеморативные произведения искусства).
Е.М. Корнеев «Гребенской казак». 1813
Е.М. Корнеев «Русские крестьяне». 1812
А на следующий год альтернативную программу для художников издал другой участник ВОЛСНХ[390]. В отличие от своего коллеги А.А. Писарев призывал не воплощать подвиг в аллегорических фигурах, а создавать достоверные образы национальных героев. И поскольку они должны были стать своего рода научной реконструкцией, текст представлял собой компендиум из летописей и исторических сочинений, содержащий описания реальных и легендарных персонажей русского прошлого. Указывая на труды немецкого романтика И.И. Винкельмана, А.А. Писарев уверял, что в идеале «надобно, чтобы зритель не по Истории узнавал содержание художественного произведения (то есть догадывался о значении его символов и аллегорий. – Е. В.); но чтобы оное само напоминало (рассказывало. – Е.В.) ему историческое событие»[391].
Так посредством «программ» формулировался заказ на «русскую тему» в искусстве. Свое право на это любители изящного аргументировали заботой о просвещении соотечественников – всех тех, кого Академия исключала из поля художественных отношений. По всей видимости, изучение фольклора и интерес к доимперскому прошлому еще не породили осознания истории как судьбы нации. Изданные в начале XIX в. программы указывают на желание авторов увидеть долю участия России в цивилизационном процессе и пройденный ею путь в прогрессивном историческом времени. Многим их создателям отечественное прошлое виделось статичной панорамой, вмещающей разновременные события и героев. В этом контексте определение «русский» служило полным аналогом категории «российский».
А.Г. Убиган «Русская свадьба». 1820-е гг.
Е.М. Корнеев «Внутренность калмыцкой юрты». 1809
Этнографические портреты
В разных жанрах ответы на смутно выраженные желания и заказы соотечественников дали почти все художники, участвовавшие в ВОЛСНХ, в том числе Е.М. Корнеев. После появления в продаже его альбома «Народы России» (1812) европейская культура обогатилась российским опытом графического описания человеческого разнообразия[392]. Он отличался от известных до этого «русских костюмов» не только качеством рисунков, но и обстоятельствами создания. Его реализация стала итогом сотрудничества Корнеева с баварским семейством Рехбергов. Талантливый график создал серию рисунков, гравер Е. Кошкин подготовил их тираж, а Карл Рехберг написал этнографический по характеру текст и профинансировал публикацию. Альбом вышел в Париже в разгар войны 1812 г. Современные этнографы считают научный уровень текста довольно низким. Но в начале XIX в. издание быстро раскупалось европейскими читателями. Судя по всему, коммерческий успех ему обеспечил не текст, а гравюры. Проживший много лет в Европе П.П. Свиньин сообщал российским читателям, что Е. Корнеев известен в мире «с самой выгодной стороны роскошным творением о России»[393]. Однако вплоть до последнего времени имя его не числилось в анналах отечественной классики. Заслуга его переоткрытия принадлежит искусствоведу Н.Н. Гончаровой, которая атрибутировала многие его рисунки и воссоздала творческую биографию художника[394].
Х.Г. Гейслер «Гейслер, рисующий татарскую девушку». 1793
Е.М. Корнеев «Русская свадьба». 1812
Е.М. Корнеев «Русская пляска». 1812
А.Г. Убиган «Русская пляска». 1820-е гг.
В двух томах альбома собраны изображения обитателей Российской империи от Тавриды до Тихого океана. Это 96 гравюр, выполненных в технике цветной акватинты и отличающихся друг от друга по композиционному решению. Есть среди них однофигурные сцены, где персонажи застыли в станковой позе, позволяя зрителю рассматривать их костюм («Киргизский султан», «Томский татарин», «Монгольский лама», «Братская татарская девка», «Черемиска», «Черкес Закубанец»). Есть театральные сцены-композиции из двух и более фигур. Есть и жанровые гравюры, где показано действие.
К сожалению, сохранившиеся письменные документы не позволяют воссоздать рождение и реализацию данного замысла в деталях. Литература, официальная документация, записи мемуаристов имеют характер не прямых, а скорее косвенных свидетельств. И только в сочетании с визуальными источниками они позволяют провести реконструкцию того, из чего и как художник создавал народные образы.
Корнеев не был любителем в искусстве. Он учился в Академии художеств в ту пору, когда в живописи возобладали ренессансные критерии правильности. Признавший их рисовальщик стремился утвердить значимость человеческой личности; стимулировать интерес современников к «другим» и к внешнему миру; убедить их в том, что мир подчиняется естественным законам (то есть научно выявленной логике); и в то же время подтвердить, что в человеке есть божественная печать, гармония и тайна[395].
Кроме того, на созданной им версии человеческого разнообразиясказалось обучение в классе исторической живописи. Его руководитель Г.И. Угрюмов требовал от учеников достоверности и внимания к культурно-историческому контексту сцены, показа времени как полноправного ее участника. Эта выучка у Корнеева осталась на всю жизнь. Он неизменно был предельно реалистичен в деталях. Каждая вещь в его рисунках тщательно продумана и служит раскрытию образа.
Необычным для карьеры академического художника было то, что, будучи воспитанником исторического класса, свои основные произведения Корнеев создал в технике графики – в костюмном и видописательском жанрах, а также в жанре карикатуры. Такое «опрощение» вряд ли было случайным. Н.Н. Гончарова считает, что этот выбор стал результатом его особого интереса «к внутреннему миру индивидуального человека и многообразию стихии человеческих чувств»[396]. Данный вывод исследовательница сделала на основе искусствоведческого анализа графических образов. Он подтверждается и анализом дискурсивного контекста корнеевского творчества.
Судя по названиям некоторых рисунков (например, «Физиономии разных народов»), а также по вниманию к антропологии лица, Корнеев еще в Академии познакомился с работами европейских физиогномистов. Особенно тщательно их штудировали портретисты и творцы исторических полотен. Каждый воспитанник этих классов знал, «что в то время как списуемый берет на себя вид смеющийся, глаза сжимаются, конечности рта и ноздри возвышаются, щеки поднимаются, а брови отходят одна от другой; но если он приемлет на себя печальный вид, то все оныя части производят противное действие. Поднятые брови придают лицу вид важный и благородный; но избавляющий удивление, когда оне дугою»[397]. Такой свод практических правил передавался изустно от учителя к ученику, фиксировался в учебных пособиях.
Е.М. Корнеев «Миропомазание». 1812
Впрочем, не только служители искусств использовали физиогномические конвенции и старались дополнить их новыми открытиями человеческих тайн. Литература второй половины XVIII в. изобиловала ссылками на них. Описывая черты лица совершенного человека, автор цитировавшегося уже трактата об идеальном Мелинте уверял:
Личное изображение (физиономия. – Е.В.) есть сокровенное письмо натуры, которое без сомнения имеет некоторое согласие со всем человеком. Когда б мы оные письмена разумели, то б много тайностей узнать могли. Но кто может разобрать письмо скрытными литерами написанное, не имея к тому ключа? Скажет ли кто, что оныя литеры ничего не значат?[398]
Западный зритель умел их читать благодаря многовековому опыту созерцания портретов, фресок, настенных росписей, гобеленов, посуды. Однако россиянин не был так искушен в искусствах. В этой связи отечественному художнику предстояло самому овладеть техниками показа внутренних качеств человека и объяснить зрителю, как эти «литеры» читать. В последнем ему помогала публицистика Александровской эпохи, описывающая произведения искусства и разъясняющая их визуальные знаки[399], а также заказывавшая художнику готовые интерпретации.
Е.М. Корнеев «Погребение». 1812
В конце XVIII столетия в различных литературных жанрах отечественные писатели утверждали зависимость лицевой мимики человека от «характера» или «нравов» его группы. Опираясь на это убеждение, поэты приписывали физиономии того или иного народа определенные культурные свойства:
- На то я искренно скажу тебе в ответ,
- Что радости нет быть соседом Кабардинцов,
- Татар, Калмык, Черкес, Чеченцев, Абазинцов,
- У коих головы обриты до гола.
- Их лица дикие покрыла тускла мгла,
- У них крутые лбы, у них глаза кровавы;
- Их лица вывеска, что их суровы нравы[400].
Однако только художник мог перевести литературные опыты в пространство массовой культуры, превратить, например, поэтические образы в разговорные топосы и этнические стереотипы.
Корнееву, безусловно, было легче предложить соотечественникам живописную Россию и дать физиогномический портрет ее народов, чем его иностранным собратьям. Во-первых, он знал о таковом желании. Во-вторых, неспособность многих путешественников объясняться с туземцами (в том числе с русскими) на общем языке действительно побуждала их к сосредоточению на описании визуальных наблюдений, к акценту внелингвистических аспектов культуры. А этого для физиогномических опытов на российском материале было недостаточно. И в-третьих, он имел необходимую для того профессиональную подготовку. Отправляясь в путешествие, Корнееву предстояло не только сравнить костюмы жителей империи и тем самым выявить новые народы, но и графически воплотить фантазии своих соотечественников.
Вдохновленный почерпнутыми из книг и личного общения идеями, исполненный намерения стать первооткрывателем, в 1802 г. талантливый выпускник Академии художеств отказался от престижной зарубежной стажировки и записался в российскую экспедицию. Один год ее участники посвятили исследованию Сибири, второй – волжским землям и Кавказу, в течение третьего описывали Крым, Турцию, Грецию и Республику Семи Ионических островов.
По возвращении из таких поездок любой художник тратил несколько лет на то, чтобы сделать с привезенных эскизов «чистые рисунки» и подготовить их либо к хранению, либо к гравированию. С помощью друзей-сокурсников Корнеев изготовил 63 беловых рисунка и перевел их на металлические доски. Отпечатанный с них альбом, обнаруженный Н.Н. Гончаровой, имеет название «Собрание костюмов» и существует, по-видимому, в единственном экземпляре. Корнеев показывал его друзьям, участникам Вольного общества, заинтересованным коллекционерам. Как явствует из записки «О живописном путешествии по России», «Собрание костюмов» видел и граф Каподистрия. Возможно, дипломат высказал свое мнение об особой репрезентативной ценности такого проекта для России не только Свиньину, но и Корнееву. Однако Александр I желания издать его не выразил, ограничившись ценным подарком художнику.
Профинансировать тираж альбома и его выход в лучшей граверной типографии Парижа Корнееву предложил баварский посланник в России барон Карл Рехберг – коллекционер акварелей и гравюр на «русские темы». Получив выгодное во всех отношениях предложение, художник переехал вместе с благодетелем в Мюнхен, где два года (1810–1812) работал над экспедиционными эскизами, следил за работой граверов, раскрашивал их отпечатки, обсуждал текст с издателем и его братом-этнографом.
Для парижского издания ему пришлось взять из своей коллекции эскизов только образы российских подданных. В результате отбора из 63 гравюр «Собрания костюмов» (1809) остались 42, остальные 54 композиции Корнеев создавал в Мюнхене заново, в том числе и весь «русский» комплекс. В связи с этим он обобщил в данном издании не только свой собственный эмпирический опыт, но и опыты других рисовальщиков народного быта. Так, для описания «сибирских сцен» ему пригодился альбом неизвестного художника, жившего в Сибири; корнеевская «Русская баня» – это интерпретация одноименной гравюры М.М. Козловского; «Мордовская девка» взята художником из альбома Рота, но облагорожена и помещена в интерьер избы; «Тунгусский шаман» показан им со спины, так же как в одноименном рисунке Гейслера; черкес, кабардинец, киргиз и калмык воспроизведены с гравюр Ж.Б. де ла Траверса «Черкесский хан», «Князь Малой Кабарды», «Калмыцкий лагерь» и «Киргизская беркутовая охота». Наконец, композиция листов «Русская свадьба», «Русская пляска» и «Погребение» повторяет сюжеты гравюр Аткинсона «Свадьба», «Голубка» и «Похороны». Но Корнеев не был простым копиистом. Он интерпретировал заимствованные образы, пропуская их через собственное представление о смысле человеческого разнообразия.
Судя по гравюрам, его видение многонародной империи стало своеобразным синтезом западноевропейских этнических стереотипов, отечественных представлений об отличиях народных групп и собственных фантазий на эту тему. Особенно сильно влияние фантазии сказалось на его образах Востока. В унисон западным утверждениям о его архаичности[401] Корнеев изображал «восточных людей» седовласыми старцами. Мудрецами с убеленными сединами бородами в его гравюрах предстают евреи, индусы, персы и монголы. Их внутренняя связь с иудаизмом (еврей в кипе), буддизмом («Индейский брамин»), исламом («Богослужебная пляска дервишей Мевлевисов») передана ритуальными головными уборами и погруженностью в соответствующие религиозные обряды. Кроме того, Корнеев наделил эти образы теми культурно-психологическими свойствами, которые были им приписаны в колониальной литературе. Например, индусов он изображал в соответствии с британским представлением о консерватизме и созерцательности жителей колониальной Индии[402]. Что касается обитателей российского востока, или, как их тогда называли, «азиатцев», то их образы, напротив, молоды и свободны от конфессиональной зависимости. Правда, в соответствии с западным представлением почти всех их, независимо от исповедания и локализации, Корнеев идентифицировал как «татар» («телеутские татары», «братские татары», «катчинские татары», «казанские татары», «крымские татары», «томские татары»).
Разделяя представления о народах как о различающихся по стадиям развития автономных культурах, художник писал жанровые сцены с характерными для данной группы ритуалами: скачки на лошадях для татар, охота с беркутом для киргизов, бег собачьей упряжки для камчадалов, шаманский танец для алеутов, оленья упряжка для якутов, танец черкесов. По законам жанра этнографического портрета он дополнял композиции ландшафтными подробностями, используя для этого известные гравюры (панорама Казани М. Махаева, сепии Ж.Б. де ла Траверса «Соколиная охота» и «Калмыцкий лагерь») и воспроизводя специфические для данного народа вещи («Идолы братских татар»).
Изучение комплекса корнеевских рисунков позволяет прийти к заключению, что художник представил зрителю современный ему «российский» взгляд на окружающий мир и собственную империю. Судя по анализу его гравюр, для него такой взгляд значил осведомленность смотрящего и достоверность изображения. Для его создания он искал новые способы видения и типизации. Академические учителя учили его тому, что человеческое тело представляет собой сочетание форм, находящихся у каждого отдельного человека в различном соотношении. И поскольку изучить все встречающееся в природе разнообразие не представлялось возможным, они давали ученикам некий общий модуль, сравнивая с которым конкретного натурщика можно было бы передавать индивидуальные отличия. Конечно, Корнеев владел этим «модулем» (в его рисунке «Изведение грешников из ада» конца 1790-х гг., а также в «Русской бане» он очевиден), но в жанровых сценах художник предпочел опираться на эмпирический опыт (свой и чужой), зафиксированный в эскизных зарисовках.
Физически оказываясь внутри того или иного человеческого локуса, он приступал к его изучению в режиме «включенного наблюдения». Вряд ли следует относить это исключительно за счет прозрений Корнеева. Как отмечал президент Академии художеств А. Оленин, странствующему рисовальщику были свойственны специфические «навыки в упражнениях и занятиях»[403]. В силу своего положения ему приходилось быть исследователем-антропологом, внимательно всматривающимся в людей. Именно это дало Корнееву целый ряд находок. Так, эффекта признания за показанным народом культурной оригинальности он добивался посредством отказа от условных или театральных поз, через установление этнографически верных «поставлений». Для этого ему пригодились не только собственные эмпирические знания, но и опыт крестьянских кустарей. Примером их «соседского» взгляда может служить костяная композиция «Ненецкая стоянка», изготовленная в конце столетия архангельскими умельцами[404]. У всех стоящих вертикально мужских фигурок ноги согнуты в коленях, а у сидящего на санях мужчины они непривычно широко разведены. Такие жесты являются продолжением движений персонажей по управлению оленьей упряжкой. Так же изображал оленью повозку с камчадалами и Корнеев.
Паноптического эффекта художник достигал, меняя расстояние между точкой наблюдения и натурщиком. Персонажи в альбомах Корнеева либо смотрят друг на друга, либо, поставленные фронтально, настороженно и издалека глядят в глаза ценителю искусства. Художник самоустранялся из процесса видения, ставя зрителя в ту точку, откуда он сам смотрел на мир, означивая сам себя, свое воображаемое, свою зеркальность.
В отличие от своих предшественников, Корнеев гораздо больше внимания уделял передаче экспрессии. Очевидно, профессиональная подготовка и участие в ВОЛСНХ подтолкнули его к поиску художественных средств для выражения психологического характера народа, к обнаружению его эмоционального строя. Согласно правилам физиогномического чтения, его албанцы сосредоточенны, башкиры суровы, калмыки и турки азартны, казанские татары стремительны.
В рисунке «Физиономии разных народов» (1809) художник отказался от костюма и вербальной идентификации. Из лиц и головных уборов он составил коллективный портрет человеческого мира. Весьма привлекательно выглядящий коллаж интертекстуален. Лицо киргиза является воспроизведением соответствующего образа с листа «Киргизский султан». Китаец скопирован с гравюры «Китайские купцы», индус фигурирует в рисунке «Индейское идолослужение». Здесь же представлены лица жителя острова Корфу, японца, «братского татарина», еврея. В отличие от прочих персонажей, образы японца и еврея не требовали специальных идентификаций. Они опознавались зрителями благодаря частому воспроизводству в рисунках, созданных европейскими антропологами и физиогномистами XVIII в. К началу XIX в. выражение «еврейская физиономия» было знаком, свободно конвертируемым из вербального в визуальное пространство[405]. Оно порождало в воображении образ ашкенази-талмудиста. А вот устойчивого понятия «русская физиономия» в западном визуальном словаре еще не было.
Из двадцати одного персонажа гравированного коллажа пять представляют собой женские лица. Но семантическим ядром данной композиции являются лишь два из них. Они выделяются центральным положением внутри портретного тондо и особенно контрастно-белым цветом кожи и направленным на зрителя прямым взглядом. Одно из них – лицо кавказской женщины. Согласно трудам И.Ф. Блюменбаха, кавказские женщины считались идеальным воплощением черт европейской расы[406]. Второй персонаж идентифицировать документально мне не удалось. Но схожесть их черт указывает на «европейское происхождение» обеих женских головок. Вероятно, в данной гравюре они символизировали европейскую часть многоликого мира. В гравюре они композиционно уравновешены головами восточных старцев – еврея, перса, индуса и монгола. Периферию по отношению к данному ядру образуют головы представителей других народов мира. Таким образом, человеческое многообразие было упорядочено в творчестве Корнеева в форме тондо, состоящего из народов-культур.
Барон Рехберг вербализовал эту же мысль своего русского компаньона следующим образом:
Сколь много различных наций, религий, языков, нравов собрало под своим кровом огромное государство Российское! Сколь различны их внешний вид, образ жизни, одежда, речь, взгляды! Сколь велики различия, например, между литовцами и клмыками, русскими и самоедами, финнами и кавказцами, алейтами и казаками!.. И все эти народы, все эти племена, все эти орды, отделенные одни от других расстоянием в сотни верст и еще в большей степени своими нравами, обычаями, повинуются одному правительству, почитают общего Государя[407].
Что касается «русских сцен», то из экспедиций по северу, востоку и югу страны Корнеев, судя по всему, не привез соответствующих эскизов. Между тем переориентация на западного читателя потребовала введения в визуальное пространство России «русского народа», о существовании которого зрители уже знали по гравюрам Лепренса, де ла Траверса, Портера, Кларка, Аткинсона и Гейслера. Для его описания Корнеев воспользовался гравюрами Аткинсона, которые переработал с учетом собственного представления о «русскости». Благодаря этому у нас есть возможность проанализировать его воспроизведения как оригинальную интерпретацию.
Композиция гравюры «Русские крестьяне» составлена из двух женских и одного мужского персонажа, представленных в полный рост. Мягкая драпировка складок одежды и ее яркий насыщенный цвет выдают дорогую, не домотканую ткань. У мужчины на голове черная шляпа с широкими полями. На женщинах – сшитые из тонкой ткани рубахи, сарафаны и душегреи, туфли. На жесткую основу головного убора накинуты дорогие платки. Все эти элементы традиционной одежды можно найти в гравюрах Аткинсона «Охтинские молочницы» и «Сельский сход». Только в версии Корнеева, благодаря технике облагораживания цветом, они обрели иное качество, превратившись из «подлого люда» в «сельских обывателей».
В сюите данного художника цвет перестал применяться только для необязательного раскрашивания. И это, как считает Н. Молева, «совпадало с национальной художественной традицией в иконописи»[408]. Подобно иконописцам, Корнеев использовал цвет как самостоятельное средство показа типических качеств натуры. В связи с этим он не мог допустить произвольного расцвечивания гравюрных отпечатков несведущими людьми, а потому сам раскрашивал их. В авторской версии колер одежды обрел познавательное и идентификационное значение. К тому же зритель воспринимал яркие насыщенные тона как признак социального благополучия.
Тела же корнеевских «крестьян» выдают их «голландско-итальянское» происхождение: миндалевидные глаза, антикизированный профиль, длинные пальцы, нежная кожа рук. «В русских народных сценах, – констатирует Н. Гончарова, – Корнеев еще сильно связан классицистическими канонами. Народные типы напоминают академических натурщиков, лица их маловыразительны, русские одежды чем-то неуловимо походят на античные, юные крестьянки сентиментально грациозны»[409]. Однако такой вывод можно сделать, только придерживаясь ретроспективного взгляда на историю искусства. В сравнении же с костюмными и жанровыми гравюрами XVIII в. корнеевские образы выделялись не этим, а портретностью. Зритель рассматривал не костюмы, а портреты народов.
Что же он мог прочитать в них, опираясь на физиогномические правила? Русский человек был добротно и чисто одет, и, следовательно, чисты были его помыслы и душа. Он честен и добродетелен, о чем свидетельствуют его развернутые плечи и прямой взгляд. Он добр, как бывает добрым здоровый и сытый человек с хорошим цветом лица. Его непринужденные позы говорят о пристойности.
Корнеев был реалистичен в деталях, что не мешало ему отбирать для изображения лучшее. Его села (еще более, чем в гравюрах Лепренса) выглядят богатыми, а дома – крепкими. Его крестьяне окружены детьми, домашними животными (свиньи, собаки, петухи и куры), изображены на фоне повозок, отнюдь не ветхой домашней утвари. Благодаря такой тактике зритель увидел русский народ молодыми, здоровыми, красивыми, довольными жизнью сельскими жителями, обывателями цивилизованными и вполне достаточными[410].
При рассматривании «русского комплекса» привлекает внимание то, что крестьяне изображены художником не индивидуально (например, за работой), а коллективно: участвующими в венчании, похоронах, играх, танцах, праздниках и прочих развлечениях. Очевидно, Корнеев был солидарен с Лепренсом, Гейслером и Аткинсоном и стремился показать народ как культурную общность, соединенную специфическими для нее ритуалами. Привлекательность образов и разнообразие жанровых сцен создавали у зрителя ощущение богатой культурной традиции.
Подчеркивая «внутренний», пристрастный взгляд на реальность империи, Корнеев ввел в некоторые рисунки свой автопортрет для участия в изображенной сцене. Присутствие фигуры художника в композиции рисунка было традицией костюмного жанра. Как правило, он играл в сцене роль «интервьюера» или «камеры» («Гейслер, рисующий татарскую девушку»). Такую же роль играет фигура Корнеева в «нерусских» сценах («Внутренность калмыцкой юрты», 1809). В русском же комплексе он присутствует не как исследователь, а как полноправный участник народной жизни. Например, в переработанной с оригинала Аткинсона гравюре «Погребение» он воплощен в фигурке любопытного юноши, выглядывающего из-за спины православного священника. Благодаря такому «поставлению» зритель оказывался не просто пред «очами» репрезентируемого объекта и в стороне от происходящего там ритуала, а вовлечен в действие.
Еще более концептуальны изменения, внесенные Корнеевым в аткинсоновский сюжет «Русская свадьба». Современному зрителю гравюры британского графика известны не столько в авторском исполнении, сколько в литографических копиях. Представляя одну из них на выставке 2002 г., специалист по русским гравюрам М.А. Пожарова выделила «искажения», внесенные в оригинальную композицию французским рисовальщиком А.Г. Убиганом[411]. Убедительно объяснить их ей не удалось. Поскольку Убиган переносил на литографический камень графический оттиск, его версия представлена в зеркальном отражении (в обратном развороте)[412]. Но смущает не это. У Аткинсона «Русская свадьба» описывает венчание дворянской пары, а в литографии Убигана – это крестьянский обряд. И было непонятно, зачем французу понадобилось «опрощать» исходную композицию, где он искал и находил иконографические сведения для таких изменений.
Я полагаю, что Убиган перенес на литографический камень не гравюру Аткинсона, а ее интерпретацию в исполнении Корнеева. Это Корнеев заменил европейскую одежду дворян на традиционный крестьянский костюм, а также надел венцы на головы брачующихся (в оригинальной гравюре их держат свидетели). Это он поместил на первый план стоящую на коленях крестьянку-старовера. И сделал он все это расчетливо и намеренно. Крестьяне – важный визуальный код в национальной оптике, именно с ними художник сопрягал русскую народность (этничность). В этом отношении он был вполне солидарен со своими баварскими покровителями, впитавшими идеи Гердера. В сопроводительном тексте к гравюрам К. Рехберг писал:
Высшие слои общества в России подобны высшим слоям в любой иной стране. А потому разговор мы поведем отнюдь не о них. А сосредоточим мы внимание на русских крестьянах, работниках, торговцах и ремесленниках. Ведь только в низших классах общества нравы сохраняют еще, так сказать, свое оригинальное лицо, стертое среди прочих классов под влиянием образования[413].
Исследователь Палеха А. Дженкс считает, что начавшаяся в начале XIX в. в России идеализация крестьянской культуры порождена реакцией на ориентальный дискурс Запада. «Конструируя собственную самость в оппозиции к европейской идентичности, – пишет он, – русские элиты опирались на “привилегию отсталости”, используя крестьянские традиции, чтобы создать консервативную утопию, более аутентичную и древнюю, чем ее бездумная альтернатива на Западе»[414]. Именно тогда среди российских элит стало утверждаться сознание, что просветительство и модернизация могут быть осуществлены не только на общеевропейской основе. Впоследствии это приведет их к созданию русского этноцентричного мифа.
Поставленный на первый план гравюры образ староверки позволил воспитаннику класса исторической живописи архаизировать «свою» культуру, отнести описываемый ритуал в дониконовскую эпоху и тем самым восстановить континуитет разорванной церковной реформой «русскости».
В результате сознательно принятых решений и открытий грифелем и красками отечественного художника русскому народу впервые был придан характер культурно и психологически богатой личности. Удовольствие художника, его любование изображенными персонажами вполне ощутимо. Имея в виду эту особенность его творчества, можно даже полагать, что, вероятно, визуальная «русскость» стала складываться тогда, когда художественные проекции элементов «этнического мира» оказались включены в контекст «самопереживания» художника и его зрителя, то есть в «Я-реальность» народа.
Судя по творчеству Корнеева, период «пассивного синтеза», то есть этнографического собирания визуальных впечатлений и их письменных описаний, сменился в России периодом «активного синтеза», в рамках которого из собранного материала выводились формулы многонародного единства империи. Пред взором современника она предстала как структурированное образование, созданное из разнообразия, где отдельные проявления не раскалывают, а создают дополнительный объем явлению. Это был достойный ответ на вызов ориентального взгляда.
Позитивный «взгляд изнутри» как достоинство работ художника оценили не только российские, но и западные зрители. Свидетельством томуслужит долгожительство созданных образов, частота их воспроизведения. Н. Гончарова выяснила, что с корнеевских образов (без указания оригинала) снимали копии итальянские граверы А. Биазиоли (Biasioli), Д. Браматти (Bramatti), А. Ланксани (Lanxani, Lanzani). А когда в 1838 г. в Париже вышла книга И. Шопена «Россия», то на представленных в ней листах зрители легко угадывали измененные и сильно уменьшенные, а иногда фрагментированные композиции из альбома «Народы России». В 1842 г. те же листы, но уже в виде очерковых литографий, иллюстрировали периодическое издание Е.А. Плюшара «Картинная галерея»[415].
И если для иностранного читателя гравюры Корнеева были прежде всего иконографической формой упаковки этнографического знания, то соотечественникам художник предложил основания для самоидентификации. Его «русские» образы, во-первых, утвердили самотождественность «русскости» во времени (до патриарха Никона и сейчас) и в разных жизненных ситуациях (на похоронах, на свадьбе, на празднике); во-вторых, они противопоставили русских – «другому» (нерусскому), а также внутренний мир – внешнему; в-третьих, в них было осознание психических особенностей личности (желаний, воли, чувств, мышления, переживаний), исходящих из «русскости», то есть обусловленных и мотивированных ею.
Итак, в иллюстрациях к травелогам путешественников, а также в иллюстрированных энциклопедиях зрители увидели Российскую империю совокупностью народов-культур. При этом они получили две ее конфигурации: линейную и центрическую. В первом случае движение путешественника шло с запада на восток и оказывалось путешествием во времени – от цивилизации к ранней дикости. Во втором пространство империи обретало форму тондо и заполнялось представителями суверенных народов-культур. В линейной оптике художник акцентировал подобия, и все группы российских жителей обретали единство пути развития. Данное представление легко кодировалось в антропоморфные категории семьи и человеческих возрастов. В центрическом ракурсе мастер абсолютизировал отличия: культурную самобытность народов и географический детерминизм. Благодаря этому современники смогли открыть для себя существование нелокализованных в пространстве империи общностей, что позволило выделить «русских» из «россиян». Вместе с тем специфика визуального языка давала возможность не только обобщать, но и расслаивать монолитные понятия, превращая их в конкретные объекты, лишенные стереотипичности. В результате такой процедуры «татары вообще» расслоились на «крымских», «казанских», «тобольских» и прочих локальных татар. Перед людьми власти такое видение империи поставило задачу изучения народных особенностей и управления различиями.
Глава 3
«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» В КАРИКАТУРЕ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА
Получив графические версии народного тела, российские интеллектуалы обрели возможность создавать с их помощью новые идентичности и работать с чувствами соотечественников. Это требовало применения художественных технологий, благодаря которым рисовальщик начала XIX в. мог приписать изображаемому персонажу свойства, ранее считавшиеся частью невидимого внутреннего мира человека. Известные к этому времени практики включали следующие манипуляции: придание изображенному персонажу «характерных черт» (описанных учеными или признанных современниками в качестве «общего» знания о народе); кодирование в позах и лицевой мимике персонажа психологических состояний; облагораживание тела согласно эстетическим представлениям о красоте и, напротив, их искажение в соответствии с представлением об ужасном, враждебном и диком; приписывание телу культурных свойств посредством вербального комментария; изменение контекста восприятия визуального образа и др.
Психологизация графических образов создала формат, пригодный для демонстрации не только различий, но и подобия, например для показа гетерогенной империи как общности «одинаково чувствующих людей». Примечательно, что теперь западная культура впервые была представлена как некая отторгаемая форма солидарности. Более того, в новом визуальном формате абстрактная «европейскость» стала контрастным фоном, на котором прорисовывались контуры и пределы «российскости».
Эти открытия были сделаны в графическом жанре военной карикатуры[416]. В отечественном искусствоведении ее бурный расцвет представлен как парадокс. Между тем он логичен в контексте российских поисков оснований для солидарностей. Дело в том, что новые понятия обыденного мышления формируются на уровне фантазии и эмоций. Они возникают как результат совмещения различных семантических полей. А карикатура есть жанр, наиболее тесно работающий с визуальными метафорами. Их выделение и анализ позволяет увидеть формирующиеся направления в обосновании группности, а также обнаружить несуразности и «неровные края» изготовленного в ходе войны с Наполеоном интеллектуального «изделия». Кроме того, карикатура – жанр полупрофессиональный, оставляющий возможности для коллективного творчества. Как никакой другой, этот жанр близок к фольклору, что делает его пригодным для массового распространения.
Что касается культурно-политической ситуации, в которой осуществлялось это творчество, то современные теоретики национализма едины во мнении: ускорение процессов коллективной самоидентификации происходит во времена быстрых изменений, опасности и переворотов. С одной стороны, они порождают социальную активность групп, не вовлеченных ранее в публичную сферу, с другой – эти времена обостряют общественную потребность в героях. В данном контексте запускается процесс гендеризации группы – стремление интерпретировать общие ценности в гендерных категориях семьи, любви, дружбы, братства[417]. То же можно сказать и о «фольклоризации» – желании сделать созидаемую солидарность «всегда бывшей» и, следовательно, народной.
Кроме того, внешняя угроза создает условия, в которых возникает потребность диалога элит с социальными «низами». Визуальный язык в этих обстоятельствах становится средством связи индивидуального человека с себе подобными, позволяя действовать согласованно, разделять общие эмоции и усваивать общие нормы поведения.
Карикатура как социальное послание
Несмотря на соблазн эффектной интерпретации и на убеждения искусствоведов, я не могу согласиться с тем, что русская карикатура появилась как-то неожиданно и «вдруг» в 1812 г.[418] Такой вывод не позволяют сделать сохранившиеся в копиях сатирические листы на политические темы Г. Сковородникова[419], а также многочисленные социальные рисунки А.О. Орловского (например, его «Француз-эмигрант» и «Нищие крестьяне у кареты»). Орловский был учеником жившего в Польше французского художника Ж.П. Норблена. В 1802 г. молодой поляк переселился в Петербург и прославился своими шаржами на друзей и карикатурами на польских шляхтичей и ксендзов.
А.О. Орловский «Эмигрант»
Кроме них шаржи на современников делал скульптор И. Теребенев. Тысяча восьмисотым годом датируется его рисунок «Мещанская большая пирушка». Примечательно, что уже тогда он использовал прием кодирования сюжета в виде визуальной метафоры. В рисунке «Рифмач читает свои стихи» художник ввел метафорический объект (мышеловку) в композицию карикатуры. Благодаря этому приему зрителю становилось ясно, что изображенные персонажи страдают в закрытой комнате от неистовства стихотворца, в упоении мучающего слушателей своим творчеством. При том что художник шаржировал индивидуальные, почти портретные черты друзей, характерными позами все они напоминают мышей, попавших в западню[420].
От того времени до нас дошли и несколько карикатур А.Г. Венецианова. В 1808 г. художник решил повторить удачный опыт Х. Рота по изданию журнала гравюр, но, в отличие от предшественника, попытался придать ему сатирическое звучание. Известно, что из всего грандиозного замысла свет увидели лишь три тетради «Журнала карикатур»: «Аллегорическое изображение двенадцати месяцев», «Катание на санях» и «Вельможа»[421]. Каждая состояла из четырех изображений с пояснительными текстами. Из архивных документов явствует, что данное предприятие прервалось из-за наложенного на него запрета императора, посчитавшего смех нижестоящих чиновников над вышестоящими неуместным. Смеяться дозволялось над явлениями, но не над «лицами» (особенно властями предержащими). А может быть, шаржированный образ вельможи напомнил зрителям лицо какого-то конкретного сановника. Во всяком случае, протест против рисунка императору послал нe кто иной, как министр внутренних дел А.Б. Куракин.
И.И. Теребенев «Рифмач читает свои стихи»
Массовый российский зритель был приобщен к смеховой визуальной культуре посредством лубка. Искусство гравюры было известно в России со времен Ивана Грозного, основавшего первую «фигурную типографию». В царствование Петра I книжные иллюстрации издавала «исправнейшая фигурная типография». Рисунок резался на дереве (позже – на свинце или меди), а отпечатанный эстамп раскрашивали четырьмя красками умельцы в пригородных селах. «С тех пор, – уверял в 1822 г. И. Снегирев, – в Москве сие искусство сделалось промыслом у многих частных людей, которые печатают для простого народа картинки, называемые Суздальскими или лубочными, а в Сибири панками»[422]. На рубеже XVIII–XIX вв. самыми известными производителями такой продукции были московские фабрики И.Я. Ахметьева (в начале XIX в. она состояла из 20 станков) и М. Артемьева. Наряду с ними существовало множество мелких мастерских.
Народные картинки на сатирические сюжеты были ходовым товаром и имели широкое хождение среди крестьянских и городских покупателей. П.П. Свиньин свидетельствовал: «Лубочные карикатуры наши не уступают в остроте Английским простонародным и давно уже у нас известны. В них также можно видеть эпохи странностей мод и вкуса: карикатуры на чесанье волос в 60-х и 70-х гг., на ношение мушек, на парики в несколько ярусов и т. п. весьма замысловаты»[423].
Выявив визуальные источники таких картинок, специалист по русским карикатурам С.С. Трубачев констатировал: «Сначала наши народные картинки копировались с немецких и голландских лубочных гравюр, затем преимущественно с французских картинок, а в XIX столетии – с европейских политических карикатур»[424]. Исследователь считал, что мастера лубочного производства были «неразборчивы и несамостоятельны в выборе сюжетов, аляповаты в исполнении, грубы в подписях, заботясь, главным образом, о том, чтобы было только пестро, ярко и смешно»[425]. А то, что уже в лубках XVIII в. обнаруживаются образцы высмеивания «европейскости», Трубачев объяснял старообрядческим влиянием, неприятием староверами культурных заимствований в русской жизни.
Сегодня вопрос о «влияниях» уже не кажется таким простым, каким был в XIX и начале XX в. Во-первых, исследователи больше не считают, что культурные феномены могут быть перенесены из одного культурного контекста в другой в неизменном виде, а потому изучают не «влияния», а «рецепцию», то есть изменения, которым подвергаются импортируемые тексты и идеи в процессе перенесения[426]. Во-вторых, в современных исследованиях лубка доказана универсальность данного явления для низовой культуры многих европейских стран[427]. Так же как и в фольклоре, мир в нем осмысляется как набор универсальных дихотомий: «дом– бандиты», «свои – враги», «город – деревня», «крестьянин – дворянин» и т. д. Поэтому целый ряд лубочных сюжетов является «странствующим», то есть имеет единый иконографический источник[428]. Другое дело, что, воспроизводя универсальные сюжеты («ступени человеческой жизни», «перевернутый мир», «о вреде пьянства», любовно-семейные сцены, поучения и т. д.), лубочные мастера адаптировали их к воображению и мыслительным архетипам соотечественников. Именно это, по мнению современных специалистов, «придает русским картинкам особый вид и выделяет их из массива общеевропейской печатной графики»[429].
В большинстве своем русские лубки были морализирующими изображениями духовного и светского содержания. «Такие произведения гравирования, по дешевизне соответствующие скудости поселян, а по содержанию и рисунку их вкусу и понятию, в деревнях наклеиваются на стенах», – свидетельствовал современник[430]. Когда зимними вечерами крестьяне собирались в избу на посиделки, самый словоохотливый рассказчик ублажал слушателей байками, связанными с сюжетами развешанных картинок.
Местами продажи лубков в Москве были паперти церквей Святой Троицы и Казанской Богоматери, Сретенка, Спасский мост, Холщовый ряд. Оттуда, сообщал И. Снегирев, «они расходятся по всей России; их развозят по всем ярмонкам и деревням, носят и по улицам обеих столиц»[431]. По свидетельству очевидцев, среди таких продавцов всегда находился рассказчик («русский чичероне»), который «в кругу ротозеев, с важным видом разглаживая себе окладистую бороду, рассуждал о представлении света и толковал погребение кота Казанского»[432]. А обладатели приобретенных рисунков, по всей видимости, показывали их домашним и соседям, присовокупляя к услышанному свое видение сюжета. Таким образом, зрительская аудитория каждой гравюры была значительно шире, нежели число ее покупателей, а набор интерпретаций оказывался богаче, чем замышлял ее создатель. Опыт прочтения сатирических картинок должен был подготовить рядового потребителя к восприятию карикатуры. А потому появление в домах крестьян гравированных рисунков на военную тему вряд ли было событием чрезвычайным.
«Карикатура двенадцатого года» – так искусствоведы назвали комплекс сохранившихся от войны 1812 г. сатирических рисунков и гравюр. Сейчас в распоряжении исследователей находятся около 200 листов, отложившихся в фондах изобразительных музеев и Национальной библиотеки в С.-Петербурге. За два века их существования многие карикатуры были изданы в специальных художественных альбомах и в качестве иллюстраций к исследовательским публикациям, а также к учебной литературе. Они не раз появлялись перед взором разных поколений россиян, а сегодня составляют неотъемлемую часть национальной памяти. Благодаря им и по сей день исторические представления россиянина содержат иронично-шаржированный образ наполеоновского солдата (совокупного «европейца») и сказочно-величественный образ его победителя («русского человека» того времени).
Для российских интеллектуалов это был первый коллективный опыт создания политической карикатуры, и он сопряжен с проектом издания патриотического журнала «Сын Отечества». Его инициаторами были молодые петербургские литераторы С. Уваров, И. Тимковский, А. Оленин, А. Тургенев, Н. Греч (официальный редактор). С журналом сотрудничали В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.Х. Востоков, А.П. Куницын, Э.М. Арндт, И.А. Крылов[433]. Подписавшийся на данное издание читатель находил в нем политические репортажи, литературные произведения, а в разделе «Смесь» читал короткие рассказы (анекдоты) о подвигах народных героев. Объявленный тираж «Сына Отечества» составлял 600 экземпляров. Но он сразу же оказался недостаточным. Н. Греч дважды увеличивал его вдвое, но и после этого все экземпляры были распроданы.
В условиях той войны это был не единственный издательский проект патриотической направленности. Например, в «Русском вестнике» тоже печатались короткие истории – бывальщины. Их герои тоже имели былинно-символические имена, но в отличие от анекдотов из «Сына Отечества» это были не крестьяне, а представители элит. «Русскость» рассматривалась издателями «Русского вестника» как качество просвещенного дворянина, сознательно выбравшего патриотизм в противовес космополитизму и галломании. Типичными для данного издания были нравоучительные беседы старого воина (воплощавшего качества, вытекающие из «русскости») с молодым повесой, воспитанником французских гувернеров (результатом усвоенной «европейскости»). В конце такого текста неизменно происходило перерождение «иноплеменника в России» в патриота[434]. В целом цель журнала его издатели видели в том, чтобы «все бывшие питомцы Французов обратились к Руским и России»[435]. В этом отношении социальные карикатуры Венецианова вполне могли бы служить иллюстрацией данного проекта.
Несмотря на провал «Журнала карикатур», в 1812–1813 гг. художник вновь обратился к сатирическому жанру и издал серию гравированных листов, объединенных темой разоблачения галломании: там присутствовали смехотворный французский парикмахер, модный французский магазин, французская модница. В исследовательской литературе отмечалась связь этих образов с литературными шаржами в баснях И. Крылова, романах Ф.В. Ростопчина, а также в произведениях А. Радищева и Д. Фонвизина. В этом отношении творчество Венецианова относится к жанру не политической, а социальной сатиры.
Лубок «Споры и похвальбы между рябыми от упрямства и гладкими от послушания родителей»
Лубок о пользе оспопрививания
«Сын Отечества» работал с другой аудиторией, и его идея заключалась не в борьбе с галломанией. В отсутствие официальных сведений о ходе войны коммуникативное пространство России осенью 1812 г. заполнилось противоречивыми слухами. В Петербурге и Москве не без оснований опасались, что в условиях безвластия на занятых войсками Наполеона территориях в любой момент могут начаться мародерство, грабежи и неуправляемые массовые убийства. Вероятно, в этих обстоятельствах интеллектуалы сочли, что отсутствие административной власти может быть скомпенсировано созданием сети устной коммуникации с простонародьем. В Москве и тем более в российской провинции она играла более значимую роль, нежели письменное слово. Устное послание превращало людей из разрозненных объектов в организованную – слушающую и общающуюся – аудиторию, порождало их общность посредством согласия в интерпретации явлений и лиц. «Обсуждение событий в петербургском обществе, – считает специалист по столичной культуре А.П. Шевырев, – это, в конечном счете, обработка той информации, которой каждый владел в избытке. Московское же общество в этом отношении было ближе к провинциальному, нежели к столичному»[436].
То, что в данном случае речь идет не о проекте информационного обеспечения общества, а об управлении сознанием современников, удостоверяют и мемуары М. Дмитриева. Из них становится ясно, что известия о войне не столько собирались, сколько сочинялись редакцией. «Я узнал уже после, спустя тридцать лет, их (анекдотов. – Е. В.) настоящее происхождение, – писал он, – узнал от Александра Ивановича Тургенева, бывшего тогда еще легким и живым молодым человеком. Тургенев, Воейков, Греч и другие собирались вместе после выхода неприятеля из Москвы и начали выдумывать эти анекдоты в Московской и Смоленской губерниях, на обратном пути неприятеля (курсив мой. – Е.В.)»[437]. Не все истории были выдуманными, часть из них имела вполне реальную основу, заимствованную из сведений походной типографии Главного штаба или из писем офицеров[438]. Но и тогда они стилизовались под народные былины или сказания, сопровождались а-ля лубочными иллюстрациями, что придавало нарративу необходимую степень реальности. Той же цели служило указание на имя фиктивного автора письма (свидетеля происшествия, якобы видевшего все своими глазами).
Латентно присутствующего неграмотного адресата «Сына Отечества» выдает тематика текстов, обилие в них слов и выражений простонародного языка. Видимо, замысел использовать возможности фольклорной речи и сатирических картинок для обращения к простонародью возник спонтанно впереломный момент войны, но сам по себе он имел прецеденты в отечественной истории. Участники «Сына Отечества» знали об эффективности смехотворных гравюр Екатерининской эпохи. Тогда, накануне издания указа о ликвидации монастырского землевладения, по селам были разбросаны гравюры с изображением «челобитной калязинских монахов». И сам рисунок, и рукопись, из которой он был изъят, посвящались разоблачению грехов монастырской братии[439]. А правительственная кампания по оспопрививанию сопровождалась бесплатной раздачей крестьянам картинок «Споры и похвальбы между рябыми от упрямства и гладкими от послушания родителей». Современники признавали, что эти действия правительства «послужили к распространению между простым народом спасительного прививания коровьей оспы и к уничтожению закоснелых предрассудков»[440].
И.И. Теребенев «Мыльные пузыри»
Военный опыт обращения к посредническим возможностям низового языка также оказался успешным. Это доказало то обстоятельство, что на оккупированных территориях, вопреки опасениям элит, «народ, – по свидетельству современника, – оставался спокоен; мысль о бессилии русской власти перевешивала ненависть к французам; особливо когда стали доходить известия о их безбожных деяниях в Москве и об оскорблении святыни»[441]. Действие эмоциональных рассказов о «бесчинствах басурман» оказалось эффективнее письменных призывов не мародерствовать в отношении соотечественников.
Полезный замысел редакции «Сына Отечества» получил одобрение политической власти, но в действительности он оказался эффективен не только для решения задачи успокоения социальных низов. Грифелем и пером молодые писатели и художники творили миф о гражданской нации и народной войне в России. Для этого они придумывали сказочные подвиги крестьян, сочиняли походные песни и шутливые байки от лица ополченцев, привлекали для иллюстрации сказанного разговорные метафоры и рисунки с лубочно-костюмными образами[442]. Всем их произведениям свойственны взволнованность, эмоциональность, вопросительно-восклицательные интонации, экспрессивная лексика и фразеология.
Е.М. Корнеев «Чем победил он врага… Нагайкою»
А.Е. Мартынов «Чем победил его? Нагайкой»
И.И. Теребенев «Чем он победил врага своего? Нагайкой»
С журналом сотрудничали такие мастера графики, как М. Богучаров, К. Зеленцов, И. Иванов, И. Тупылев, И. Теребенев, Е. Корнеев, А. Венецианов, С. Шифляр и целый ряд оставшихся анонимными художников. В этой коллекции лишь некоторые рисунки принадлежат любителям. Это коренным образом отличает отечественную карикатуру от британской, которую создавали люди, не имевшие специальной художественной подготовки[443].
Как и литераторы, иллюстраторы широко пользовались освоенной еще в XVIII в. практикой изменения смысла текстов, заимствованных из иной культурной среды. В данной ситуации исходным материалом для них служили не столько западные рисунки, сколько фольклорные источники. Видимо, им пригодился опыт собирания и изучения фольклора, обретенный в ВОЛСНХ. Спустя какое-то время автор одной из первых статей о лубке сформулировал стоявшую перед ними задачу следующим образом: «Может быть, литография, усовершенствовав печатаемые доныне народные картинки и сказки, при содействии знающих и мыслящих людей будет способствовать просвещению народа столь удобным и простым способом»[444].
В результате творческих переработок на страницах журнала появлялись героические эпосы. Часть из них в рукописном виде сохранилась в архивном фонде А.Н. Оленина[445]. «Так, – сообщал Дмитриев, – распространился рассказ о Русском Сцеволе, о том, как старостиха Василиса перевязала пленных французов и привела на веревке к русскому начальству; как один казак победил нагайкой троих артиллеристов и отнял у них пушку, как голодные французы на требование хлеба услышали от старухи, что у нее осталась одна коза, и бросились со своими товарищами из деревни. Все это было ко времени и кстати и производило сильное действие»[446].
Чтобы обеспечить интенсивность воздействия, редакционная команда работала с большим напряжением. Особенно тяжело приходилось художникам. Графики должны были мгновенно реагировать на меняющиеся военные события, обобщая их значения и поднимая персонажей до символизма коллективных героев. То, что у них не было возможности посетить места боевых действий и увидеть реальных людей, заметно в стилистике рисунков: тяготении к условному ландшафту и лаконичности в описании деталей. Как правило, карикатура двенадцатого года – это схваченные карандашом чувства и поступки. Образы для нее вырезались с использованием хорошо известных российскому зрителю лекал: треуголки у французов, конфедератки у поляков, чалма и шаровары у янычар, сарафаны у русских женщин, нагайки у казаков, бороды и топоры у русских мужиков. А вот шаржи на политических деятелей изготавливались иначе. В 1810-е гг. в Цвиккау издавались листы с портретами наполеоновских сподвижников. Часть их принадлежала руке портретиста Ф. Боллингера. В период поклонения Франции и гению Наполеона российские аристократы с охотой покупали их, а в войну они пригодились для насмешек над врагом[447].
От народной картинки в рисунки профессионалов пришли лаконичность композиции, острая характерность образов, статичность и контрастная красочность, придавшие некоторым карикатурам форму «опрощенного военного плаката». Другая часть рисунков была более похожа на художественную иллюстрацию событий и шаржированные портреты участвовавших в них людей. Так же как в лубочных картинках, во многих карикатурах использовался текст, стилизованный под площадную присказку или пословицу.
Жанровая близость карикатуры к фольклору проявляется в их сосредоточенности на необычном, будь то костюм, ситуация или поступок. Вслед за создателями героического эпоса художники показывали то, чего не могло быть в таком виде, но так, как если бы это на самом деле было[448]. В этом и заключался юмор созданного ими рисунка. Фиктивные события (крестьянин отрубил себе руку, мужик жонглирует французами, девица закалывает деревянной рогатиной наполеоновского офицера, петух клюет деревянного орла и т. д.) оказывались переведенными в сферу реальности: реальные деревни (для чего использовались эскизы видописи) и привычные зрителям типажи (взятые из жанровой гравюры). Они изображались как случившиеся в определенном месте (например, в Сычевке или Москве), в определенное время (летом 1812 г.), с определенными людьми. Некоторые рисунки насыщались бытовыми подробностями, благодаря чему сказочный сюжет превращался в бывальщину.
Среди гравюр двенадцатого года обнаруживаются весьма разные по художественному уровню рисунки. И это понятно, если учесть, что их создателями были более 40 художников. О творческой манере самых известных из них исследователь карикатуры Дж. Боулт писал: «Теребенев был лаконичен в передаче действия, а Иванов предпочитал развернутый рассказ»[449]. Рисунки этих двух карикатуристов несут на себе заметные следы западного отношения к графическим иллюстрациям. Это проявилось в их стремлении соблюдать анатомические пропорции, следовать законам перспективы, а также в трехчастной композиции. Но при всем при том и в этих рисунках присутствуют лубочная четкость линий и яркость раскраски. У других художников эта тенденция проявлялась еще сильнее, а черты намеренной небрежности и искажения масштабных соотношений делали их гравюры похожими на лубок.
Так же как и «костюмные» гравюры, военные карикатуры были коллективным продуктом. Сами издатели могли заказать конкретную тематику (о Наполеоне или о русской галлофобии, например), одни интеллектуалы рисовали, другие придумывали сюжеты, третьи гравировали, четвертые раскрашивали, кто-то догравировывал имеющиеся доски, кто-то добывал информацию. Художники заимствовали друг у друга и у зарубежных коллег сюжеты, пародировали популярные рисунки, имитировали и шаржировали портреты. В те времена это было обычной практикой художественной жизни, которая, похоже, никого не смущала. Ситуация была аналогичной и в Англии[450], и в Голландии, и в Германии[451]. Я не знаю ни одного случая, чтобы художник протестовал против копирования его рисунка. Наоборот, кажется, каждый стремился взять у предшественников или коллег по цеху самое удачное, гордился воспроизведениями, заимствовал понравившиеся зрителям сюжеты, торопился перенести на лист бумаги полюбившийся персонаж. Благодаря этому происходил отсев непопулярных образов, стремительное утверждение единиц визуального языка, а повторяющиеся в гравюрах метафоры становились речевыми тропами.
Впервые опубликованные в «Сыне Отечества», в дальнейшем «смехотворные картинки» воспроизводились в виде «летучих листков» и расходились по стране значительными тиражами: в хорошей раскраске по цене 1,5–2 рубля за лист, в плохой – гораздо дешевле[452]. В 1813 г. «Санкт-Петербургские ведомости» регулярно помещали объявления об их продаже в книжных лавках И. Глазунова, И. Заикина, Я. Сленина. «Коллекция карикатур» из 25 раскрашенных гравюр стоила 37 руб. 50 коп., а отдельными листами рисунки можно было приобрести за 1 руб. 50 коп.[453]
В силу своей массовости и дешевизны карикатуры стали достоянием широких слоев зрителей. Современники свидетельствовали, что в послевоенные годы они висели на стенах крестьянских домов, их можно было увидеть в трактирах и на постоялых дворах, а в городах они выставлялись в витринах магазинов, вывешивались на заборах. Одновременно с этим карикатуры декорировали дворянские особняки. Так, захваченный в плен французский врач де ла Флиз вспоминал, что в 1813 г. видел коллекцию сатирических гравюр в имении помещика Мгинского уезда[454].
Констатируя успешность опыта редакции «Сына Отечества», но опасаясь в условиях изменившейся политической ситуации говорить об этом открыто, И. Снегирев писал в 1822 г.: «Кто знает, может быть, сии картинки и описания, утешая и научая их (народ. – Е. В.), удерживают от пороков и преступлений! Может быть, оне также служили средством к распространению любви отечественной и полезных мнений, к возбуждению мужества и храбрости в народе, который тогда понимает, когда говорят ему его же языком, близким к сердцу (курсив мой. – Е. В.)»[455]. Заявить об этом было легко. Но как заговорить на «народном языке» писателю, взращенному в категориях западной культуры? Каков этот язык и где ему учиться? Карикатура двенадцатого года позволяет реконструировать опыт такого обучения.






