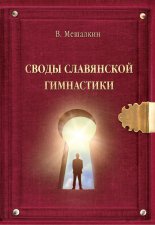Звездная река Кей Гай Гэвриел

Нужно было ублажать всадников, которые так давно и так надолго покинули свой дом, а в степи праздновали тот же новый год, что и в Катае, под тем же новым месяцем и звездами, или под серо-черным небом и падающим снегом.
Дайянь понимал, что это смертельно опасная затея, и хотел жить достаточно сильно, чтобы бояться. Он старался не дать Шань это заметить. Он знал, что она наблюдательна. Это в ее природе.
Он ненавидел туннели, ненавидел спускаться под землю, всегда ненавидел. Но не их способ бегства его беспокоил, а то, что ждет его потом, именно его. Об этом он никому не сказал.
Он ждал сигнала в темноте новогодней ночи. Он вспоминал (как ни странно) фейерверк в детстве. Удивление и радость, свет, взрывающийся в небе, потом падающий дождем зеленых, красных, серебряных искр.
Они стояли в укромном месте возле главных западных ворот. За ними лежал Сад Халцедоновой рощи, с его рукотворным озером, где когда-то устраивали пышные зрелища и лодочные гонки для императоров в зените их славы.
Он наблюдал, как звезды то скрывались за облаками, то снова выплывали из-за них, а потом окончательно исчезли, когда с севера набежала плотная гряда туч. Снова пошел снег. Он повернулся к женщине, которую любил и мог потерять сегодня ночью. И сказал:
– Снег – это хорошо для нас. Для этого.
С ними было еще два человека. Его лучший офицер в городе и еще один, выбранный за свое умение в другой области. Ему пришлось выбирать. Другие солдаты, вероятно, погибнут здесь. Люди, которых он хорошо знал, некоторых из них. Быть командиром во время войны – мрачная обязанность.
Через северные ворота въезжали алтаи. Дайянь один перебрался через стену две ночи назад, перед тем, как взошла убывающая луна. Он взял в плен алтайского караульного, стоящего на посту. Они там со временем стали беспечными, презирали противника.
Он отвел этого человека к переводчику и сделал то, что было необходимо, чтобы получить сведения, а потом убил его. В любом случае защитники Ханьцзиня могли видеть из-за стен, как готовят коней, как лагерь приходит в движение. Невозможно мобилизовать восемьдесят тысяч всадников и их коней так, чтобы кто-то не догадался.
Он должен был быть там, у северных ворот. Он должен был приказать закрыть их, даже если это означало отрезать своих собственных людей от города. Или он мог попытаться остановить переговорщиков и не позволить им выйти за ворота сегодня утром. У него не было таких полномочий, и это ничего бы не изменило. Он знал, что алтаи все время проделывали бреши в городских стенах. Он понимал, что его солдаты не смогут защищать все эти бреши. Если всадники хотели бы войти в Ханьцзинь, они могли бы войти в любое время – или могли войти сейчас. Наступил такой момент, когда ты уже не можешь помешать тому, что произойдет.
До них доносились звуки, приглушенные ночью и снегом. Крики, отдельные вопли. Оглянувшись назад, он увидел огонь. Он закрыл глаза, потом открыл их. То, что он делал, было необходимо. Он мог погибнуть в бою у северных ворот или мог попытаться сделать что-то такое, что изменит положение. Но он чувствовал боль в душе, как от раны, что не находится там в этот момент. Иногда страстное желание убить вызывает страх.
Рядом с ним Шань спросила:
– Снег – это хорошо? Правда? Есть ли сегодня ночью что-либо хорошее?
Она тоже слышала звуки. Он не смог придумать ответ, который не сказал бы ей слишком много. Он не хотел, чтобы она знала, что он собирается сделать. Он услышал из-за стены крик совы. Это была не сова. Пора.
Туннели были прорыты больше двухсот лет назад. Два туннеля, протянувшиеся на юг и на запад. О них почти никто не знал, они были почти легендой. Именно судья Ван Фуинь, его друг (где его друг сегодня ночью, там, на юге?), отыскал их в архивах, среди записей на хрупких свитках. А потом они сами их нашли.
Дайянь и Цзыцзи исследовали оба туннеля весной, но никому о них не сказали. Ему пришлось побороть свой старый страх, в жизни все время приходится это делать. Им пришлось взломать замки, чтобы открыть двери под старыми зданиями, но они долго были разбойниками и умели это делать. Затем они вошли в эти двери и оказались под тяжестью земли с факелами в руках. Старые балки и столбы, шуршание, страх быть раздавленным, похороненным заживо длиной в целую жизнь.
Колышущаяся темнота, неровный пол. Оба туннеля тянулись далеко за пределы городских стен. Цзыцзи считал шаги. Дайянь помнил эти походы в полусогнутом состоянии, пугающее понимание того, что выходы могут быть завалены, ведь прошло столько времени, мысли о том, что случится, если факелы погаснут.
Они вышли из восточного туннеля после того, как вместе навалились на тяжелую деревянную дверь, сбрасывая с нее землю. И оказались в бамбуковой роще под весенней луной. Они закрыли люк в земле, снова тщательно его прикрыли, вернулись обратно в Ханьцзинь и вошли в городские ворота. Ворота тогда еще были открыты, все входили и выходили, ночью было светло, как днем. По крайней мере, так писали поэты, допуская преувеличение. Женщины и торговцы едой окликали их, кто-то выдыхал огонь, у кого-то плясал ученый гиббон.
Выход из южного туннеля оказался более заметным – он находился так же далеко, его можно было использовать, но он был на открытом месте. Судья догадался, что, когда строили эти туннели, на этом месте рос лес.
Теперь он повел Шань вверх по лестнице, а потом внутрь заброшенного строения рядом с чайной. Когда-то здесь жила певица. Ценная собственность, так близко от больших ворот. Они уже взломали замок входной двери. Внутри было темно; вместо одного факела зажгли три, каждый из мужчин нес по факелу. Они прошли в заднюю часть дома и спустились на один лестничный пролет, осторожно.
– Здесь сломана ступенька, – сказал он, и Шань схватилась рукой за его плечо и перешагнула сразу через две ступеньки. Спустившись вниз, они прошли по коридору, повернули за угол и подошли к двери, которую обнаружили они с Цзыцзи вскоре после того, как впервые приехали в Ханьцзинь, столицу, центр мира.
– Идти далеко, – предупредил он ее и двух других, которые тоже не знали про этот туннель. – Выход на поверхность далеко от стен и от Халцедоновой рощи. Нам придется иногда пригибаться, поэтому берегите головы, но с воздухом здесь все в порядке. Я уже один раз прошел здесь.
– Кто его построил? Когда? Как ты его нашел? – спросила Шань, и он вдруг понял: ему нравится то, что она задает вопросы, хочет знать.
– Я тебе расскажу по дороге, – ответил он. – Мин Дунь, запри на засов дверь изнутри, когда мы войдем. – Дунь был тем человеком, на которого он мог положиться.
Пока они шли, он рассказывал. Иногда мужчинам (или женщинам) необходимо слышать голос идущего впереди человека. «Вести за собой людей можно по-разному, – подумал он, – подвести их возможностей еще больше».
Дайянь вспомнил, как Цзыцзи считал шаги в тот первый раз. Первый раз самый трудный в подобных предприятиях. Теперь он знал, что у тоннеля есть выход. Только не знал, что они найдут, когда поднимутся наверх.
Крик совы немного подбодрил его, но это была ночь хаоса и насилия, конца мира, и глупо было желать уверенности. Он знал, что над ними алтаи и в городе начались пожары.
Он некоторое время поддерживал ее под локоть, потом туннель сузился, и им пришлось идти гуськом. Он шагал быстро, разговаривая на ходу, за ним шла Шань, потом два солдата.
Он бежал от разграбления Ханьцзиня, а ведь именно ему поручили командовать в городе. Он боролся со стыдом, как мог, но ему было трудно. Если бы он был моложе, то мог бы дать клятву отомстить и воздать врагам по заслугам. Он помнил свои клятвы у семейного алтаря в Шэнду, когда был уверен, что его никто не слышит. Реки и горы, клятва вернуть потерянное. Мальчик, говорящий со своими предками, позаботившись о том, чтобы старший брат его не слышал.
Клятва – ничто, поступок – все. И ты можешь потерпеть неудачу. «Люди чаще терпят неудачу, чем наоборот», – подумал он.
Его пригласили во дворец несколько дней назад, чтобы он стал человеком, который убьет Кай Чжэня.
Он отказался. Когда настал момент, он обнаружил, что такой поступок не для него, это не в его характере. Если император Катая решил казнить своего первого министра за плохой совет, данный его отцу (потакая желаниям отца), то это право императора и долг. Есть люди, которым платят за осуществление казни с помощью меча, удавки, другими способами.
Он не оплакивал первого министра. Не в этом дело. «Интересно, кто станет преемником Кай Чжэня», – подумал он, а потом с горечью понял, что это, наверное, неважно.
– Полагаю, – сказал он, – двести лет назад вспоминали о восстаниях. И хотели устроить пути выхода их города.
– Есть и другие такие же туннели? – спросила Шань. Голос ее звучал ровно.
– Мы нашли еще один. Но выход из него теперь на открытом месте.
– А этот?
– Увидишь. Уже не очень далеко. Я обещаю.
– Со мной все в порядке, – сказала она.
Они шли молча.
Он прочистил горло.
– Ци Вай не захотел уйти?
– Он не может. Он охраняет коллекцию. Нашел меч.
– Ему это не удастся. Ты это понимаешь.
– Он тоже понимает. – Она помолчала. – Он сказал, что это его жизнь.
– Понятно, – ответил Дайянь, хотя и не очень понял.
– Иногда мы не хотим пережить некоторые потери, – сказала Шань.
Он это обдумал.
– Наши жизни… – начал он и умолк.
– Продолжай, – сказала Шань.
Их шаги в туннеле, свет факелов на стенах и балках. Наверняка при строительстве этого туннеля погибли люди. Он гадал, слышит ли она шуршание крыс за их голосами. «Вероятно, да», – решил он.
Он вздохнул.
– Наши жизни принадлежат не только нам.
Она помолчала, шагая позади него, потом спросила:
– Дайянь, что ты планируешь сделать сегодня ночью?
Она его поражала. С того первого вечера в ее доме, среди бронзовых сосудов и фарфора, она его поражала.
«Ты знаешь, что я тебя люблю», – хотелось ему сказать, но он слишком заботился о ее репутации, ведь за ними шли два человека. А если бы он это сказал, она бы еще больше убедилась, что он задумал нечто опасное.
Туннель начал подниматься вверх.
– Мы на месте, – сказал он, не отвечая на ее вопрос и зная, что она это поймет.
«Тот, кто построил этот туннель, – думает Шань, – очень хорошо умел планировать». В конце его стоит каменная скамья, на которую можно встать, и даже есть скобы в укрепленных каменных стенах для факелов, чтобы несущие их люди могли вставить их туда и навалиться руками и плечами на люк, открывающийся в мир над ними.
Ей нравится видеть доказательства предусмотрительности. Это внушает уверенность. Это указывает, что не все, что делают мужчины и женщины, обязательно будет небрежным, неопределенным, плохо продуманным. Возможно, сегодня ночью, этой зимой, в канун этого нового года, ей необходимо найти или увидеть доказательства порядка и разума.
Она ощущает тревогу и страх. Дайянь намеревается предпринять еще что-то, кроме побега, но она не знает, не может знать, что именно. Она как будто спала, выключилась из жизни после смерти отца. Как будто закрыла глаза и отрицала происходящее, как делают маленькие дети. Она помнит, что сама так делала в детстве. Если ты не видишь человека – или какого-то призрака, шаркающего ногами в темноте, – то он тебя не найдет.
Дайянь два раза стучит в люк над головой, стоя на скамье. Он толкает его вверх двумя руками, сильно, но люк поддается легче, чем он ожидал. Она слышит его проклятие, и одновременно ее сердце сжимает дурное предчувствие.
Потом раздается голос:
– Я знаю, что ты не слишком силен. И подумал, что мы можем помочь.
– Если ты привел для меня коня, как обещал, я для начала затопчу тебя его копытами, – отвечает Дайянь. – Помоги нам выбраться.
«Коня для меня».
Шань ничего не говорит. Он помогает ей встать на скамью. Кто-то протягивает вниз руки и вытаскивает ее наверх из туннеля, и когда ее ставят на землю, она видит рощу.
Бамбуковую рощу. Хорошо рассмотреть деревья трудно, они не зажгли факелов. Луны, разумеется, нет, сейчас канун нового года. Все равно небо в тучах. Идет снег. Неожиданно тихо, они действительно далеко от городских стен. Они выбрались из города, который сейчас атакуют.
Дайянь пытался спасти Ци Вая тоже. Вай отказался. Они поклонились друг другу, и она ушла. Она и сейчас, в это мгновение, видит его, стоя в ночной роще, под засыпанными снегом ветками: как ее муж стоит возле из хранилища, неуклюже сжимая в руке старый меч, и смотрит на огонь. Ждет варваров.
– Моя госпожа, – произносит голос, который ей кажется знакомым. Ей кто-то кланяется.
– Прошу прощения, – отвечает она. – Я не вижу, кто вы.
– Командир Цзао, моя госпожа. Мы встречались в вашем доме, и я сопровождал вашего мужа из Шуцюяня летом.
– Да, – говорит она. А потом прибавляет: – Вы выпустили в меня стрелу. Вы собираетесь сделать это снова?
Он кашляет. Кто-то тихо смеется – это Дайянь, он подошел сзади.
– Тебе придется быть осторожным, мой друг. У нее острые коготки, когда ей нужно пустить их в ход.
– Тогда я сделаю все от меня зависящее, чтобы подружиться с ней, – отвечает человек по имени Цзао Цзыцзи. – Между прочим, здесь нет тигров. Тебе нечего бояться.
Она думает, что он обращается к ней, но это не так. Дайянь опять смеется.
– Напомни мне, почему мне тебя так не хватало?
– Потому что все идет не так, когда меня нет с тобой.
«Это должно было прозвучать, как шутка», – понимает Шань, но Дайянь на этот раз не смеется.
– Это почти правда, – вот и все, что он отвечает. – Скажи мне, что у нас здесь.
– Здесь двадцать человек. Слишком близко, чтобы взять больше. Три тысячи кавалеристов на западе, примерно в тридцати ли, спрятаны, алтаи не выслали патрульных. Я оставил приказ, чтобы они ждали в укрытии и убивали любого всадника, который их обнаружит.
– Что происходит у стен?
– Они врывались через северные ворота. Потом некоторые добрались до этой стороны изнутри и до южной стороны. Все ворота открыты. Они в городе. Сам можешь увидеть, – его голос звучит тихо.
– Увидеть город?
Дайянь проходит мимо друга и еще одного мужчины – Шань видит теперь их очертания. Он выходит на опушку рощи. Она идет за ним. Стоит рядом с ним и смотрит на пылающий Ханьцзинь. Сияние на фоне неба. Огонь и снег.
«Огонь и снег», – думает она. И отчасти ненавидит себя в тот момент, потому что эта фраза уже закрепилась в ее голове, и она даже знает, мотив какой старой песни она может обработать, чтобы написать нечто новое о бедствии этой ночи.
Что она за человек, если ее мысли могут устремиться в этом направлении среди ужаса и бегства, и гибели людей? Снег продолжает падать. Она говорит:
– Дух моего отца будет счастлив, что не дожил и не увидел этого.
Дайянь ничего не говорит. Он поворачивается к Цзао Цзыцзи.
– Три коня? Хороших коня?
– Да, – отвечает тот. – Могу я надеяться убедить тебя, что это безумие?
– Нет, – отвечает Дайянь.
Он поворачивается к Шань. Не прикасается к ней.
– Я вернусь, если боги позволят. Если нет, то ты должна доверять Цзыцзи и Мин Дуню, который был вместе с нами в туннеле. Они отвезут тебя на юг от реки Вай или на противоположный берег Великой реки, если до этого дойдет.
– Что ты собираешься делать? – спрашивает она, и ей удается произнести это спокойно. Руки ее дрожат. «Здесь холодно», – говорит она себе. На ней ее дурацкая двойная шляпа.
Он ей отвечает. Он ей все-таки рассказывает. Потом он уходит, так и не прикоснувшись к ней, выезжает из укрытия в роще вместе с еще одним мужчиной, в ночь, в снегопад.
Глава 24
В степях некоторые вещи оставались простыми в течение сотен лет у всех племен.
Один из тех, кто пережил то ужасное, неожиданное поражение к северу от Еньлина (он уцелел потому, что бежал, иначе не выжил бы), Пу’ла из племени алтаев понимал, почему он и другие всадники из той пережившей унижение армии сегодня ночью стоят на карауле в лагере, а не участвуют в окончательном разграблении города.
Его командир был порядочным человеком и знал отца Пу’лы. Отец Пу’лы был важным человеком, близким к военачальнику и кагану – или императору, как им теперь велели его называть.
Их командир обещал позднее, той же ночью, прислать катайских женщин для оставшихся в лагере караульных. Он проявил заботу и предусмотрительность. Нельзя сердить всадников, а Пу’ла и трое других караульных, стоящих на посту вместе с ним, были алтаями по крови, а не членами покоренных ими племен, набранных для участия в этом нападении. В степях принадлежность к определенному племени имела решающее значение. Твое племя – это твой дом.
И все равно, даже предвкушая развлечение позже и попивая кумыс сейчас, трудно стоять у юрты и смотреть, как твой народ расправляется с высокомерными катаями и их городом, совсем близко от лагеря. Видеть – и не принимать в этом участия.
Говорят, в Ханьцзине удивительно много домов с певичками. Наверняка там найдутся женщины, которых можно доставить сюда. Пу’ла был молод. Ему хотелось получить женщину прямо сейчас, даже больше, чем золото.
Он смотрел на пожары. Еще один начался на западе, рядом с городской стеной на той стороне. Он насчитал дюжину пожаров приличного размера. Ханьцзинь превратится в погребальный костер. Катайцы заново отстроят его для новых хозяев. Пу’ле рассказывали, что так всегда бывает.
Это было славное начало нового года, возмездие за годы унизительной покорности многих поколений. Даже после того, как катайские правители начали посылать на север дань, они называли ее подарком. Настаивали на том, чтобы император сяолюй называл себя сыном, в лучшем случае – племянником императора Катая.
Ну, все знали, что случилось с императором сяолюй. Бай’цзи, брат военачальника (герой Пу’лы), пьет кумыс из его черепа.
И император Катая ничем не будет повелевать после этой ночи. Пу’ла знал, что его и всех его сыновей и дочерей собираются увезти на север. Бай’цзи поклялся возлечь с императрицей Катая и заставить ее мужа смотреть. «Вот это мужчина», – думал Пу’ла. Он сделал несколько глотков из своей фляги.
Он не ждал, что им сегодня ночью привезут надушенных принцесс, он же не глупец. Но ведь можно рисовать себе картинки в темноте, правда? Гладкая кожа, аромат.
Он бы никогда никому не признался, но он готов был уехать домой после той битвы к западу отсюда, когда часть армии Катая оказалась все же не такой уж беспомощной. Он был уверен, что погибнет. Но то была всего лишь одна армия, все остальные сломались под натиском всадников, побежали почти так же… ну, почти так же, как бежал Пу’ла, только незачем портить такими воспоминаниями эту ночь.
Ему не нравилось, что его оставили здесь, но уже давно установился порядок, при котором часовые в лагере участвуют в разделе добычи наравне со всеми. Кому-то ведь надо сторожить коней, и сокровища, и пленных.
И так далеко от места событий он не встретит противника с одним из этих двуручных мечей, как это могло бы случиться на одной из городских улиц, освещенных пожарами. В Ханьцзине еще остались солдаты. «Лучше оставаться здесь, на открытом пространстве, – думал Пу’ла, – на открытом месте всегда лучше». В конце концов, он выполняет важную задачу среди юрт.
Он умер с этой последней мыслью, не с мыслью о страхе перед мечом. Та мысль промелькнула у него на секунду раньше, когда человек, оборвавший его короткую жизнь (Пу’ле, из племени алтаев, было семнадцать лет, он был единственным сыном своего отца), еще целился из лука.
Такой же смертью – стоя в карауле ночью, от стрелы – умер еще один юный всадник, за два лета до этого. О-Янь из племени цзэни, четырнадцати лет, был убит стрелой, выпущенной умелым и опасным отцом Пу’лы, в ту ночь, когда алтаи напали на лагерь цзэни, начиная утверждать себя в мире.
В этом можно увидеть урок, некое значение – или не увидеть. Вероятнее всего, нет, потому что кто бы узнал об этом и чему бы этот урок научил?
Кан Цзюньвэню суждено было прожить необычайно долгую жизнь, большая ее часть прошла южнее Великой реки и в основном в добром здравии.
В более поздние годы он стал последователем Священного пути, преисполненный благодарности за дар долгой жизни. Он действительно считал свое существование даром, не заслуженным трудом и добродетелями, хотя в молодости много раз совершал мужественные поступки и всегда хранил честь своих предков. Он рассказывал много историй, но чаще всего одну, потому что в ней говорилось о Жэнь Дайяне, историю о ночи падения Ханцзиня и о том, что они вдвоем совершили под падающим снегом и облаками, скрывавшими звезды.
Выйдя из туннеля, который вывел их из горящего города, они с командиром – только они вдвоем, взяв с собой третьего коня, – выехали из рощи, где их ждали солдаты.
Перед тем как ехать, командир Жэнь снял тунику и верхнюю накидку, оставив только меховую безрукавку. И распустил волосы, как это делали варвары. Цзюньвэнь сделал то же самое с одеждой и волосами. Он бросил взгляд – не смог удержаться – на спину командира, чтобы увидеть слова, которые, как говорят, вытатуированы у него на спине, но было темно, и все равно безрукавка их скрывала.
Он не знал, что они собираются сделать или попытаться сделать. Он не разрешил себя ощущать холод. Когда человек молод, он может заставить себя принять такое решение.
Ему не хотелось умирать, но он был готов к тому, что соединится с духами отца и старших братьев еще до восхода солнца. Он не собирался позволить захватить себя в плен и сделать рабом.
Он был катайцем из одной из потерянных префектур, всю жизнь прожил под властью варваров. Он и его семья были фермерами, платили огромные налоги сяолюй, которые ими правили и считали их чем-то средним между слугами и рабами.
Затем, однажды летней ночью, много лет назад, его отца и двух старших братьев поймали и казнили – чтобы преподать урок остальным – за контрабанду чая и соли. Цзюньвэня, еще не ставшего мужчиной, заставили смотреть, вместе со всеми жителями деревни. Его мать упала на землю рядом с ним, когда умерли ее муж и дети. Сяолюй не стали ее избивать, они только смеялись. Один из них плюнул на нее, уезжая.
Жизни могут втекать в одно мгновение и вытекать из него.
Его мать умерла в том же году. Цзюньвэнь, его сестра и ее муж едва справлялись с делами на ферме. Потом повысили налоги.
Он сбежал на юг во время смуты, последовавшей за восстанием алтаев на востоке. Вступил в армию Катая к северу от Ханьцзиня. К тому времени он уже стал достаточно взрослым, ему дали меч и сапоги, но ничему не обучили. Небольшого роста, но жилистый парень с оккупированных земель. Говорил с акцентом. Люди его недооценивали.
Цзюньвэнь был одним из тех, кого армия отправила атаковать Южную столицу сяолюй, – и также одним их тех, кто потерпел там сокрушительное поражение. Он отступал вместе со всеми, охваченный яростью, а потом оказался в армии, отправленной на север, чтобы сдержать нашествие огромного войска алтаев.
Он опять бежал, вместе с уцелевшими в той катастрофе. Большинство солдат разбежалось кто куда, постарались убраться как можно дальше. Цзюньвэнь отправился прямиком в Ханьцзинь. Он чувствовал себя опозоренным. Он не был трусом и ненавидел степных всадников – потому что был катайцем и из-за своей семьи. Мальчика заставили смотреть на убийство отца и братьев, и он слышал смех всадников.
Во время осады города он выделил того единственного командира, который напоминал лидера старой школы, похожего на командиров тех славных дней, когда Катай завоевал степи, вынудил их покориться и платить дань. Ему удалось поступить в отряд Жэнь Дайяня, а потом поговорить с самим командиром, заставить его понять, что Кан Цзюньвэнь, сын Кан Сяо-по, готов сделать все необходимое (или хотя бы возможное) в борьбе против варваров.
Он объяснил, что говорит на языке степей, потому что вырос в одной из префектур, находящихся под властью степняков. С акцентом сяолюй, с их быстрыми, смазанными гласными. Он понимает все, что ему говорят, и его поймут.
Вот как получилось, что он оказался в длинном туннеле в канун нового года, покидая столицу, когда алтаи ворвались в городские ворота. А потом – сейчас – он ехал к вражескому лагерю, в зимнюю ночь, в одной безрукавке, с распущенными волосами.
Справа от них пылала столица. Они слышали топот копыт алтайских коней и хриплые, дикие вопли торжествующих всадников, когда они обогнули стены и ворвались в западные и южные ворота.
«Несомненно, – подумал Кан Цзюньвэнь, – это бедствие никогда не забудут». Черный момент в истории мира.
Командир Жэнь хранил молчание, пока они ехали. Они пустили коней рысью, не галопом – земля была неровной, явно опасной. Они подъехали к кучке дубов, их было слишком мало, чтобы называться рощей. Командир знаком приказал спешиться. Они привязали коней и оставили их там. Теперь они шли пешком, осторожно, вглядываясь сквозь снег и темноту, прислушиваясь.
Именно Цзюньвэнь увидел огни костров. Он коснулся командира и указал туда рукой. Жэнь Дайянь кивнул головой. Приложил губы к самому уху Цзюньвэня.
– Там будут часовые. Тебе придется меня нести. Я ранен, мой конь убит, я упал, ты несешь меня обратно. Сможешь меня нести?
Цзюньвэнь кивнул. Он смог бы сделать все, о чем попросит его этот человек.
– Можешь заставить их поверить, что мы – степные всадники?
– Да, – шепотом ответил Цзюньвэнь. – Я не боюсь.
Командир Жэнь Дайянь сжал плечо Цзюньвэня. И сказал едва слышным шепотом:
– Ты хороший воин. Проведи нас через внешние посты и иди дальше, пока они уже не смогут тебя видеть. Мы это сделаем, вдвоем с тобой.
«Вдвоем с тобой». Кан Цзюньвэнь не понимал, о чем он говорит, но это не имело значения. Его назвал хорошим воином командир, он прославит имя своей погибшей семьи. Сердце его было полно радости и гордости. Они вытеснили страх. Он перебросил Жэнь Дайяня через плечо, словно нес мешок зерна нового урожая у себя на ферме. Постарался быть осторожным с луком и мечом командира и со своим собственным мечом (он не стрелял из лука).
Сначала он слегка зашатался, но потом шагал более уверенно.
Пройдя примерно пятьдесят шагов, приближаясь к лагерным кострам, он принял решение. Он не стал ждать, когда его окликнут часовые. Он крикнул на языке степей, со своим сяолюйским акцентом:
– Вы там? Посветите нам! Человек ранен.
– Здесь нет огня, дурак! – ответил голос грубо, но в нем не было подозрения. Зачем и каким образом мог кто-то из этих беспомощных, побежденных катайцев оказаться здесь? Караульный был из сяолюй, судя по голосу, и речь Цзюньвэня не вызвала подозрений.
– Где шаманы? Их юрты? – задыхающимся голосом спросил Цзюньвэнь, словно из последних сил. Он увидел впереди фигуры караульных с короткими степными луками в руках. Подошел ближе.
– Вон там, прямо. У них знамя с лебедем. Ты его увидишь. Как там дела? – в голосе звучала зависть, он был не вполне трезвым, этот человек, пропустивший кровавую радость завоевания.
– Да мы туда и не добрались, – резко бросил Цзюньвэнь. – Мне приказали отнести его назад. Со мной-то все в порядке, но оба наших коня пали.
– Ублюдки по-прежнему пускают в ход эти мечи? – спросил второй караульный. Этот был из алтаев.
– Я не видел. Но местность плохая.
– Тогда неси его в лагерь. Знамя с лебедем. Не повезло ему.
– Это мне не повезло, – ответил Кан Цзюньвэнь и пронес своего командира и воспоминание о своем отце во вражеский лагерь, испуганный и дерзкий, полный горя и гордости.
Его жизнь началась, когда он в первый раз это сделал, так думал Дайянь. Он обошел юрту пленника сзади, держась подальше от костра, и убил последнего караульного стрелой в горло (надо стрелять в горло, чтобы человек не издал предсмертного крика).
Он думал о дороге к деревне семьи Гуань. Ему было пятнадцать лет. Он вспомнил в зимнюю ночь в лагере варваров, что он тогда чувствовал, шагая в лес, оставив все позади. Казалось, что он находится вне собственного тела и смотрит на себя, идущего туда.
Опасно так отвлекаться, жить одновременно в этот момент и в прошлом. Зима в Ханьцзине и весна в Сэчэне. «Мозг, – думал он, бесшумно возвращаясь туда, где его ждал Цзюньвэнь, – иногда работает странно». Запах или образ может вернуть тебя на много лет назад.
По заснеженной земле дорогу им стремительно перебежала лиса.
Он был уверен, что это лиса, даже в темноте, при свете одного сторожевого костра, горящего перед юртой. Сердце его стремительно забилось. Он ничего не мог с этим поделать. Лиса не прервала свой бег, она только… позволила себя увидеть. Он почувствовал, что вытатуированные на спине слова жгут его, как огонь.
Он заставил себя не обращать внимания. Ни на что. На прошлое. На послание, если это было послание. Мир духов всегда рядом. Иногда ты его видишь, осознаешь его присутствие, но он всегда тут.
Он тронул спутника за руку. Цзюньвэнь не подскочил и не вздрогнул. Только обернулся, готовый ко всему. Хороший воин, Дайянь и раньше это знал. Он ему сказал об этом. Этот человек действительно ненавидел степных всадников. Дайянь не знал, почему, и не спрашивал, но это не имело значения. Вероятно, что-то связанное с семьей. Ненависть бывает полезной. Она может стать стимулом.
Дайянь свернул в сторону, Цзюньвэнь за ним. Снег все еще шел, ложился тонким слоем на землю. Вокруг них раздавались какие-то звуки, но их было немного и не слишком близко. Немного всадников осталось в лагере. Караульные по периметру, возле этой юрты в глубине лагеря должны быть другие – там хранят собранные сокровища.
Кто бы захотел, чтобы его здесь оставили? Сегодняшняя ночь была жестокой, кровавой кульминацией. Они пробыли здесь долго, привязанные к одному месту.
В городе будет много жестокости. Люди будут умирать некрасивой смертью, будут происходить и другие вещи. «Ненависть может стать сильным стимулом», – опять подумал Дайянь. И все же необходимо действовать очень точно. У него есть причина здесь находиться. Катаю нужно жить дальше после этой ночи.
Позади юрты было очень темно. Мертвый человек лежал на снегу. Наученный годами жизни на болотах, Дайянь выдернул стрелу из горла всадника. Никогда не оставляй стрелы, если этого можно избежать. Он увидел, как Цзюньвэнь оттащил тело от костра перед юртой подальше в темноту. Хорошая мысль. Он выдернул стрелу из этого трупа тоже. И подошел к юрте.
Вполне возможно, что в юрте находится еще один охранник. Дайянь вытащил меч и сильным ударом распорол плотную ткань, держа меч двумя руками. После чего протиснулся внутрь через прореху, готовый убить снова.
Одна низкая жаровня, очень мало света. Достаточно после темноты снаружи. Здесь только один человек. Он быстро встал с лежанки на земле. Его лицо было изумленным, но – что хорошо – не испуганным. В юрте не горел костер, было холодно. Две маленьких миски рядом в тусклом свете жаровни, грубая лежанка, ведро для ночных отходов. Больше ничего. Это было неправильно, это было совершенно неправильно.
Дайянь упал на колени. Он тяжело дышал. Избыток эмоций. Он опустил голову. Цзюньвэнь вошел внутрь через прореху с мечом в руке. Солдат на мгновение застыл – он не знал, что им здесь предстоит сделать, – потом и он тоже опустился на колени, выпустил из руки меч и прижал лоб и ладони к земле.
– Господин принц, – произнес Жэнь Дайянь. – Мы пришли за вами. Простите меня, но мы должны уйти быстро, и это будет трудно.
– Мне нечего прощать, – ответил катайский принц Чжицзэн, единственный сын отца-императора – единственный прямой наследник Трона Дракона – не попавший в ловушку в Ханьцзине.
Его волосы были уже распущены, он собирался ложиться спать. Он вытерпел, когда они помогли ему снять тунику, чтобы сделать похожим на них, на степного всадника в ночи. Поколебавшись, он сам натянул сапоги. Но мгновение Дайяню захотелось ему помочь, но он сдержался. Он дал принцу кинжал. У него был всего один меч.
Потом он достал свиток, который принес сюда, и положил его на лежанку, где его должны потом найти.
– Что это? – спросил принц.
– Я хочу, чтобы они это прочли, – вот и все, что он ответил.
Он посмотрел в глубину юрты. Цзюньвэнь вышел этим путем, теперь он появился снова, неся тело одного из охранников. Он бросил его внутри, опять вышел. Сделал то же самой с тремя другими трупами, двигаясь быстро и бесшумно. Еще одна удачная мысль. Чем дольше не будут знать об их смерти…
Когда Цзюньвэнь закончил, он выпрямился в ожидании. Принц подошел и пнул ближайшего к нему стражника по голове ногой в сапоге. «Он имеет на это право», – подумал Дайянь.
Они вышли через прореху сзади. Никто не пошевелился, не поднял тревогу в огромном, темном лагере. Горело несколько костров, на большом расстоянии друг от друга. Издалека доносились пьяные голоса, песня. Мягкий снег падал из тяжелых туч. Сквозь эту снежную завесу звуки из Ханьцзиня доносились словно издалека, словно город находился дальше, чем в действительности, или уже в прошлом, словно уже стал историей, что делало ее не менее ужасной.
Мастер Чо в своей роще учил, что долг перед государством и перед семьей – превыше всего. Учение Священного пути было несколько иным. Оно делало упор на равновесии всех вещей и в том числе – слов человека и того, о чем он рассказывает.
Поэтому Кан Цзюньвэнь, даже в свои более поздние годы, когда человеку обычно прощают и даже ждут, что он будет растягивать шелк историй своей юности, никогда этого не делал, рассказывая о той ночи в лагере алтаев и о последующих событиях.
По-видимому, его рассказ находил больший отклик у слушателей, потому что он говорил спокойно, не драматизировал. Он выращивал рис на юге и был солдатом, а не базарным лицедеем, и он рассказывал правдивую историю из мрачных времен. Он обычно просто описывал, коротко, как командир Жэнь Дайянь выпустил четыре стрелы в четыре глотки из темноты у юрты принца, как ни один из караульных не издал ни звука и ни один из них не слышал, как умер другой.
Потом ему пришла в голову мысль, что есть и другие возможные способы рассказывать историю. Он мог бы больше говорить о себе, но никогда этого не делал. Он понимал, что именно хотят услышать его слушатели, и его собственная слава, честь, гордость рождались, как отражение славы, чести и гордости Жэнь Дайяня, потому что он там был. Его собственное лицо, молодое в ту ночь, виделось ему отражением в освещенном луной пруду. Он действительно так об этом думал, глупо это или нет.
Он также понимал, что память может тебя подвести или воспоминания могут исчезнуть. Например, он живо помнил тот день, когда женился, но смазались все воспоминания о том времени, когда умерла его жена, а это было гораздо позже.
Они покинули юрту, в которой держали принца. Командир повел их к самому дальнему краю лагеря, далеко от того места, где стояли те караульные, которые их пропустили. Жэнь Дайянь шепотом сказал что-то на ухо каждому из спутников. Цзюньвэнь всегда предполагал, что он сказал им одно и то же, но этого он знать не мог и это затрудняло его рассказ, или давало возможность его изменить.
Он услышал сказанные на ухо слова:
– Иди, будто ты здесь свой и куда-то направляешься.
Они двигались быстро, но не бегом. Видели людей у костров, которые пили из фляги, передавая ее из рук в руки. Цзюньвэнь не понимал, что они здесь делают, не в карауле и по виду не раненые. Эта группа не обратила внимания на трех человек, идущих мимо в ночи, если они вообще их видели.
Недалеко от южной границы лагеря, недалеко от того места, где должны были стоять караульные, Дайянь заставил их остановиться рядом с пустой юртой, перед которой не горел костер. Он снова тихо сказал что-то каждому из них. С юга, из города, доносились резкие звуки; они становились то тише, то громче, но не смолкали. Кан Цзюньвэнь никогда не забывал эти звуки. Он запомнил, что тогда ему хотелось кого-нибудь убить.
Это сделал командир.
В этом конце лагеря (видел ли это Дайянь, или ожидал этого?)часовые стояли далеко друг от друга, а не в тесной близости, как там, где они вошли в лагерь. Он снова пустил в ход лук.
Он стрелял в каждого почти в упор. Когда первый часовой упал, Цзюньвэнь быстро шагнул вперед и встал на то место, где только что стоял убитый, так что следующий часовой справа от них, если бы он посмотрел в эту сторону, увидел фигуру, по-прежнему стоящую на часах. Через несколько секунд следующий часовой, едва заметный в темноте, тоже умер. Принц Цзичжэн занял его место.
Жэнь Дайянь исчез, ускользнул дальше на запад, туда, где должен был находиться следующий в шеренге. Цзюньвэнь не сомневался в его судьбе. Он стоял на месте, лицом на юг, за пределы лагеря, словно бдительно нес караул.
И именно в этот момент, стоя там, он услышал, как кто-то подошел сзади, и голос алтая произнес:
– Моя очередь, будь все проклято. Твоя очередь идти к костру пить кумыс.
Кан Цзюньвэнь плавно повернулся, словно для того, чтобы приветствовать его, выхватил меч и глубоко вонзил его – в человека, который уже падал, убитый стрелой.
– Молодец, – пробормотал командир, подходя к нему с луком в руке и приседая, чтобы его не заметили.
Цзюньвэнь сказал:
– Сейчас придут еще двое.
– Уже пришли, – ответил Жэнь Дайянь. – Все в порядке. Мы можем идти.
– Можно поставить этого на место.