Перекличка Камен. Филологические этюды Ранчин Андрей
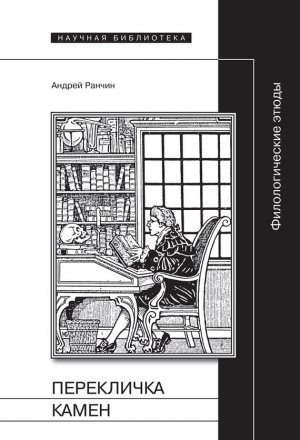
– Сыскан тебе братан, сучара. [“Сыскан” = сотрудник уголовного розыска, шире – милиционер; “сучара” (презр.) = вор, поддерживающий контакты с милицией.]
Здесь важно было не сфальшивить, не ошибиться в словоупотреблении, поэтому Николас ничего больше говорить не стал – просто протянул к носу злодея раскрытую ладонь (другую руку по-прежнему держал у него на плече).
– Ну?
– Щас, щас, – засуетился проводник и полез куда-то под матрас. – Все целое, в лучшем виде…
Отдал, отдал все, похищенное из кейса: и документы, и портмоне, и ноутбук и, самое главное, бесценный конверт. Заодно вернул и содержимое бумажника мистера Калинкинса.
Ведьмовской лес дрогнул перед решимостью паладина и расступился, пропуская его дальше.
Можно было объяснить свершившееся и иначе, не мистическим, а научным образом. Профессор коллоквиальной лингвистики Розенбаум всегда говорил студентам, что точное знание идиоматики и прецизионное соблюдение нюансов речевого этикета применительно к окказионально-бытовой и сословно-поведенческой специфике конкретного социума способно творить чудеса. Поистине лингвистика – королева гуманитарных дисциплин, а русский язык не имеет себе равных по лексическому богатству и многоцветию. “Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! – думал Николас, возвращаясь в купе. – Нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу”» (с. 48–49, курсивом даны авторские пояснения, они же выписки из николасовского словарика русского арго).
В ироническом модусе повествования успехом Фандорина комически подтверждается ценность лингвистических изысканий. (Дополнительный комический игровой эффект основан на тождестве фамилии английского профессора-языковеда и фамилии российского певца Александра Розенбаума – известнейшего исполнителя блатных песен.) А итоговая мысль Николаса, поданная как его собственный вывод, – не что иное, как цитата из хрестоматийно известного стихотворения в прозе «Русский язык» И.С. Тургенева, имевшего в виду отнюдь не воровское наречие.
А в конце романа тот же криминальный сленг в устах профессионального наемного убийцы звучит уже как нормальная, нейтральная речь: «– Что, гнида, узнал сердечного друга? Узнал. И навалил в портки. Правильное решение. – Шурик убрал руку, брезгливо вытер о рубашку. – Захотел Седого кинуть? Зря, Макс, зря. Сам навел, сам семафорил, немалые бабульки схавал, а после придумал для себя скрысятничать? Обиделся на тебя Седой, жутко обиделся» (с. 352).
В известном смысле оба путешествия – и Корнелиуса фон Дорна, и его потомка – могут быть описаны посредством такой категории, как «трансфер». Я вынужден оговориться, что использую при анализе акунинского романа термин «трансфер» (насколько это делаю) скорее метафорически, чем строго терминологически. Тем не менее это не чистая условность. Во-первых, роман построен на соотнесенности двух временных планов: XVII века, царствования Алексея Михайловича, – к этому времени относится история приехавшего в Россию Корнелиуса фон Дорна, и настоящего, в котором разворачиваются приключения его потомка Николаса Фандорина. Два плана (две истории) обнаруживают очень высокую (превосходящую меру случайности и правдоподобия) меру изоморфности, так что можно говорить или о трансфере прошлого в настоящее, или, наоборот, о перемещении современности в XVII столетие.
Причем для сходных событий выбирается одна и та же лексика – о грабителях и прежде, и ныне говорят «пошаливают»; слово дается в латинской транслитерации – с точки зрения языкового сознания героев. Случайный попутчик Николаса латвийский коммерсант Айвар Калинкинс предостерегает: «– После паспортного контроля и таможни мы с вами запрем дверь на замок и цепочку, потому что… пошаливают. – Мистер Калинкинс произнес это слово по-русски (получилось: because they there… poshalivayut), пощелкал пальцами и перевел этот специфический глагол как “hold up”. – Настоящие бандиты. Врываются в купе и отбирают деньги» (с. 20–21).
Чуть дальше это же словечко употребляет в разговоре с ограбленным Николасом проводник поезда Рига – Москва: «– Это запросто, – сказал он, глядя на пассажиров безо всякого интереса. – Пошаливают. (Снова это непереводимое ни на один известный Николасу язык слово!) Железная дорога за утыренное ответственности не несет. А то с вами, лохами, по миру пойдешь» (с. 45).
В первом из вышеприведенных примеров дополнительный (комический) игровой эффект создается фамилией латыша-русофоба: она либо созвучна со словом «калинка», либо от него производна (калинк-ин-с). Если такое предположение справедливо, то собеседник Николаса оказывается русским по происхождению, к фамилии которого, по правилам образования латышских фамилий, прибавлен необходимый грамматический элемент «-с». Так или иначе, «Калинкинс» аукается с «калинкой» – затертым «брендом» «русскости» («калинка-малинка» из хрестоматийной народной песни).
Происходит и трансфер реалии из настоящего в прошлое: Корнелиус фон Дорн узнает, как зовут в России завсегдатаев кабаков, – пьецухи. (Пьяниц на самом деле называли «питухи».) Слово дается сначала в латинской транслитерации, а затем уже по-русски, явно отсылая к фамилии современного русского прозаика Вячеслава Пьецуха; фрагмент испещрен примерами межъязыковой игры – транслитерацией латиницей специфических для Корнелиуса русизмов и включением в прямую речь персонажа родной для него немецкой лексики: «Перед тем как подняться на крыльцо кабака (по-туземному kruzchalo) Корнелиус взял из поленницы суковатое полено.
Пропойцы (по-русски pjetsukhi) оглянулись на голого человека с интересом, но без большого удивления – надо думать, видали тут и не такое. Двух прислужников, что кинулись вытолкнуть вошедшего, фон Дорн одарил: одного с размаху поленом по башке, другому въехал лбом в нос. Потом еще немного попинал их, лежащих, ногами – для острастки прочим, а еще для справедливости. Не иначе как эти самые подлые мужики его, одурманенного да ограбленного, отсюда и выволакивали.
Кабатчик (по-русски tszelowalnik) ждал за прилавком с допотопной пистолью в руке. От выстрела капитан увернулся легко – присел. После ухватил каналью за бороду и давай колотить жирной мордой об стойку. И в блюдо с грибами, и в черную размазню (это, как объяснили купцы, и была знаменитая осетровая икра), и в кислую капусту, и просто так – о деревяшку. Удары были хрусткие, сочные – Корнелиус отсчитывал их вслух, по-немецки. Пьецухи наблюдали с уважением, помочь целовальнику никто не захотел.
Сивобородый сначала терпел. На zwei und zwanzig стал подвывать. На dreissig заплевался кровью прямо в капусту. На drei und vierzig перешел на хрип и попросил пощады» (с. 63).
Такую межъязыковую/междискурсную игру можно рассматривать как частный случай интертекстуальности – принципа, присущего постмодернизму par excellence. (Собственно литературными аллюзиями «Алтын-толобас» по сравнению с более ранними произведениями Акунина как раз небогат[1070].) Напомню ставший хрестоматийным пассаж Юлии Кристевой: «<…> Горизонтальная ось (субъект – получатель) и вертикальная ось (текст – контекст) в конце концов совпадают, обнаруживают главное: всякое слово (текст) есть такое пересечение двух слов (текстов), где можно прочесть по меньшей мере еще одно слово (текст). <…> Тем самым на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности, и оказывается, что поэтический язык поддается как минимум двойному прочтению»[1071].
По определению М.Н. Липовецкого, постмодернизм исходит из представления, согласно которому «сама реальность – это всего лишь комбинация различных языков и языковых игр, пестрое сплетение интертекстов. В итоге поиск эквивалентов реальности отступает на задний план, зато вперед выдвигается обыгрывание языковых условностей»[1072].
Поэтика «Алтына-толобаса» вполне соответствует (правда, в упрощенном, «массовом» варианте) «особой структуре постмодернистского образа, проявляющейся на всех уровнях текста: от словесного тропа до мирообраза». По характеристике М.Н. Липовецкого, «[э]то структура, в которой на первый план выходит сам процесс постоянной перекодировки, “переключения” с одного культурного языка на другой, от “низкого” к “высокому”, от архаического к новомодному, и наоборот…»[1073].
Оба путешествия в Россию – Корнелиуса и Николаса – и сами по себе обладают признаками трансфера, как их обозначил в своем докладе на конференции «Трансфер» (Хорватия, Ловран, апрель – май 2010 г.) Йосип Ужаревич. Это именно перемещение из пункта 1 («цивилизованная» Европа) в пункт 2 («дикая» Россия), причем значимо не само путешествие в целом (оно практически не описывается), а лишь пересечение русской границы. То есть пространство между двумя пунктами предстает «пустым». Правда, на первый взгляд оба героя являются субъектами, а не объектами действия, как должно быть при трансфере: и Корнелиус, и Николас сознательно принимают решение и исполняют задуманное. Однако в случае Корнелиуса это вынужденный акт (от безденежья), а исполнение намерения Николаса обусловлено особым стечением обстоятельств: это гибель в кораблекрушении отца и матери – отец был категорически против поездки сына в Россию, вследствие чего Николас становится обладателем значительного состояния, что и позволяет осуществить задуманную поездку; получение старинного русского документа, а также информации о его второй половине, хранящейся в московском архиве, – во всем этом нельзя не увидеть перст Судьбы. Собственно, и сама удивительная похожесть двух историй свидетельствует, пусть и косвенным образом, о том же самом.
Приложение
Жестокий роман: любовь и месть Мишеля Лермонтова
Начало этой истории относится к ранней весне 1830 года; место действия – Москва. Главная героиня – восемнадцатилетняя девушка Екатерина (Катишь) Сушкова.
Образ и распорядок жизни молодой дворянки известны. Театр, балы, званые вечера, прогулки в экипаже по Новинскому бульвару. Все эти увеселения Катишь делила с подругой – Сашенькой Верещагиной. В Сашенькином доме она почти каждый день встречала ее двоюродного брата – кривоногого полуюношу-полумальчика лет шестнадцати – низкорослого, неуклюжего, со вздернутым носом и почти не покидавшей лица язвительной улыбкой сильно сжатых тонких губ. Юнец учился в Университетском пансионе при императорском Московском университете; все его звали на французский манер Мишелем, фамилия же его Катю Сушкову нимало не интересовала, как и он сам. Она шутливо именовала Мишеля своим чиновником по особым поручениям. Поручения были несложные: сопровождать барышню на гулянье и принимать у нее шляпку, зонтик или перчатки. Впрочем, исполнительностью мальчик не отличался и часто терял перчатки своей дамы. Катишь гневно сводила брови, морщила лобик и, стараясь придать гневное выражение своим большим черным глазам (за которые в свете ее прозвали по-английски Черноокой, Miss Black Eyes) и ледяной тон словам, грозила отставить несчастного недотепу от вверенной должности.
Как-то раз, когда они сидели вместе с Сашенькой Верещагиной в ее кабинете и беззаботно щебетали о сердечных увлечениях подруг и о знакомых молодых людях – кандидатах в женихи, Александра внезапно заметила:
– Катишь, а как Лермонтов влюблен в тебя!
– Лермонтов! О ком ты говоришь? Да я не знаю его и впервые слышу его фамилию!
– Ах, перестань притворяться: ты не знаешь Лермонтова! Ты вправду не догадалась, что он любит тебя? – осерчала подруга и закричала: – Мишель, поди сюда, покажись. Представь себе, Катрин хотела меня уверить, что она тебя еще не рассмотрела.
На пороге комнаты появился «чиновник по особым поручениям», краска досады залила его лицо, он смотрел исподлобья, волчонком, но не смог спрятать холодного злого блеска в глазах.
– Простите, милый Мишель, вас я знаю довольно, чтоб долго помнить, – немного растерянно промолвила Катя Сушкова, – но мне ни разу не довелось слышать вашу фамилию. Я вас считала по бабушке Арсеньевым.
Мишель сильно вздрогнул, гримаса отчаяния исказила лицо, он повернулся и опрометью выбежал из дома. Девушки отворили окно, крикнув вдогонку, чтобы он вернулся, и пообещав в награду конфету. Но несчастный только припустил по шаткой деревянной мостовой.
– Его зовут Михаил Лермонтов, – объяснила подруге Сашенька. – Мать умерла, когда бедному Мишелю было всего три года; бабушка по матери, Елизавета Алексеевна Арсеньева, которую ты знаешь, воспитывает Мишу одна, – с его отцом она в давней ссоре. Властная бабушка по сей день опекает его, как маленького, и больше всего опасается, как бы ее обожаемого Мишеньку не женили и не отняли у нее.
– Меня ей бояться не стоит, – рассмеялась Катишь.
К середине апреля – началу мая, когда исчезли на улицах Москвы посеревшие ноздреватые сугробы и начинало припекать злое весеннее солнце, город вымирал: дворяне из первопрестольной с домочадцами и прислугой тянулись в свои родовые и благоприобретенные имения. Уехала и Катишь в сушковское поместье Большаково; в трех верстах от нее, в усадьбе Середникове у родственницы Екатерины Аркадьевны Столыпиной, гостил Мишель Лермонтов с неотлучной бабушкой; совсем рядом, в полутора верстах от Кати, жила Сашенька. Каждое воскресенье подруги приезжали в гости в Середниково.
Сумрачный Мишель часами неподвижно сидел у старого пруда, всматриваясь в его сонную гладь, подернутую зеленой сетью ряски и водных трав, уединялся в развалинах старой бани или на высоком каменном Чертовом мосту. Часто казалось, что он не замечал ничего вокруг – взор его больших карих глаз был словно устремлен на дно души. Но стоило хотя бы в отдалении появиться Катишь или Сашеньке, – он чутко вздрагивал, нахохлившийся, как испуганная птица, и искоса, исподлобья внимательно следил за девушками. Особенно за Катенькой – черноокой пленительной красавицей, грациозной, беззаботной, остроумной, неподражаемой. О, этот волшебный взор, огромная коса, дважды обвивающая ее голову!..
Ходил Лермонтов с огромным фолиантом под мышкой – собранием писем и дневников английского стихотворца лорда Байрона, составленным сэром Томасом Муром. Трагические поэзия и жизнь этого эксцентричного сумасброда и богоборца, проникнутые безысходным пессимизмом и неизбывным одиночеством, завораживали юношу.
– И я не понят, как он, и меня гонит мир… Мы сироты в этой жизни, – горячо шептал он.
Но Катеньке и ее подруге малолетний романтик был только смешон, и часто, когда он начинал читать стихи Пушкина, девушки прерывали эти декламации шутливым предложением: в его возрасте лучше прыгать через веревочку; и, действительно, протягивали ему скакалку…
Особенно забавляла подруг удивительная рассеянность и неразборчивость Мишеля в еде – он никогда не знал, что ел: телятину или свинину, дичь или барашка. Однажды они велели испечь булочки, начиненные опилками, и накормили ими кавалера за чаем: Лермонтов, поморщившись, начал есть первую булочку, потом уже спокойно принялся за вторую, взял было и третью, – но тут Катенька и Сашенька схватили его за руку, помешав булочку надкусить, разломили надвое и показали бедному мечтателю неаппетитное содержимое.
Между тем настала середина августа, близился отъезд. Накануне Мишель, все еще дувшийся на проказниц и избегавший их общества, подошел к ним и произнес пару-тройку малозначащих слов, обычных для светской беседы. Потом он резко повернулся и быстро направился к дому – маленький, чуть косолапящий. Катенька встала со скамейки и внезапно увидела у своих ног свернутый листок бумаги. Она развернула его. Это были стихи, озаглавленные «Черноокой». Она прочла:
- Я не люблю! Зачем страдать!
- Однако же хоть день, хоть час
- Желал бы дольше здесь пробыть,
- Чтоб блеском ваших чудных глаз
- Тревогу мысли усмирить.
В Москву ехали все вместе. Лермонтов держался отчужденно, ни разу не взглянул на Катишь, не перемолвился с ней ни словом.
На другой день отправились на богомолье в Троице-Сергиеву лавру. На церковной паперти сидел дряхлый слепой нищий. В дрожащей протянутой руке он держал деревянную чашечку для подаяния. И девушки, и Мишель положили в нее по несколько мелких монет. Слепец, услышав звон денег, стал часто-часто креститься и благодарить:
– Пошли вам Бог счастие, добрые господа. А вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: положили полную чашечку камушков. Ну, да Бог с ними!
Пока прекрасные паломницы и их родные усаживались за стол в ожидании обеда, Лермонтов, стоя на коленях перед стулом, что-то быстро писал на клочке бумаги. Потом он подошел к Катеньке и молча положил перед ней листок. Вновь стихи:
- У врат обители святой
- Стоял просящий подаянья,
- Бессильный, бледный и худой
- От глада, жажды и страданья.
- Куска лишь хлеба он просил,
- И взор являл живую муку,
- И кто-то камень положил
- В его протянутую руку.
- Так я молил твоей любви
- С слезами горькими, с тоскою,
- Так чувства лучшие мои
- Навек обмануты тобою!
– Благодарю вас, мсье Мишель, – живо ответила девушка, – и поздравляю, с какой скоростью Вы пишете милые стихи, но не рассердитесь за совет: обдумывайте и обрабатывайте Ваши стихи, и со временем те, кого Вы воспоете, будут городиться Вами.
– А теперь вы еще не гордитесь моими стихами? – пытливо спросил он. – Конечно нет. Ведь я для вас всего лишь ребенок!.. Но если вы подадите мне руку помощи…
– Вы и вправду еще ребенок и стоите лишь на пороге жизни и света, – улыбнулась Катенька. – Помощь же моя будет вам вскоре лишняя, и вы, несомненно, сами же отречетесь от мысли искать ее.
– Отрекусь? Никогда! – с жаром произнес Лермонтов.
Настал октябрь. Отец прислал за Катенькой, прося переехать в Петербург. Оказалось, ей было грустно прощаться с этим забавным и неотвязным воздыхателем, в стихах которого слышалось истинное чувство и мерцали проблески высокого таланта. Когда она села в карету, в окно упал листок бумаги. «Я не люблю тебя…» – начиналась первая строка. Катишь досадливо прикусила губку, но усмешка порхнула на губах. Юный поэт, вопреки всякой логике, заканчивал эффектным признанием: «Так храм оставленный – все храм, Кумир поверженный – все бог!»
Петербургским вечером 4 декабря 1834 года Катишь Сушкова с сестрою Лизой были приглашены на бал. Сняв с себя в швейцарской шубу, подхваченную расторопным лакеем, Катенька придирчиво оглядела себя в зеркало, поднимаясь по парадной лестнице, украшенной цветами: белое платье, вышитое пунцовыми звездочками, пунцовые гвоздики в волосах… Вдруг рядом в этом же зеркале она увидела маленького офицера в гусарском мундире. Прежде чем девушка успела узнать его, гусар первый обратился к ней:
– Я знал, что вы будете здесь, караулил Вас у дверей, чтоб первому пригласить на танец.
Да, это был все тот же Мишель Лермонтов. Почти не изменившийся, почти такой же неловкий, но пристальный взгляд его глаз стал уверенным и казался тяжелым и почти нескромным. Катишь была рада встрече: старый знакомый на балу, среди светской толпы, к тому же неглупый… Однако разговор, последовавший за страстной мазуркой, оказался неприятным.
– Я знаю, вы собираетесь замуж за Алексея Лопухина. Он мой приятель, – начал Лермонтов, – я поверенный его чувств. У него доброе сердце, ничтожный ум и большое богатство. Впрочем, пять тысяч душ искупают все недостатки. Тягостно быть свидетелем счастия другого, видеть, что богатство доставляет все своим избранникам: ум, душу, сердце, – такого и без них полюбят. Над искренней же любовью бедняка можно посмеяться, а проще – не заметить ее, – говорил Лермонтов.
Алексей Лопухин был Катеньке приятен, и она не могла не отрицать наедине с собою выгод этого брака. Кроме того, она уже не была юной девушкой: двадцать два года считались для невесты возрастом значительным. Тем не менее еще ничто не было решено, брак с Лопухиным оставался наполовину мечтой, праздной игрой фантазии. Однако подозрения собеседника Катишь больно задели.
– Лопухин имеет все, чтобы быть истинно любимым и без его богатства: он добр, внимателен, чистосердечен, бескорыстен, так что и в любви, и в дружбе можно положиться на него, – парировала она подозрения Лермонтова.
Он окинул девушку саркастическим и вместе с тем немного нескромным, оценивающим взглядом:
– А я уверен, что если бы отняли у него принадлежащие ему пять тысяч душ, то вы бы первая и не взглянули на него.
Встречи с Лермонтовым продолжились: без приглашения, решительно и бесцеремонно он проник в дом ее тети и дяди Николая Васильевича и Марии Васильевны Сушковых. Его разговоры о Лопухине заражали Катишь каким-то сильным искусительным ядом: недавний желанный жених представлялся ей все более и более блеклым и даже ничтожным. И что за несносная и оскорбительная откровенность о ее чувствах и об их отношениях: кто дозволил Лопухину делиться тайнами ее сердца с приятелем Лермонтовым?! И что он сам такое рядом со страстным Михаилом Лермонтовым, с его пылкими речами и мучительными стихами?
Как-то в гостиной пели романс на стихи Пушкина. Когда прозвучало «Я вас любил; любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем…», Лермонтов шепнул Катеньке, что эти строки полно и ясно выражают его чувства в настоящую минуту. Услышав же два последних стиха «Я вас любил так искренно, так нежно, / Как дай вам Бог любимой быть другим», он досадливо передернул плечами и поморщился:
– Это совсем надо переменить; естественно ли желать счастия любимой женщине, да еще с другим? Нет, пусть она будет несчастлива; я предпочел бы ее любовь ее счастью: несчастлива через меня – это связало бы ее навек со мною.
Однажды он объявил, что до Алексея Лопухина дошли превратные толки о роли приятеля в их отношениях с мадемуазель Сушковой и что Лопухин раздосадован и впереди неизбежная дуэль. Она испугалась, оробела, сжалась. Сначала не могла понять, за кого из двоих боится. Ночами она просыпалась в холодном страхе, парализованная ужасом: ей виделся запятнанный кровью снег и неподвижное тело на нем. Усилием воли Катенька пыталась представить лицо убитого: Лопухин? И надеялась, и пугалась этой надежды. Но вместо благостного беленького чистенького Алексея она различала припорошенные снегом глаза Михаила и его скорбно приоткрытый в последнем вздохе рот… Разум и трезвый расчет твердили ей, что ее избранником должен быть Лопухин, сердце шептало имя Лермонтова. Недоумевающий Лопухин приехал в Петербург, но их встреча с Екатериной Сушковой была натянутой. Скоро отношения разладились. «Рассудок мой изнемогает, И молча гибнуть я должна», – повторяла Катенька слова пушкинской Татьяны.
Однажды Лермонтов, уже на правах доброго знакомого посещавший дом Сушковых, предложил погадать по руке. Он серьезно и внимательно стал рассматривать линии Катиной ладони, но не говорил ни слова. Наконец он вымолвил:
– Эта рука обещает много счастия тому, кто будет ею обладать и целовать ее, и потому я первый это сделаю.
Катенька вырвала руку и, раскрасневшаяся, убежала в другую комнату. Место на ладони, которого коснулись его губы, пылало, как обожженное. Теплая волна счастья окутывала и заливала тело, страстное желание пронзило ее, как острый нож. Вскоре она призналась Лермонтову в любви. Они много говорили о близком супружестве, о жизни в деревне и за границей. Долгими зимними ночами без сна она целовала свою руку, на которой запечатлелся поцелуй любимого. Доходило до безумия: она перебирала и гладила чашки, из которых пил Лермонтов. Но странное чувство омрачало ее радость. Однажды на балу подруга, знавшая ее тайну, рассматривая приехавших Лопухина и Лермонтова, наставительно изрекла:
– Ты променяла кукушку на ястреба.
А потом настал канун Рождества нового, 1835 года. Лакей принес Катеньке письмо, полученное по городской почте. Ничего не подозревая, она стала читать его и страшно побледнела. Увидевший это дядюшка выхватил лист из рук. Некий анонимный «преданный друг» предупреждал Катеньку относительно не названного по имени Лермонтова: «его господствующая страсть господствовать над всеми, не щадя никого для удовлетворения своего самолюбия», он не способен любить, когда-то он соблазнил девушку, увез ее прочь от семейства и, натешившись ею, бросил.
До конца своих дней она, кажется, так и не догадалась, что автором этого письма был сам Лермонтов. Может статься, он хотел развязать этот наскучивший ему и стеснявший узел. Он был поражен тем, что другая девушка, им сильно и мучительно любимая, – Варенька Лопухина, сестра Алексея, – только что была помолвлена, и, быть может, решил испытать крепость чувств Катишь, усомнившись в таковой. А также он мстил за давние полудетские обиды.
Сестра Лиза выдала тайну Катишь родным. Встревоженные дядюшка и тетушка пытали Катеньку, не потеряла ли она девичью честь, уступив домогательствам развратника. Ее вещи обыскали, просмотрели письма и книги. Любимому отказали от дома.
Разлука для нее была тягчайшей пыткой. Смогли встретиться они опять на балу. Лермонтов был убийственно равнодушен, не скрывал при разговоре легкую зевоту. Ничего не понимая, она вглядывалась в эти дорогие черты. Исполняя бальный ритуал выбора кавалера в танце, он подошел к ней вместе с двумя товарищами и произнес три страшных слова: «Ненависть, презрение и месть». Девушка должна была догадаться, каким из этих трех слов назвал себя тот, с кем она согласна танцевать. Что-то с силой ударило ее в грудь, так что она едва устояла на ногах. Обруч боли перехватил ей горло: «Неужели это месть за мою холодность по отношению к нему, еще ребенку?»
– Неужели вы всегда меня ненавидели, презирали? – выдохнула Катенька.
– Вы ошибаетесь, – невозмутимо возразил Лермонтов, – я не переменился. Я всегда был неизменен к вам.
– Неужели вы сомневаетесь в моей любви? – прошептала девушка.
– Вы отлично изучили теорию любви с дозволения родных. Мне отказали от дома. Меня избегают. Благодарю вас за такую любовь! – Он жутко рассмеялся с каким-то царапающим, механическим звуком.
Время, как говорится, лучший лекарь, правда берущий за врачевание дорогую плату – часть человеческой жизни. В ноябре 1838 года Екатерина Сушкова вышла замуж за дипломата Хвостова; Лермонтов был шафером на этой свадьбе. Лермонтов и Катенька легко узнаются в Жорже Печорине и Елизавете Николаевне Негуровой из незаконченного романа «Княгиня Лиговская». Слабое и блеклое отражение их истории – месть Печорина отвергшей его княжне Мери в другом лермонтовском романе – «Герое нашего времени». На его страницах Печорин однажды признается, что не способен к дружбе на равных: один из двоих всегда раб другого. Примерно так же он смотрит и на любовь, завоевывая и подчиняя себе женщин, а затем обычно теряя к ним интерес. Этот горестный изъян герой унаследовал от своего творца. Для счастливой взаимной любви и для благополучной семейной доли Мишель Лермонтов рожден не был.
Чикаго: по следам Аль Капоне
Какие ассоциации способно вызвать слово «Чикаго» у того, кто слышал об этом американском городе? Любители хоккея вспомнят команду «Чикаго блэк хокс», просвещенный журналист – газету «Чикаго трибьюн», ценитель живописи – Институт искусств с одной из лучших в мире коллекций французских импрессионистов. Человек любознательный, может быть, скажет, что это родина небоскребов (и вправду, первое высотное здание появилось здесь аж в 1885-м) и город, где и по сей день стоит самое высокое в Америке строение, царапая небо усами антенн: башня «Уиллис-тауэр». Вспомнятся и два университета: Чикагский, расположенный в самом городе, и Северо-Западный, вольготно раскинувшийся в уютном пригороде Эванстоне. Тот, кто хорошо учил историю в советские времена, добавит: в Чикаго 1 мая 1886 года американские рабочие устроили забастовку, требуя 8-часового рабочего дня. В память о ней был установлен День солидарности трудящихся 1 мая. Отечественный кино– и телезритель назовет фильм Балабанова «Брат-2». Но, боюсь, сначала любой вспомнит чикагскую мафию и одного из ее боссов по имени Аль Капоне.
Этот человек на старых фотографиях вроде бы самый заурядный: не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок. Вылитый гоголевский господин Чичиков. Так мог бы выглядеть коммивояжер или парикмахер, чьим сыном и был Большой Аль. Одутловатое лицо, чувственные пухлые губы, кустистые насупленные брови. Вот разве что глаза… Взгляд исподлобья, сквозящий презрением и злобой. И больше никаких чувств. Идеальное подтверждение старинных учений, гласивших, что пороки и наклонности убийцы можно с арифметической точностью определить по его физиономии. (Впрочем, скольких невинных граждан пришлось бы осудить, если б юстиция руководилась этой наукой!..)
Чикаго – даже по американским меркам город молодой, и лихие 1920-е, прославившие гангстера, – для него уже стародавняя история. Поселение здесь было заложено в 1833 году; статус города оно получило четыре года спустя. Название происходит из языка местных индейцев и означает не то «запах скунса», не то «дикий лук» (он же «скунсова трава»). Но со времен Аль Капоне над городом начала витать не эта тошнотворная вонь, а солоноватый запах крови.
До поры до времени Большой Аль был проклятием Чикаго. Вспоминать о нем стыдились, а большинство мест, где жил и замышлял свои черные дела крестный отец чикагской мафии, ушли под нож бульдозера.
Но времена меняются. Из небытия дух Аль Капоне был вызван кинематографом. Первый фильм о нем, «Лицо со шрамом», был снят еще при жизни Меченого, в 1932 году; главного героя, которого сыграл Пол Муни, зовут иначе – Тони Камонете, но прототип легко узнаваем. Здесь глава мафии обрисован черной краской, и никакой романтизации зла нет напрочь. Но в одноименном ремейке 1983 года, где снимался Аль Пачино (героя зовут Тони Монтана), характер уже сложнее. А еще были фильмы и сериалы «Аль Капоне», «Резня в День святого Валентина»; две версии «Неприкасаемых», «Нитти-гангстер», «Диллинджер и Капоне», «Красавчик Нельсон», «Подпольная империя» и прочее, прочее, прочее. Был «Крестный отец» Ф. Копполы с продолжением, где мафия представлена не без некоего романтического флера.
Выпускаются компьютерные стрелялки с героем Аль Капоне. А летом 2011-го на аукционе «Кристиз» был продан за сто с лишком тысяч долларов личный револьвер бандита.
И вот теперь в центре современного Чикаго стоят экскурсионные автобусы, надписи на черных лоснящихся боках приглашают отправиться в сити-тур по местам боевой славы чикагских гангстеров. Очереди из желающих не наблюдается, и в отъезжающих автобусах имеются свободные места. Впрочем, незанятых сидений немного. Публика разношерстная. Пожилая супружеская пара – пенсионеры с западного побережья. Из реплик, которыми обмениваются супруги, можно понять: приехали в гости к дочери и не могли удержаться от посещения мест, где некогда жило и процветало воплощенное Зло. Еще – компания студентов. Средних лет одинокий итальянец (внешность не дает обмануться) в строгом костюме: наверное, приехал в Чикаго по делам и не мог пройти мимо: все-таки Капоне – знаменитый соотечественник…
Улыбчивая экскурсовод-негритянка показывает на красный кирпичный двухэтажный домик, притулившийся за низенькой оградой, и начинает рассказ. Скромное строеньице, не презентабельнее гостевого домика в современной новорусской усадьбе. (Кстати: никогда не называйте негров неграми, они этого очень не любят, надо: афроамериканцы, можно: черные; здесь фильм «Брат-2» не лжет, а вот насчет того, что виски, поместив бутыль в пакетик, можно хлебать прямо из горла на улице, – неправда, лажа…)
– Этот дом Капоне купил за пять с половиной тысяч долларов на имя жены. Здесь его семья жила на втором этаже, в пятикомнатной квартире, а на первом этаже – родственники. Гангстер любил играть на мандолине и давал уроки маленькой внучатой племяннице. Сам он жил здесь под фамилией Браун. Это небогатый район. Занимался своими преступными делами и развлекался Аль Капоне в отелях, – говорит экскурсоводша. – А сейчас мы поедем на то место, где стоял клуб «Четыре дьявола»…
Автобус проезжает по мосту, пересекая реку Чикаго с ярко-ярко-зеленой водой: вчера был День святого Патрика, покровителя Ирландии, и чикагские ирландцы выкрасили реку в свой национальный цвет. В изумрудной воде безмятежно плавают утки. Краситель, как говорят, экологически чист, безвреден. Городом с изумрудной рекой Чикаго останется почти неделю – так долго будет уходить краска. Невинные забавы нынешних ирландцев, столь непохожие на криминальные деяния ирландских банд О’Бэниона и Морана, с которыми Аль Капоне вел бои за передел города.
Ежась на холодном чикагском ветру, молча разглядываем пустырь, где когда-то был знаменитый клуб. Пытаюсь представить себе еще не располневшего молодого Аля – вышибалу, стоящего в дверном проеме с дорогой сигарой в зубах.
– По соседству стояло кафе Большого Джима Колозимо, – сообщает гид.
Для превращения Чикаго в гангстерскую столицу было немало причин. В 1871 году почти весь город, выстроенный из дерева, был уничтожен Великим чикагским пожаром. Сохранилась буквально пара зданий, в том числе пожарная каланча: ее предусмотрительные борцы с огнем, видимо не рассчитывая на собственные силы, выстроили из камня. По преданию, в этом бедствии была виновата корова, опрокинувшая керосиновую лампу в хлеву. Много позже на углу одной из центральных улиц буренке воздвигли памятник. Грибоедовский полковник Скалозуб заявлял, что пожар Москвы 1812 года «способствовал ей много к украшенью». О Чикаго он мог бы это заявить с не меньшим основанием. Центр города начал стремительно застраиваться многоэтажными монстрами – небоскребами в причудливом неоготическом стиле, с резными арочками и колонками на фасадах. Человек терялся рядом с этими стройными громадами.
Неуютным для жизни делала Чикаго и погода. Стоящий посередине огромной и совершенно плоской равнины, он продувался всеми ветрами и еще в середине позапрошлого столетия получил второе, неофициальное имя – Ветреный город. Рядом простиралось озеро Мичиган – неправдоподобно, абсурдно огромная, словно океан, бескрайняя лужа пресной воды. Само пространство, пейзажи города и окрестностей словно заставляли сбиваться в стаи, чтобы выжить.
Город рос с необычайной быстротой, поглощая своим ненасытным чревом все новых и новых людей – переселенцев и иммигрантов. В Чикаго было особенно много выходцев из Ирландии. Перебирались сюда и итальянцы. Среди них был и Аль Капоне.
Альфонс Фьорелло Капоне (таким было его полное имя) родился в Неаполе либо в его окрестностях или в 1899 году, или четырьмя годами раньше. (Сведения источников на сей счет противоречивы.) Когда он был подростком, семья в поисках лучшей доли перебралась в Америку и поселилась в предместье Нью-Йорка. Уже в юности он проявил себя отчаянным и безбашенным головорезом, приобрел шрам от ножа на щеке, кличку Меченый и попробовал человеческой крови. Но разгуляться бандитам в Нью-Йорке власти особенно не давали, а за Капоне тянулся кровавый след, который уже взяли полицейские ищейки. По приглашению своего дядюшки Джонни Торрио горячий парень Аль перебирается в Чикаго. Ветреный город в то время стал тем местом, где мафии дышалось особенно вольно: местные власти и полиция были продажными, а город на пересечении железнодорожных и речных путей с Востока на Запад и с Севера на Юг рос как на дрожжах и требовал не только хлеба, но и всяческих увеселений. Подпольный игорный бизнес и проституция процветали.
Но главным подарком судьбы для мафии был сухой закон, принятый в недобрый день 16 января 1920 года. В тот самый день в городе Норфолке, штат Вирджиния, прошли символические похороны Джона Ячменное Зерно, олицетворявшего горячительные напитки. «Покойного» провожал в последний путь священник-евангелист Билли Санди, торжественно произнесший: «Прощай, Джон! Ты был подлинным врагом Бога и другом дьявола! Я всей душой ненавижу тебя!» Преподобный пастор погорячился: старина Джон и не собирался умирать.
Штат Иллинойс, на территории которого раскинул свои щупальца город-спрут Чикаго, целый год сопротивлялся введению закона, но потом был вынужден уступить. Сухой закон подарил мафии прежде невиданные источники дохода и стал первопричиной многих мокрых дел. Джонни Торрио и его подручный Аль Капоне, подвизавшийся сначала в роли вышибалы в клубе Four deuces («Четыре двойки», или «Четыре дьявола»; 2222 – номер дома, где размещался клуб), принадлежавшем Торрио, быстро освоили бутлегерство – контрабанду спиртного из-за океана и через канадскую границу. Канадские земли простирались на северном, не видном даже с самого высокого небоскреба берегу Мичигана. Одна нелегально проданная бутылка первоначальной ценой 15 баксов приносила прибыль в 70–80. Контрабандой мафиози не ограничились, наладив подпольное производство алкоголя в самом Чикаго. Дядя и босс Торрио Джеймс Колозимо по прозвищу Большой Джим пытался отказаться от нового бизнеса, предпочитая по старинке окучивать игорные притоны и бордели да заниматься рэкетом. Неизвестный застрелил упрямца в его собственном кафе. Молва приписывала меткий выстрел разным бандитам. Называли и имя Аль Капоне.
За окнами тянутся ровные, словно прочерченные по линейке, улицы окраин Чикаго, двухэтажная Америка, дома то каменные, то отделанные сайдингом. Мы в районе Сисеро. Достопримечательностей, связанных с именем мафиози, здесь почти не сохранилось. Кроме одного небольшого дома – иногда в нем он вершил свои черные дела. Затем наш неутомимый экскурсовод показывает место, где стоял отель Хоутхорн, одно время бывший штаб-квартирой бандита, и предлагает взглянуть на старые фото.
Автобус едет дальше. Из окон мы созерцаем парковки. Одну. Другую. Некогда тут возвышались отели «Метрополь» и «Лексингтон». В одном из них Аль Капоне со свитой и дамами сердца занимал пятьдесят комнат… Правда, напротив по-прежнему стоят старые дома, мимо которых проходил Большой Аль…
В начавшемся переделе сфер влияния в городе итальянская мафия столкнулась с ирландской. На пути Торрио и Капоне стоял лидер ирландцев Дэйон О’Бэнион. Незадачливый ирландец был застрелен в собственном цветочном магазине людьми Аль Капоне; один из них в этот момент пожал хозяину руку. Боевики покойного дважды покушались на Лиса Торрио, убили водителя и собаку и покалечили его самого; старина Джонни, больше всего жалевший о псе, предпочел отойти от дел, оставив продолжение войны Меченому, Человеку со шрамом. Бывший подручный Дэйона Хайме Вайс открыл охоту на Капоне. Но Большому Алю везло поистине дьявольски: автоматные очереди изрешетили гостиничный номер, под пулями погибла одна из его бесчисленных любовниц, а Человек со шрамом ушел невредимый. Провалился и заговор против Капоне, в который были вовлечены его собственные люди. Предателям хозяин собственноручно размозжил головы бейсбольной битой. А вскоре Хайме Вайс был расстрелян людьми Капоне на церковных ступенях.
Мы подходим к небольшой церкви в неоготическом стиле. Это церковь Святого Духа. Экскурсовод проводит по желтоватой стене, ее пальцы находят в ней выбоины – отметины тех пуль, которые не попали в Хайме Вайса. Попали другие…
К концу 20-х Меченый стал почти единовластным хозяином криминального Чикаго. На его пути оставался ирландец по прозвищу Багс Моран, контролировавший северную часть города. 14 февраля 1929 года люди Аля выследили семерых морановских бандитов в гараже вблизи озера Мичиган (2122, Норт Кларк-Стрит) и хладнокровно расстреляли, перед этим выстроив в ряд перед стеной. Жертвы не сопротивлялись: двое из четырех киллеров, присланных Капоне, были одеты в полицейскую форму, и убитые сами отдали им оружие. Они ожидали, что «полисмены» лишь произведут обыск. К несчастью для врага и к счастью для него самого, припозднившегося Морана в гараже не было.
Припорошенный редким в Чикаго мартовским снегом угол. Гид-афроамериканка просит подойти к кирпичной стене. «Здесь произошла бойня в День святого Валентина», – объясняет она и показывает на едва различимые следы в том месте, где примыкала стена снесенного гаража. Гид указывает рукой на дом напротив, на эркер, в котором стояли люди Капоне, следя за людьми Морана. Бррр!!!
– Жители соседних домов слышали автоматную пальбу и подбежали к окнам, – продолжает свой рассказ наш гид. – Они увидели, как из гаража выходят двое в костюмах с заложенными за спину руками, а за ними – еще двое в полицейской форме. И, конечно, подумали, что прошла полицейская операция: два стража порядка захватили пару головорезов. Так четверо убийц спокойно покинули место преступления.
Пожилой американец прищелкивает языком в изумлении от наглости и изворотливости негодяев, его супруга бледнеет, пальцы сильнее сжимают руку мужа. Но в старческих выцветших глазах загораются огоньки до сих пор скрывавшегося азарта. А может быть, и восхищения. В котором пожилая леди вряд ли признается сама себе.
Мы вновь выходим из автобуса на старой западной окраине. 22-я улица, дом 5342. (Какие все-таки длинные улицы и жуткие, невообразимые номера!..) Магазин плитки и красок.
– Прежде в этом здании был клуб «Коттон», – объясняет гид. – Однажды люди Капоне притащили сюда силой пианиста Уоллера. Уоллер думал: его убьют, и не понимал за что. А оказалось, что его привели на вечеринку в честь дня рождения Капоне. Он играл трое суток без передышки. Но когда, усталый, пошатываясь, выходил из клуба, его карманы оттопыривали пачки банкнот.
Еще одна остановка. Кафе-бар «Green Mill» – «Зеленая мельница». Бродвей, 4802. Почти центр. Солидно. Старое по чикагским меркам здание. Камень, а не стекло и металл, как в стоящих поодаль новых небоскребах, чьи стены-зеркала отражают друг друга и переменчивое чикагское небо. То бездонно-голубое, то скучно-серое. Высокие потолки, деревянные панели. Мемориальной доски ни здесь, ни в других памятных местах, конечно, нет…
– Аль Капоне сидел вот за этим столиком, – показывает наша путеводительница, – боком ко входу, чтобы не получить ненароком пулю в затылок или в спину.
Потом нам показывают Окружную тюрьму – безликое здание из грязно-желтого бетона.
Казалось, власть Аль Капоне над городом безгранична. Только за один год, по данным ФБР, его преступный синдикат получил 105 миллионов долларов. Личное состояние босса росло по 50 миллионов в год. Он подкупал сенаторов и полицейских, врывался в городское собрание чикагского пригорода Сисеро и бил тамошнего мэра по физиономии за необдуманно принятый закон. Мэр всего города, «большого Чикаго», – ставленник Капоне. В том же 1929 году на съезде мафии в Атланте, где Человек со шрамом – один из главных авторитетов, создается знаменитый Сицилийский синдикат, или «Коза ностра» («Наше дело»). Строгое исполнение приказа, четкое распределение полномочий. Жесткая вертикаль власти.
Но это было начало бесславного конца. Наступили плохие дни. Одна за другой выходили статьи, в которых газетчики, нанятые Мораном, ярко расписали все детали бойни в День святого Валентина, снабдив тексты жуткими фотографиями. «Свой» кандидат в мэры на очередных выборах провалился, а убийство репортера, слишком много знавшего об империи Капоне, взбаламутило город. Чаша терпения переполнилась. В расследование вмешался лично президент Гувер. Аль Капоне был взят под стражу и в июле 1931-го предстал перед Федеральным судом. Доказать причастность главаря мафии к убийствам не удалось: люди Капоне не кололись, были верны господину, молчали, как воды в рот набрав. Между тем молва приписывала ему лично убийство сорока человека, триста или четыреста отправились на тот свет по его приказанию. Зато удалось доказать 5 тысяч случаев уклонения от уплаты налогов: богатейший гражданин Чикаго в жизни не уплатил их ни цента. Большому Алю светил суммарный невообразимый срок в 25 тысяч лет. Пришлось дважды менять состав присяжных: люди Капоне запугивали их, одного похитили, но потом вернули. В итоге Аль Капоне был приговорен к смешному сроку в одиннадцать лет.
Последняя точка экскурсионного маршрута – железнодорожная станция Дерборн. Снег идет все сильнее, заволакивая мир вокруг своей мягкой пеленой. За ней почти не видно подходящего к перрону поезда. Отсюда навсегда увезли Аль Капоне… Аль Капоне умер. Но имя его живет…
В 1932 году величайшего бандита всех времен и народов вывезли в тюрьму Атланты, где он жил весьма вольно. Спустя два года его судьба переменилась: он был переведен в тюрьму на острове Алькатрас, с очень строгим режимом. Там старина Аль шил брюки из грубой ткани да мыл полы в тюремных коридорах, за что его прозвали «итальяшка со шваброй». От былого лихого до безумия парня не осталось и следа: Капоне послушно выполнял все требования начальства. Однажды другой зэк ткнул его ножницами в спину за отказ присоединиться к забастовке заключенных. Через семь с половиной лет Аль Капоне освободили: посодействовали добросовестное поведение и тяжелая болезнь, сделавшая его почти стариком и повредившая мозг. К этому времени сухой закон был уже давно отменен. Аль Капоне уехал в свое поместье во Флориду, где и умер 24 января 1947 года. Смерть произошла вскоре после перенесенного инфаркта и пневмонии, вызванных застарелым сифилисом, которым наградила гангстера одна из подружек. В Чикаго он вернулся только мертвым: здесь его похоронили, написав на надгробии «Иисус Христос, благодарю». Но под этой плитой он покоился недолго: покойному досаждали любопытствующие обыватели и туристы, и родня перезахоронила его на другом кладбище, в безымянной могиле.
– Аль Капоне приписывают несколько изречений, ставших известными, – завершает свой рассказ экскурсоводка. – Одно из них: «Добрым словом можно добиться многого. Добрым словом и кольтом – значительно большего». Второе: «Только бизнес. Ничего личного».
– Конечно, Аль Капоне – страшный человек и преступник, – продолжает она. – Но люди иногда вспоминают и о том, что он открыл у нас в городе бесплатную столовую для голодных безработных, когда началась Великая депрессия.
– Люди романтизируют зло, когда оно становится прошлым. Повседневная жизнь им часто кажется серой, неинтересной, а злодей-герой притягивает их… Но теперь, к счастью, новый Аль Капоне не может появиться, хотя какая-то мафия в Чикаго сохранилась. Она связана с игорным бизнесом и с торговлей наркотиками.
Итальянец благодарит даму-гида, но потом замечает: стоит ли вспоминать о жестоком злодее, пусть как об антигерое, и посвящать ему сити-туры? Нет ли во всем этом скрытой и даже невольной пропаганды насилия и произвола? Экскурсоводка возражает: знать и одобрять – вещи разные.
– И в конце концов, – резонно добавляет она, – ведь и вы сами тоже отправились на эту экскурсию.
Индустрия, построенная на мифе и бренде «Аль Капоне», – что это: отражение завораживающего влияния, адского обаяния зла, может быть, особенно сильного в законопослушной Америке? Ведь вот берут же винтовку и идут стрелять в себе подобных и благополучные школьники, и граждане постарше… Хотят ощутить то, что некогда чувствовал этот набычившийся вурдалак, уставив свои гляделки на еще живых жертв? Или главное здесь – бизнес. Ничего личного? Вероятно, и то и другое.
Откуда-то с вышины доносится слабый, еле различимый шум вертолетных лопастей. Два геликоптера, почти неразличимые в вечернем небе, зависнув над деловым центром, ощупывают прожекторными лучами крыши небоскребов. Идет какая-то полицейская операция.
Две столицы: Москва и Петербург в русской культуре прошлого и настоящего
В последнее время по Рунету странствует анекдот. В Петербурге человек заходит в неосвещенный лифт, достает сигарету и закуривает. Язычок пламени выхватывает из полутьмы фигуру мужчины, сидящего в углу на корточках и справляющего большую нужду. «Наверное, из Москвы», – невозмутимо-презрительным тоном замечает некто сидящий на корточках. «Да… – признается опешивший курильщик. – А вы как догадались?!» – «А в лифте курите», – лениво и с нескрываемым чувством превосходства, присущим истинно культурному человеку, отвечает петербуржец.
Анекдот, говоря словами Александра Сергеевича Пушкина (сказанными по поводу похожей истории), «довольно нечист», но метко рисует представление москвичей о высокомерии петербуржцев.
Спор двух столиц – давний, и начат он был самим фактом основания нового города на мшистых, топких берегах чухонской равнины. Москва не сразу строилась, росла незаметно, стихийно – как растет трава или дерево. Нет, конечно, все мы с детства знали: Москву основал в 1147 году князь Юрий Долгорукий, за что и был спустя восемьсот лет водружен в виде статуи на Тверской – перед зданием, где до недавнего времени полновластно царил его тезка. Но на самом деле никакого основания в том далеком году не было. Москву тогда просто впервые упомянул летописец: Юрий Долгорукий пригласил в эту самую захолустную Москву своего союзника князя Святослава и дал гостю «обед силен». Съели и выпили, видимо, немало. Здесь же хозяин вручил дорогому гостю ценный подарок – зверя пардуса (не то барса или гепарда, не то его шкуру). Была ли Москва в то время городишком, княжеским замком или сельцом – неизвестно. О строительстве московских крепостных стен летопись впервые говорит только под 1156 годом.
Происхождение названия Москва окутано тайной. Ученые книжники XVII века выдумали, что оно происходит от имени легендарного основателя Мосоха, внука библейского Ноя. Мосохом он назван в церковнославянском переводе Библии. Язвительные обитатели «замкадья» уже в веке двадцатом сочинили анекдот о некоем мальчике, потерявшем собаку Моську в местах, где потом раскинулась Москва. Бедный ребенок все звал да звал: «Моська», а саркастичные прибрежные лягушки дружно отвечали: «Кв-а-а»… На самом же деле название это, вероятно, не славянское, а финно-угорское и означает «темная, мутная вода». Когда-то будущее Подмосковье было территорией, где славянские племена перемежались с финно-угорскими. По иронии истории, первыми обитателями этих земель были племена, родственные тем «чухонцам», которые жили на мшистых, топких берегах Невы. Впрочем, возможно, это слово древнеславянское, означающее «сырая, мокрая, болотистая».
В первые десятилетия городской жизни у Москвы было еще одно название – Кучково, от имени ее полумифического владельца боярина Кучки, по преданию, казненного Юрием Долгоруким. Что было причиной первого московского убийства, неизвестно. Предание говорит, что заносчивость: Кучка не выказал князю должного почтения и тем самым обрек себя на смерть. Может быть, боярин восстал против властной княжеской вертикали, показавшейся ему слишком жесткой. А возможно, князю просто полюбились почти три гектара земли (такой была площадь деревянной крепости) в самом центре самого дорогого в будущем города России: в конце концов, недаром современники прозвали Юрия Долгоруким. Механизма отставки в те суровые времена не было. Поступили проще: нет человека – нет проблемы…
Но даже если князь Юрий и взял такой грех на душу, Москва не стала княжьим городом ни тогда, ни много позднее.
Только ближе к концу века – то ли в 1282 году, то ли десятью годами позже – в Москве появился новый князь – сын Александра Невского Даниил. Так началось ее возвышение. Где правдами, а где неправдами Московское княжество обрастало землями. К концу XV столетия Москва сбросила ордынское ярмо и объединила вокруг себя почти все русские земли. Она стала центром последней православной державы, назвав себя «новым Константинополем» и «Третьим Римом». Но ни первому Риму, ни второму – Царьграду Москва не подражала.
Как известно, все дороги ведут в Кремль. План древней Москвы издавна был радиально-кольцевым. Город рос, накручивая вокруг Кремля полукольцо Китайгородских стен и кольца построенных на рубеже XVI и XVII веков Белого города и города Земляного. Каменные стены Белого города проходили по нынешнему Бульварному кольцу, деревянные стены и валы Земляного – по теперешнему Садовому. В XVIII столетии границей Москвы стала окружность Камер-Коллежского вала, примерно совпавшая с позднейшим кольцом Московской окружной железной дороги. Частично по ней легло потом Третье кольцо. И построенная в советское время МКАД, и ТТК, и задуманное Четвертое кольцо лишь продолжили очень старую традицию.
Москва была и считала себя средоточием русского православия. С трех сторон – с запада, юга и востока – подъезды к ней охраняли монастыри: Новодевичий, Донской, Данилов, Симонов, Ново-спасский, Спасо-Андроников. Она не называла саму себя святой, но почиталась вместилищем Святой Руси. В дни церковных праздников над городом стоял звон колоколов ее сорока сороков. Все московские церкви были объединены в особые группы, церковно-административные единицы – сорока. Общим числом этих сороков было действительно сорок, но храмов в каждом из них было меньше четырех десятков. Это число огромно. Облик Москвы определили разноцветные церковки в богатом уборе кокошников. Милые, немного пряничные, украшенные белой сладкой ватно-воздушной лепниной и испещренные, словно леденцами, зелеными плитками изразцов.
Так и росла и ширилась Москва, о которой поэт Федор Глинка сказал:
- Город чудный, город древний,
- Ты вместил в свои концы
- И посады, и деревни,
- И палаты, и дворцы!
Совсем иное – Петербург. У этого города c немецко-голландским именем, названного Достоевским «самым отвлеченным и самым умышленным городом в мире», есть не только год, но и точный день основания – 16 мая 1703 года по старому стилю. В этот день была заложена Петропавловская крепость, по изначальному плану она являлась центром еще не построенного архитектурного дива. День был выбран не случайно – он предварял день рождения (30 мая) и именины (29 июня) державного основателя. Петропавловский храм в крепости, тогдашний главный собор – первый в городе – был заложен как раз в именины Петра и Павла, а в день рождения царя-основателя начали строить второй храм – церковь Исаакия Далматского. Ее отдаленный потомок – нынешний Исаакиевский собор, воздвигнутый по проекту Огюста Монферрана в 1818–1858 годах. В отличие от темного имени Москвы название Санкт-Петербурга (или Санкт-Питербурха, как его величали поначалу) прозрачно: оно дано одновременно в память об апостоле Петре и о его царственном тезке. Имя города в написании латиницей – Sankt Petersburg, город святого Петра. В русском варианте «Санкт-Петербург» частица -s пропала. Мельчайшее изменение открыло возможность нового понимания: Петербург из города святого Петра словно превратился в святой Петр-город. Не случайно и сам Петр называл его «парадизом» – раем, а его любимец Меншиков писал о Петербурге как о «святой земле». Новая, светская святость Петербурга была вызовом святой Москве, с ее мощами угодников, чудотворными иконами и сорока сороками церквей.
Но в мире уже был один город святого Петра-апостола. Это Ватикан – город-государство в сердце Рима. Петр I, строя новую столицу России, соревнуется и с Ватиканом, и с Римом. Для герба Петербурга он выбирает два перекрещенных якоря, символизирующие устойчивость государства-корабля и силу российского флота. Якоря, обращенные лапами вверх, подобны двум ключам от рая с герба Рима, ставшего эмблемой Ватикана. Здесь, в Петербурге, в 1721 году Петр принимает заимствованные у владык Рима титул императора и прозвание «отец отечества». Величие Рима манило и столетие спустя, когда Андрей Воронихин построил Казанский собор в подражание ватиканскому храму святого Петра.
Москва не превратилась в обычный губернский город: ее стали официально именовать Первопрестольной, в кремлевском Успенском соборе совершались коронации, в ней были открыты департаменты основных правительственных учреждений. И все же «перед новою столицей померкла старая Москва, как перед юною царицей порфироносная вдова».
Близость к Западной Европе, скрывающейся за морским горизонтом, и плоский рельеф местности определили судьбу Петербурга. Город был замышлен на самом краю русской земли, в отличие от Москвы, упрятанной посреди страны и отдаленной от морей сотнями бесконечных верст. Поэт Федор Глинка назвал Москву «град срединный, град сердечный, коренной России град». Москва была географическим центром тогдашней исторической части России. Центр ни на что не указывает, он словно собирает пространство вокруг себя. Воды Москвы-реки текут на юго-восток, в глубь русских просторов. Петербург задавал вектор на запад, куда уходит всеми своими устьями широкая Нева. Петербург должен был стать городом европейским и регулярным. Он был памятником работы Петра себе самому и символом новой, европейской России – творимой на пустом месте, из ничего. Ровная, как гладь бумажного листа, невская земля была огромной картой, на которой твердая рука и хищный глазомер царя наносили громадный чертеж. Француз Жан-Батист-Александр Леблон по указанию Петра составил генеральный план застройки Петербурга и новые проекты типовых домов. Это был геометрически четкий план регулярного города, разделенного прямыми улицами на Адмиралтейской стороне и каналами на Васильевском острове.
Регулярному принципу сильно мешала прихоть природы. Почва была болотистая, топкая. Ветер с залива, нагоняя воду в Неву, вызывал наводнения, порой чудовищные. По городу расхаживал прорицатель, предрекавший страшный потоп, который накроет город за надругательство над старыми благочестивыми обычаями. С предсказателем расправились, примерно наказав. Но наводнение действительно произошло. Только за первые тридцать лет своей истории, с 1703 по 1734 год, Петербург пережил десять сильных атак стихии. Царя-основателя не смутили эти капризы природы, пусть из-за них иногда и приходилось поднимать дворцовых лошадей на вторые этажи, а самому, застигнутому наводнением в пути, ночевать на яхте. Большое удовольствие доставляло Петру смотреть, как «люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели – не только мужики, но и бабы».
Лишь при Екатерине II и при Александре I дело Петра было завершено, и центр города стал единым блистательным ансамблем. Екатерина подарила Петербургу и его хранителя, воплощение духа города – медную статую Петра работы Фальконе. Судьбы «кумира на бронзовом коне» и его творения оказались связаны поистине мистически. В тревожные дни лета 1812 года, когда Наполеон вторгся в Россию и часть его войск двигалась на Петербург, Александр I задумал на всякий случай эвакуировать из города статую его основателя. Но Петр явился во сне некоему майору и просил передать своему потомку, чтобы он не вывозил скульптуру: пока Медный всадник стоит на своем месте, неприятель города не возьмет. Мистически чуткий Александр прислушался к этим словам. Французы не продвинулись дальше Полоцка и Риги.
Памятник стал полуязыческой святыней Петербурга. В день освящения Исаакиевского собора даже было решено совершить вокруг статуи крестный ход, и лишь вмешательство авторитетного митрополита Московского Филарета Дроздова предотвратило этот странный и даже кощунственный обряд. Поэт Александр Блок после Февральской революции 1917 года увидел стайку мальчишек-хулиганов, взобравшихся на скульптуру. Раньше полиция ни за что не допустила бы этого. Блок прозорливо увидел в мелкой хулиганской выходке знак крушения старого мира. И не ошибся: за Февралем наступил Октябрь.
Город был изначально отмечен печатью лишений и смерти. Он был построен на костях тысяч безымянных строителей. Один из островов невской дельты народ прозвал Голодаем. В городской цитадели по обвинению в государственной измене Петр казнил сына – царевича Алексея. «Быть Петербургу пусту», – вцепившись в решетку оконца, истошно кричала Алексеева мать Евдокия Лопухина, насильственно постриженная в монахини великим Петром – бывшим супругом и сыноубийцей. И крик этот столетиями кружил в морозном воздухе над площадями и каналами прекрасного города-призрака. Но все эти жертвы несравнимы с бесконечной чередой смертей в великой войне – в долгие ночи и дни ленинградской блокады.
Петербург не походил на большинство городов империи, в том числе и на Москву. Уникален был состав его населения: очень много чиновников, иностранцев. Множество военных – в столице были расквартированы гвардейские полки, целые районы обозначались по названиям полков, город просыпался под бой барабанов – сигнал на подъем. Как писал Пушкин:
- А Петербург неугомонный
- Уж барабаном пробужден.
- Встает купец, идет разносчик,
- На биржу тянется извозчик,
- С кувшином охтинка спешит,
- Под ней снег утренний хрустит.
- Проснулся утра шум приятный.
- Открыты ставни; трубный дым
- Столбом восходит голубым,
- И хлебник, немец аккуратный,
- В бумажном колпаке, не раз
- Уж отворял свой васисдас.
Как все мерно и чинно! И купец, и разносчик, и извозчик, направляющийся к месту стоянки (на биржу), и жительница окраинной Охты с кувшином молока на продажу, и немец – хозяин булочной, открывающий окошко покупателю, – все они словно живут по заведенному Петром регулярному принципу. Не то, совсем не то в Москве, в которую въезжает пушкинская Татьяна:
- Уже столпы заставы
- Белеют; вот уж по Тверской
- Возок несется чрез ухабы.
- Мелькают мимо будки, бабы,
- Мальчишки, лавки, фонари,
- Дворцы, сады, монастыри,
- Бухарцы, сани, огороды,
- Купцы, лачужки, мужики,
- Бульвары, башни, казаки,
- Аптеки, магазины моды,
- Балконы, львы на воротах
- И стаи галок на крестах.
Улица, даже центральная, какой Тверская была и в пушкинское время, – ухабистая. Зимой снег с московских улиц не убирался – убирался только с тротуаров, так что, переходя на другую сторону, надо было карабкаться на горку. На проезжей части образовывались страшные ухабы. Во время весенней распутицы проехать было почти невозможно, от далеких поездок по городу воздерживались. Взгляду Татьяны, трясущейся в возке, открывается пестрая смесь: обитатели города, постройки, фонари, сады, улицы, торговцы-азиаты из экзотической Бухары, сани, огороды, будто в деревне, опять люди и опять дома, модные магазины, галки, обсевшие кресты бесчисленных московских храмов… Никакого порядка, никакой иерархии и логики.
Несмотря на все неудобства, Москва больше благоприятствовала долгой и счастливой жизни. Смертность в Петербурге была несравнимо выше. Но он все равно манил – великолепный, подвижный, странный. На протяжении XIX столетия Петербург поглотил множество писательских судеб. Русские литераторы этого века обычно рождались в Москве или в провинции. Но творили и умирали они почти все в Петровом граде. Так, Пушкин и Достоевский появились на свет в Первопрестольной, но проявили свой дар на берегах Невы, Петербургу посвятили главные свои творения и в нем же простились с жизнью.
Москва – полудеревянная и полудеревенская. Петербург – союз камня и воды. Союз, полный скрытой, а иногда и явной вражды. Вражда взрывалась катастрофой, когда Нева, гонимая против течения западным шквалом, вздымалась яростью и бросалась на город. Имя Петр, заложенное в фундамент названия города, значит по-гречески камень.
Физиономия Москвы была полуазиатской. Названия иных ее улиц – татарские, как Балчуг от «балчех» – грязь, болото, а одно даже арабское: Арбат – от «рабад» – пригород, предместье. И совсем неудивительно звучит в их окружении имя «Китай-город». К далекой Поднебесной оно, впрочем, никакого отношения не имеет, а происходит не то от тюркского слова, означавшего «крепость», не то от словечка «кита» – связка жердей для строительства укреплений.
До конца XIX века Первопрестольная не видала каменных построек выше трех этажей. Петербургские четырех– и пятиэтажные дома москвичи почитали сущими небоскребами. Все изменилось на рубеже столетий: Москва буржуазная, предпринимательская стала строить высоченные доходные дома и быстро обогнала Питер.
Петербургский пейзаж – это архитектурный вид. Москва тешила глаз буйными садами – писатель Михаил Загоскин, чей роман «Юрий Милославский» бесцеремонно украл гоголевский Хлестаков, в начале 1840-х годов насчитал в городе тысячу двадцать четыре частных сада.
Петербург, полумиражный, невозможный, всеми массами камня и воды вытеснял человека из пространства и побуждал писателей к самоотчуждению, к рефлексии над пережитым и прочувствованным. Бесконечный ритм его колоннад завораживал поэтов, отпечатываясь и в фактуре стиха, и в его внутреннем ритме, в его дыхании.
Русская литература открыла и постигла Петербург в эпоху Пушкина и Гоголя, осознав его как противоположность Москве. Град Петров, поэтический Петрополь – великолепный и пугающий своей холодной, какой-то бесчеловечной красотой. Город, панорамы которого настолько изысканны и совершенны, что подобны декорациям и кажутся оптической иллюзией. Петербург еще менее, чем Москва, верит слезам: жестоко испытывает своих обитателей, обрекая их на гибель или преображая. Город черных, как бездна, зим и белых ночей с их чудесным, но мертвенным светом. Город полуфантастический, о котором Аркадий, герой Достоевского из романа «Подросток», сказал: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?”» Пушкин запечатлел и его темный, и его светлый лики, Гоголь, Достоевский – его демоническую душу. «К середине девятнадцатого столетия отражаемый и отражение сливаются воедино: русская литература сравнялась с действительностью до такой степени, что когда теперь думаешь о Санкт-Петербурге, невозможно отличить выдуманное от подлинно существовавшего. <…> Современный гид покажет вам здание Третьего отделения, где судили Достоевского, но также и дом, где персонаж из Достоевского – Раскольников – зарубил старуху-процентщицу». С этим суждением Иосифа Бродского трудно не согласиться.
В Серебряном веке Андрей Белый – автор романа «Петербург» – соединит в фантасмагорическом пространстве города эпоху Петра и время первой русской революции. Сквозь стены этого Петербурга сквозит вечность, его площади и улицы становятся ареной борьбы метафизических сил – мертвящего рационализма и бездушного бюрократизма, с одной стороны, и всеразрушающей стихии, анархии, с другой. Так русской литературой был создан сквозной петербургский сюжет, петербургский миф, «петербургский текст»…
Должно было пройти двести с лишним лет с того дня, как Петр заложил свой «парадиз» на Заячьем острове, чтобы Осип Мандельштам вслед за Пушкиным воспел его классически размеренную красоту. Но его стихи – это уже не торжественный гимн, а плач по умирающему, вместе с которым уходит русский европеизм – хрупкая и бесценная петербургская культура. Его Петрополь – «прозрачный», как подземное царство мертвых, над ним горит зеленая звезда, пришедшая из блоковских стихов и из Откровения Иоанна Богослова. Она предвещает апокалипсис и, может быть, рождение нового, жуткого города. В вышине над Петрополем – чудовищный корабль, напоминающий о немецких дирижаблях и аэропланах, бомбивших город на исходе Первой мировой войны:
- Чудовищный корабль на страшной высоте
- Несется, крылья расправляет –
- Зеленая звезда, в прекрасной нищете
- Твой брат, Петрополь, умирает.
- Прозрачная весна над черною Невой
- Сломалась. Воск бессмертья тает.
- О, если ты звезда, – Петрополь, город твой,
- Твой брат, Петрополь, умирает.
Судьба Петербурга, ставшего с началом мировой войны более русским, более патриотичным Петроградом, была решена – его ждала участь колыбели революции и новое имя – Ленинград.
Первопрестольная и град Петров воплотили два лика России. Один, стародавний, повернут в глубь ее теплых, укутанных лесами земель. Другой, новый, западнический, обращен к распахнутому простору, в котором сливаются вода и небо и откуда рвется холодный неприютный ветер. Москва в метафизическом, философском споре с Петербургом изображалась городом патриархальным, хлебосольным и медлительным. Для нелюбви к граду Петрову, по меткому замечанию Николая Бердяева, «большие были основания, ибо Петербург – вечная угроза московско-славянофильскому благодушию». Москва противостояла ему и как город коренной, и как город женственный: различие грамматических родов двух имен обыгрывалось в литературе неизменно. Писатели-прогрессисты, как автор «Горя от ума», видели в неподвижности и патриархальности Москвы косность, ретроградство и спячку ума и склонялись на сторону Петербурга. Авторы, ценившие простоту и естественность быта, теплоту семейственных связей, отдавали свои симпатии Первопрестольной и отворачивались от новой столицы, считая ее фальшивой и холодной. Так Лев Толстой превратил ретрограда Фамусова в милого хлебосола графа Илью Андреевича Ростова, а вздорную старуху Хлестову – в прямодушную и решительную Марью Дмитриевну Ахросимову. И эти любимые толстовские герои, и дочь Ростова Наташа – москвичи. А противные светские щеголи и карьеристы – родом из Петербурга.
Большевики закрыли эту тему. Вновь став столицей, Москва начала бурно развиваться – несоизмеримо стремительнее, чем Петербург-Петроград-Ленинград. Сталинская, а затем хрущевская реконструкции нанесли городскому ландшафту неизлечимые раны. Точечная застройка лужковской эпохи довершила дело. Впрочем, горькие потери московская архитектура несла и намного раньше: Белый город был разобран еще при Екатерине II, и по линии его стен протянулись деревья и дорожки Бульварного кольца. Тогда же славный архитектор Василий Баженов покусился и на самый Кремль. Кремлевскую стену он предлагал снести, заменив выстроенными впритык дворцами. Императрица «варварскую» Москву жаловала не особенно, но творческий пыл своего зодчего все же погасила…
Высотой элитных монолитов и офисных небоскребов город на Москве-реке давно превзошел Петербург. Трехсот– или четырехсотметровая башня, которую задумал было построить в Питере «Газпром», для Москвы – ничтожная малость. В граде Петровом она грозила сломать и испохабить весь культурный ландшафт.
Утрата Петербургом столичного статуса обернулась счастьем: город сохранился как архитектурный памятник. В отличие от Москвы, еще в советскую эпоху вычеркнутой из списка культурных достопамятностей ЮНЕСКО. Молодой и хищный российский капитализм для него как будто бы опаснее коммунизма: то там, то тут его щупальца выхватывают из старинной застройки обветшавший дом, на месте которого поганым грибом вырастает новодел. Зияющие раны появляются даже на Невском.
Петербург советской эпохи лишился своего антагониста – патриархальной Москвы и расстался с мифом о городе – химере и призраке. Он стал всего лишь прекрасным городом, пережившим свое время и незаслуженно доставшимся новым хозяевам и обитателям. В эту эпоху к Петербургу-Ленинграду приклеился штамп «культурная столица». Он был зримым и осязаемым символом русской культуры двух с небольшим веков – от Петра до крушения империи. Он был ковчегом для русской интеллигенции, сохранившей память о прежнем времени, его интонации, его язык. Иосиф Бродский вспоминал об образе, запечатлевшемся в сознании с детства: «…Был город. Самый красивый город на свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо – над ней самой. Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать». Без этой холодной и невообразимой красоты, без этой стройной панорамы дворцов, отраженной бесстрастной невской водою, была бы невозможна и поэзия самого Бродского – строгая, слегка отрешенная, чуждая истерики и надрыва. Выверенная по петербургскому камертону.
Меняются культурные ценности и поколения. Имперского Петра – Медного всадника у детей и подростков затмил Петр – монстр работы Михаила Шемякина. Высоченный урод с крошечной яйцевидной головкой и длинными-предлинными паучьими пальцами, словно сбежавший из Кунсткамеры, восседает посреди Петропавловки. Галдящие тинейджеры громоздятся к нему на колени и гладят императора по темечку. Руки и колени статуи отполированы до блеска. На Медного всадника никто, к счастью, влезть не пытается: значит, новой русской революции не будет… Все реже в речи петербургского жителя слышится «парадное» вместо безликого и всеобщего «подъезда» или «что» с начальным «ч», а не «ш» – знаки отличия коренных обитателей Петрополя. Они понемногу становятся достоянием анекдотов: «Человек садится в поезд на Московском вокзале и обращается к проводнику: “Простите, можно у Вас попросить чтопор?”» Петербург для постороннего, насмотревшегося криминальных сериалов, – теперь скорее «бандитский», чем «культурный». А также – кузница кадров для верхов российской власти. Но пока парит ангел на Петропавловском шпиле и плывет золотой кораблик над Адмиралтейством, пока хотя бы кто-нибудь читает «Медного всадника», петербургские повести Гоголя или стихи Мандельштама, – лик этого города не растворится в небытии.
А миф о Петербурге – миражном, «умышленном» городе исчез не совсем. Город словно растворился в двух своих именах – петровском (старом, то есть… тьфу… новом) и советском (новом… ой, нет… старом). Санкт-Петербург – столица Ленинградской области. Приехать в него из Москвы можно, сев в поезд на Ленинградском вокзале. Возможно, ваш поезд прибудет не в город, а в низменную местность, поросшую кустиками да чахлыми карликовыми елями. Но не отчаивайтесь: когда туман рассеется, вы точно увидите бронзового всадника на жарко дышащем, загнанном коне. Достоевский обещал.
Филологические этюды
Он лежал, полуприкрыв глаза и прислонившись к сосновому пню. Сосновые иглы, густо устлавшие пень и зацепившиеся в складчатой коре, слегка щекотали шею. Неутомимый муравей полз вверх по панталонам. Александр сбил его на траву легким щелчком. «Как странно, – подумал в полудреме. – Слова “панталоны” на русском нет, а сами панталоны есть…»
В жарком поздневесеннем мареве слегка подрагивали уже привычные, поднадоевшие и невыразимо близкие сердцу картины: вдали перед ним пестрели и цвели луга и нивы золотые, мелькали села; по лугу бродили коровы. Прелестный уголок… приют спокойствия трудов и вдохновенья, – как сказал бы чувствительный поэт, поклонник сентиментального швейцарца Руссо. Тьфу ты черт, да ведь это он сам некогда написал… «Зеленой сетью трав подернут сонный пруд…» Нет, дурная строка: сеть трав – манерная метафора, да и пруд зарос не водяной травой, а ряской. Не забыть сказать управляющему: пусть почистят…
Затылок наливался тяжестью и слегка побаливал: напоминали о себе шесть рюмок водки, неосторожно выпитые вчера в гостях у старого арапа Петра Абрамыча. Как там бишь говаривали о двоюродном деде его рабы: «Опять черный арап сидит на своем черном камне и думает свои черные думы»? Совсем черный арап, старый черт…
Солнце пекло, мысли в голове мешались. Внезапно иное воспоминание захватило его и запечатлелось в полувоздушном образе. Лицо его запылало, губы словно вновь ощутили прикосновение ее уст, солоновато-сладкий вкус ее лобзаний. Тело заныло сладкой истомой. Анна, Анна!.. В ответ – тишина… Ноющая дрожь охватила пальцы, которые словно просились к перу. «Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты… Как, как… та-та-та-та виденье… Как гений чистой красоты». Ай да Пушкин, ай да сукин сын!.. Постой-ка, «гений… чистой красоты». Да это ведь уже было! Жуковский! Точно, Жуковский… Ах подлец, обокрал меня… Нашел мои слова прежде меня…
«Воспоминанье в ночной тиши о тепле твоих… когда уснула». Что за варварский стих пришел на ум, экая барковщина, черт меня побери!..
И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха господин престранного вида. Во-первых, господин был одет в нечто весьма неприличное: неказистый peajack (именно так, в пушкинскую эпоху это галлицизм, ср. анекдот о Николае I и одном из светских вертопрахов) топорщился на нем, словно мешок на пугале, а панталоны (какое, право же, нерусское слово!..) отвисали пузырями на коленях. «Видать, лакей какого-то барина-чудилы, наряжающего свою дворню на нижегородско-французский манер», – успел подумать Александр. Но мысль эту тотчас же вытеснило тоскливое чувство ужаса: во-вторых, господин удивительно походил на него самого. Темные волосы, правда не столь курчавые, необычайно живые глаза… Но главное – такое же пытливое, чуть насмешливое выражение всей физиогномии… Только что бакенбард не наблюдалось.
Вдруг чудной пришелец заговорил, обратившись к нему:
– Ваши стихи «Я помню чудное мгновенье…» – какой интересный опыт обновления уже становившегося банальным стиля школы Батюшкова и Жуковского!.. Обыденная романсная форма, затертое любовное чувство… (тут незнакомец почесал затертые панталоны чуть выше колена) и какой семантический сдвиг при том: тема дана в динамике, а не в статике, условный образ – гений чистой красоты, – вроде бы отработанный Жуковским, оживлен и заземлен. Любовная тема как мотивировка приема, деавтоматизация штампа. Да, Виктор был прав!.. Как необычно зазвучали такие вроде бы невыразительные строки:
- И для меня воскресли вновь
- И божество, и вдохновенье,
- И жизнь, и слезы, и любовь!
Александр отпрянул и вскочил. Первой мыслью было: «Дать ему в рожу, в ухо, в другое, в третье! Какой-то сапожник судит не о сапогах. О поэзии! Простолюдин осмеливается амикошонствовать с шестисотлетним дворянином. Понабрался у своего барина учености: Батюшкова с Жуковским знает!.. А этот чудовищный варваризм. Как его: де-ав-то-ма-тизация!.. И как он смеет рассуждать о моей любви!»
Внезапно гнев сменился новой волной свинцового ужаса: привязчивый пришелец знал его еще не написанные стихи! А ведь строки, им произнесенные, даже не сочинены, они лишь неотчетливо реяли перед его внутренним взором, виделись как сквозь магический кристалл.
Александр повернулся и бросился бежать вверх по холму, туда, где чернелся его дом. Его замок. Его крепость. Прочь, прочь, прочь!..
Запыхавшийся, он вбежал на крыльцо. Ему было страшно, и он стыдился своего страха. Словно боясь собственного следа (Боже, как прав был Ломоносов!), он оборотился. Незнакомца не было…
Ввечеру, успокоившись, он рассказал странную историю своей старой няне. На столе тепло шумел разогревающийся самовар. Старушка отпила наливки, трясущимися руками поставила кружку на стол и, перекрестившись, произнесла:
– Ох, Лёксандра Сергеич, барин, друг ты мой сердешный, а вить ты сёдня повстречал беса полуденного…
Засыпая, Александр вновь ощутил страстные лобзанья Анны, подаренной ему благожелательным Морфеем. Но в голове все еще свербела мысль, засевшая в ней после встречи c охочим до муз безумным лакеем: «А дьявол-то существует, и вольтерьянцы напрасно против этого говорят».
Он стоял в шести шагах от бывшего друга, прямо перед ним, медленно поднимавшим пистолет недрогнувшей рукой. «Пустое сердце бьется ровно…» Когда-то эту строку написал он. Оказалось: не о Дантесе, а о приятеле своем Мартышке, Мартынове. Более чем когда-либо прежде Мишель любил в эту минуту природу. Как хотел он всмотреться в каждую росинку, трепещущую на широком листе виноградном и отражавшую мильоны радужных лучей! Как жадно взор его старался проникнуть в дымную даль! Но вокруг было голо и мертво. Камни громоздились по краям небольшой площадки. Поодаль одинокая тучка, вестница близкой грозы, зацепилась за складку иссиня-черного утеса, словно прильнула к его груди. Еще дальше виднелся двурогий Эльборус; серо-лиловые облака клубились вокруг его вершины. Да, скоро грянет буря… идти дождю стрелами.
Секунданты, показалось ему, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, поглядывая на небо. Пистолет поднялся и уставил свой пустой глаз прямо в его грудь. Как странно: перед лицом вероятной смерти время будто расширяется или останавливается, и человек может передумать и ощутить столь многое… Мишель закрыл глаза. Не от страха. От отвращения перед той жизнью, в которой четверть века томилась душа. Усилием воли заставил себя вновь их открыть.
Перед ним в шести шагах стоял некто в сером. На нем был штатский сюртук. Внешне поединщик немного походил на Мартышку. В руке был пистолет, наставленный прямо Мишелю в грудь.
– Я спрашиваю вас, реалист вы или романтик, – произнес лже-Мартынов, стараясь придать голосу твердость, а словам весомость. – Ваш роман «Герой нашего времени» ведь реалистическое произведение? Да?
Мишель молчал, не понимая, что происходит. Он знал, что жизнь – пустая и глупая шутка. Но никогда не предполагал, что настолько пошлая… Что его убийца будет задавать ему в последние мгновения такие бессмысленные вопросы… «Романтизм», «реализм» – какие пустые, ненужные слова! Мертвые, как обгорелые головешки: ни пламени, ни света… Или это Бог карает его за насмешки над Небом и Провидением?..
– Печорин типичен, это социальный тип молодого дворянина, не нашедшего себя в условиях николаевской реакции. Ваш роман – реалистический! – с лихорадочной быстротой заговорил убийца. – Скажите мне это. Еще есть время; и я вам прощу все. Прощу ваш запоздалый романтизм юных лет, прощу подражание Козлову в «Мцыри»… Вспомните: я написал о вас три монографии и две диссертации… Мы можем стать друзьями…
Лицо у Мишеля вспыхнуло, глаза засверкали.
– Стреляйте, – отвечал он. – Я себя презираю, ибо своими творениями позволил писать вам подобное… А Вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла… Нам на земле вдвоем нет места…
Некто в сером выстрелил.
Мишель вздрогнул и открыл глаза. В шести шагах перед ним стоял Мартынов. Пистолет был направлен прямо в грудь Мишелю. Все было по-прежнему. Ясно и просто.
Мишель презрительно усмехнулся кончиками по-детски пухлых губ. Мартынов выстрелил.
Над Эльборусом ударил гром и гигантским двузубцем сверкнула молния. Начиналась гроза.
Больной наконец успокоился и уже не метался в своей беспокойной постеле. Врачи уже не мучили его: не лили на голову холодную воду, не сажали пиявок на грудь, не кормили насильно питательным бульоном. Вчера он исповедался и причастился. Он ощущал в душе и теле странную, неземную легкость. Он был пуст. Пуст от грехов, вычищенных благою волею Создателя всего. Казалось: слабое дуновение – он поднимется, воспарит прочь со своего смертного ложа, прочь – от занесенного февральской метелью дома графа Алексея Петровича Толстого, от пряничной Москвы… Вскрикнул в испуге остановившийся пешеход! и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, брошенная в небо? Что значит это наводящее ужас движение? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканьи, где не успевает означиться пропадающий предмет, только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны.
То возвращается в Обитель Небесную душа раба Божия Николая… Ныне отпущаеши, Господи, раба Твоего с миром.
Умирающий открыл глаза, и в неверном, рассеянном утреннем полусвете нарисовалась фигура некоего господина. Явившийся был не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Такая наружность, подумал Гоголь, верно, была у его Павла Ивановича Чичикова из «Мертвых душ», второй том которых он недавно сжег.
Из всей одежды визитера обращала на себя внимание одна только бабочка. Необычайно яркая, с прихотливым рисунком на крыльях, она будто трепетала на шее. Но улететь не могла. Незнакомец пристально взглянул на лежащего и заговорил – неторопливо, уверенно – так, как читает лекции опытный профессор:
– Вы странное создание, но гений всегда странен. Вы, как всякий великий писатель, шли по краю иррационального. Вы резвились на краю глубоко личной пропасти… Но скажите, во имя чего, какою злою волею вы стали проповедником, из Гоголя-художника попытались превратиться в Гоголя-святошу?..
Умирающий видимо встрепенулся. Какая-то неведомая сила словно приподняла его с кровати. В сильном волнении вперил он свой взгляд в говорящего. Показалось (почудилось или впрямь?..), будто сверкнули в ответ зеленые-зеленые кошачьи глаза, каких и у котов-то не бывает… Уж не сам ли нечистый вновь явился ему в обличье кота, как прежде, в детстве, лукавый посетил его, обернувшись кошечкой… А он топил, топил, топил ее в пруду, пока не захлебнулась. Пока не сгинул черт.
За спиной у незваного гостя вились какие-то рыла с нетопыриными крыльями. А дальше виднелся невероятный город – с домами-башнями в десятки этажей, выстроенными из золота… Город желтого дьявола. Новый Вавилон. Ад.
Неужто он не спасется? Ужели сатана опутает его своими тенетами?..
– Ваш образ не есть образ Божий. Ваш образ – нос. Большой, одинокий, острый нос, четко нарисованный чернилами, как увеличенное изображение какого-то важного органа необычной зоологической особи, – продолжал бес. (Теперь уже было яснее ясного, что это он, бес, черт!..)
– Да воскреснет Бог и расточатся врази Его! – вдруг негромко, но твердо произнес доселе молчавший больной. И тотчас же с обликом пришельца начали происходить странные метаморфозы: сначала он весь вытянулся, превратившись в подобие шахматного слона с редькою вместо головы, затем обернулся полунагой нахальной девицей, которая отвратно усмехнулась, и высунула кроваво-красный длинный язык, и похотливо провела им по своим губам. Вслед за тем юная блудница вспыхнула бледным пламенем и в мгновенье исчезла, оставив после себя запах не то эфира, не то серы.
Достоевский сидел за столом. Перед ним лежала стопка чистых листов. По краям громоздились кучки новеньких блестящих талеров: их он вчера выиграл в рулетку.
Он думал о новом романе, но концы никак не сходились. В его воображении бесы нигилизма, химеры западничества и идейный убийца оказывались живее, ярче, убедительнее своих противоположностей, призванных обличить и вечное зло, и зло текущего: кроткий священник и раскаявшийся террорист рисовались нечетко, расплывчато, выглядели худосочно. Тушевались на ярком фоне.
Он отпил холодного чаю из стакана, не вынимая чайной ложки, помял гусиное перо в натруженных, подмороженных еще в каторжные времена пальцах. (Металлических перьев он не любил.) Ничего, что холодный… Вдруг подумалось: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить, коли он остыл?» Вдруг он на мгновенье забылся.
Очнувшись, он вдруг увидел перед собою еще не пожилого господина интеллигентной наружности с бородою, немного напоминавшего доброго знакомца философа Соловьева.
– Кто вы и чему обязан я вашим визитом, милостивый государь? – раздраженно проговорил хозяин, положив перо на стол и нервно потирая одну ладонь о другую. – Я, знаете ли, работаю над романом, и вдруг вы меня потревожили… Роман-с то как-то того-с… не идет…






