Перекличка Камен. Филологические этюды Ранчин Андрей
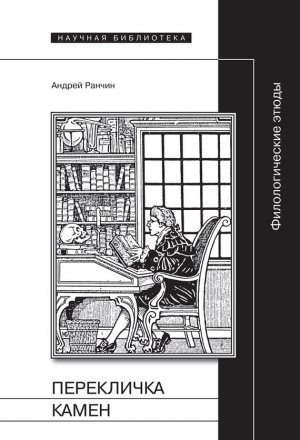
Интерпретация теории «Москва – Третий Рим» как политической и имперской, по-видимому, представляет аберрацию, порожденную историческим сознанием Нового времени[782], однако такая рецепция средневековой историософемы возникла не случайно, не на пустом месте. Послания Филофея, излагающие теорию «Москва – Третий Рим», создаются приблизительно в одно время с текстами, утверждавшими кровное родство русских монархов с римским императором Августом и повествующими о вручении Владимиру Мономаху византийских императорских регалий константинопольским царем. Совпадение во времени, строго говоря, отнюдь не свидетельствует об общем идейном контексте этих сочинений, но указывает на возможную корреляцию идей: идея религиозного преемства по отношению к апостольскому Риму и к православному Царьграду дополнялась представлением о политическом наследовании и первому, и второму Риму.
В XIX–XX столетиях формула «Москва – Третий Рим» стала элементом метаописания русского историософского сознания, обозначением и религиозного мессианизма, и культурного изоляционизма, и различных проявлений национальной идеи, и политических притязаний[783]. Для Осипа Мандельштама, как и для тех из его современников, кто не был профессиональным исследователем древнерусской словесности, формула «Москва – Третий Рим» хранила в себе множественные и различные смыслы; едва ли, например, он осознавал религиозную эсхатологическую теорию монаха Филофея и проекты отвоевания Константинополя Россией и восстановления Византийской империи как различные идеи. Можно предположить, что византийские реалии в поэзии Мандельштама внутренне связаны с русской темой, с мотивами русской истории и русской судьбы; мандельштамовская полемика с мессианистской идеей о России – преемнице Византии и хранительнице православия является репликой в споре – осмыслении мифологемы «Москва – Третий Рим».
Византии посвящено стихотворение «Айя-София» (1912), вошедшее в третье издание сборника «Камень» (1923). К. Браун напомнил, что «Айя-София» была впервые напечатана вместе со стихотворением «Notre Dame» – в третьем номере журнала «Аполлон» за 1913 год. Исследователь заметил, что стихотворения, изображающие прославленные православный и католический храмы, составляют своеобразный диптих; по мысли К. Брауна, в «Камне» 1923 года они объединены в триптих вместе с третьим текстом – «Лютеранином», воплощающим идею протестантизма[784]. Наблюдения К. Брауна справедливы, но раскрывают лишь один смысловой план стихотворения «Айя-София». Их дополнили исследователи, указавшие, что и в «Айя-София», и в «Notre Dame» «звучит дорогая Мандельштаму тема культурной непрерывности: Notre Dame возник на месте римского судилища, Айя-София переживет народы и века»[785].
Св. София организует и время, и пространство. Она – зримое напоминание о прошлом, об основании Константинополя:
- Айя-София – здесь остановиться
- Судил Господь народам и царям![786]
Мандельштам подразумевает легенду, по которой сам Бог указал Константину Великому место для основания города[787]. Эти строки отсылают к прошлому, к первоистоку истории Константинополя; их (а точнее, заключенного в этих стихах смысла) «начальному» положению на временнй оси соответствует место в тексте: они открывают стихотворение. Завершается «Айя-София» строками, свидетельствующими о будущем святыни:
- И мудрое сферическое зданье
- Народы и века переживет,
- И серафимов гулкое рыданье
- Не покоробит темных позолот (с. 106).
Соответственно, глагольные сказуемые в начале стихотворения имеют форму прошедшего времени, в последних строках – будущего. Настоящему временному плану в стихотворении соответствует описание св. Софии в предпоследней, четвертой строфе.
Подчеркивается и срединное, центральное положение храма в пространстве: обозначены запад и восток как ориентиры («Расположил апсиды и экседры, / Им указав на запад и восток» [с. 106]). Сам же город был заложен Константином в месте, где сходились европейские и азиатские дороги: «<…> [В]ыбранное место стало узловым пунктом империи, связавшим воедино юг, восток и запад»[788].
Св. София в стихотворении Мандельштама символизирует скорее не православие, а вечность и божественное совершенство («храм, купающийся в мире», «мудрое сферическое зданье»). Запад и восток, к которым обращены «апсиды и экседры», – не просто стороны света, но и, вероятно, католицизм и православие – западное и восточное христианство. Мандельштам называет в «Айя-София» имя императора-храмостроителя – Юстиниан. При Юстиниане христианство еще не было разделено на западное и восточное вероисповедания. Юстиниану удалось воссоединить целостность Империи, отвоевав Запад (Италию) у варваров. Конфессиональные различия блекнут или исчезают перед лицом Культуры. Возможно, в мандельштамовском тексте снимается не только оппозиция «православие – католичество», но и противопоставление «христианство – ислам». Строки «здесь остановиться / Судил Господь народам и царям» могут относиться не только к Константину (он единственный христианский царь, «остановившийся» на Босфоре, слова о «народах» едва ли применимы к одному народу, ромеям-византийцам, и до Константина населявшим земли Империи). На западном берегу Босфора «остановились» в 1453 году завоеватели Константинополя – турки, возглавляемые «царем» – султаном Мехметом Фатихом. Но мандельштамовские строки могут быть не только свидетельством о прошлом византийской столицы, но и пророчеством о ее будущем. При таком прочтении «народы и цари» – это славяне и прежде всего русский народ и его правители, призванные создать на земле бывшей Византии православную славянскую империю – ее преемницу. Сказания об освобождении русскими Византии, порабощенной «безбожными агарянами», были распространены в Древней Руси[789]. Идея отвоевания греческих земель у турок воодушевляла царя Алексея Михайловича и воплотилась в так называемом «греческом проекте» Екатерины II. Она сохраняла значение и в 1910-е годы.
В русской поэзии эту идею с особенной интенсивностью и настойчивостью выразил Ф.И. Тютчев:
- Москва и град Петров, и Константинов град –
- Вот царства русского заветные столицы…
- Вставай же, Русь! Уж близок час!
- Вставай Христовой службы ради!
- Уж не пора ль, перекрестясь,
- Ударить в колокол в Царьграде?
- «<…>И своды древние Софии,
- В возобновленной Византии,
- Вновь осенят Христов алтарь».
- Пади пред ним, о царь России, –
- И встань как всеславянский царь!
- То, что Олеговы дружины
- Ходили добывать мечом,
- То, что орел Екатерины
- Уж прикрывал своим крылом, –
- Венца и скиптра Византии
- Вам не удастся нас лишить!
- Всемирную судьбу России –
- Нет, вам ее не запрудить!..
- Тогда лишь в полном торжестве
- В славянской мировой громаде
- Строй вожделенный водворится,
- Как с Русью Польша помирится, –
- А помирятся ж эти две
- Не в Петербурге, не в Москве,
- А в Киеве и в Цареграде…
В историософии Тютчева, наиболее полно выразившейся в набросках к ненаписанному трактату «La Russie et l’Occident», Россия названа «залогохранительницей Империи»; Россия не просто преемница Византии, но продолжающаяся Византийская империя («окончательная» империя). «Империя едина: православная Церковь – ее душа, славянское племя – ее тело. <…>
Империя Востока: это Россия в окончательном виде». По мнению Тютчева, «мы приближаемся ко Вселенской монархии, то есть к восстановлению законной Империи»[792].
Трактат был опубликован только в 1988 году. Но Мандельштам мог познакомиться с изложением историософских идей поэта в книге И.С. Аксакова «Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк» (М., 1874; 2-е изд.: М., 1886), а также в тютчевской статье «Папство и римский вопрос»[793]. На фоне тютчевских текстов очевидно «уклонение» Мандельштама, нежелание акцентировать политико-историософскую идею о России – наследнице Византии. «Несоответствия» «византийских» стихотворений Тютчева и «Айя-София» особенно очевидны на фоне перекличек с тютчевскими произведениями в других поэтических текстах «Камня»[794]. Тютчевские декларации однозначны. Мандельштамовское упоминание о «народах и царях» – затемненный намек, допускающий различные толкования. В строках «мудрое сферическое зданье / Народы и века переживет» вечное бытие архитектурного шедевра противопоставлено преходящему существованию «народов», к числу которых относятся не только обладающие ныне Константинополем турки[795], но и притязающие на византийское наследие русские.
Другое произведение Мандельштама, соотнесенное с русской историософской традицией (содержащее отсылку к теории «Москва – Третий Рим»), – стихотворение «На розвальнях, уложенных соломой…» (1916), вошедшее в книгу «Tristia» (1922). Стихотворение многопланово, означающие-актанты в тексте указывают одновременно на несколько означаемых. «Мы» – это и сам Мандельштам и Марина Цветаева, и Лжедимитрий I (Григорий Отрепьев); но «царевич» в финале стихотворения ассоциируется и с подлинным Димитрием (об этом свидетельствуют упомянутые ранее в тексте Углич и играющие дети), и с царевичем Алексеем, привезенным по приказу отца для окончательного суда из Москвы в Петербург (Г.М. Фрейдин в своей книге о Мандельштаме привел параллели из романа Д.С. Мережковского «Петр и Алексей»); однако этими именами ассоциативное поле стихотворения, открытого для взаимодополняющих интерпретаций, не ограничивается. Г.М. Фрейдин в книге «A Coat of Many Colors» указал на соответствие между «розвальнями, улженными соломой» и сюжетом картины И.И. Сурикова «Боярыня Морозова», а также истолковал «Воробьевы горы» как отсылку к клятве Герцена и Огарева и, соответственно, как указание на выстраиваемый Мандельштамом сюжет ‘мученичество русского интеллигента’; в статье «“Сидя на санях”» Г.М. Фрейдин отметил другую параллель к мандельштамовскому тексту – сани, на которых перевозили гроб с телом Пушкина[796].
«Старообрядческие» коннотации сюжета «На розвальнях, уложенных соломой…», сюжета ‘убиение/сожжение героя (царевича и одновременно самозванца)’ могут быть существенно дополнены. Если «розвальни, уложенные соломой…» обозначают, кроме прочего, сани боярыни Морозовой, то подразумеваемая героиня стихотворения – не только Марина Цветаева, но и эта исповедница «старой веры». Основой уподобления, связующим звеном между ними может служить самоименование Цветаевой «болярыня Марина» («Настанет день – печальный, говорят!» [I; 271])[797]. Но если героиня ассоциируется с Мариной, то ее спутник, несомненно, должен идентифицироваться с ее духовным отцом Аввакумом, также принявшим смерть во имя веры (Г. Фрейдин в своих работах называет имя Аввакума, но не сопоставляет мандельштамовское произведение с его «Житием»). Мандельштамовский текст обнаруживает многочисленные переклички с «Житием» Аввакума, внимательным и впечатлительным читателем которого Мандельштам был еще в детстве[798]. Рассказывая о первом аресте, Аввакум пишет: «<…> посадили меня на телегу, и ростянули руки, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря»[799]. Растянутым рукам из «Жития» соответствуют затекшие связанные руки в стихотворении, сходно описание езды в санях – указываются начальная и конечная точки (от патриаршего двора до Андроникова монастыря у Аввакума, от «Воробьевых гор до церковки знакомой» у Мандельштама). Мотив Аввакумова «волочения», насильственного перевоза в телеге или на санях неоднократно повторяется в «Житии»; после осуждения на соборе 1666–1667 годов протопопа «повезли <…> на Воробьевы горы» (с. 60; несколько иной текст редакции В – с. 60–61, примеч.). Мандельштамовская строка «По улицам меня везут без шапки» (с. 133) соответствует не только развенчанию царя, лишению его монарших регалий (шапки Мономаха), но и поруганию и расстрижению старообрядца (ср. рассказ Аввакума о расстрижении муромского протопопа Логина, у которого никониане отняли шапку – с. 29).
Соответствия «Житию» Аввакума обнаруживаются и в других строках мандельштамовского стихотворения. Слово «хлеб» в стихе «И пахнет хлеб, оставленный в печи» (с. 133) не только обладает коннотациями ‘тепло’, ‘уют’, ‘дом’, но и рождает евхаристические ассоциации с хлебом причастия, бескровной жертвы Христовой. Евхаристическая символика хлеба – лейтмотив статьи Мандельштама «Пшеница человеческая» (1922)[800]; образ-символ хлеба Христовой веры занимает центральное место в стихотворениях «Люблю под сводами седыя тишины…» (1921) и «Как растет хлебов опара…» (1922); «сугроб пшеничный», ассоциирующийся, по-видимому, с движением времени, с его плодоношением и с жертвой во имя истории, упомянут в стихотворении «1 января 1924» (1924). Евхаристическая символика хлеба – жертвы во имя веры встречается и в аввакумовской автоагиобиографии. Рассказывая о казни исповедника «истинной веры» инока Авраамия, автор «Жития» сравнивает его смерть с печением хлеба: «отступники на Москве в огне испекли, и яко хлеб сладок принесеся [C]вятей [Т]роице» (с. 57–58). К. Браун отмечал амбивалентность мотива тепла, огня в мандельштамовском стихотворении: это и доброе тепло хлеба, и «злое» пламя сжигающего костра[801]. Мандельштамовский образ хлеба более сложен: как и у Аввакума, он соединяет семантику смерти и воскресения, горести и торжества веры[802]. Последняя строка стихотворения «На розвальнях, уложенных соломой…» – «И рыжую солому подожгли» (с. 134) – указывает не только на сожжение тела убитого «Димитрия» – Отрепьева, но и на сожжение старообрядцев (прежде всего Аввакума).
Аввакумовский подтекст присущ в стихотворении Мандельштама и образу трех свеч, теплящихся в часовне. Этот образ – реминисценция цветаевских строк «Загораются кому-то три свечи»[803] и в то же время параллель к рассказу «Жития» о том, как Аввакум, исповедовавший блудницу, «сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным, <…> зажег три свещи <…> и возложил руку правую на пламя, и держал, дондеже <…> угасло злое разжежение» (с. 23). Страсть героя и героини мандельштамовского стихотворения амбивалентна, в ней есть губительное и греховное начало, что подразумевает отождествление героя с самозванцем, нарушающим принцип легитимности[804]. Огонь, пламя в стихотворении означают не только жертвы истории, трагедию русской судьбы, но и разрушительность всесжигающей страсти.
Огонь в «На розвальнях, уложенных соломой…» символизирует русскую душу в ее жажде саморазрушения. Этот образ напоминает о характеристике русских в статье Вячеслава Иванова «О русской идее»[805] как «народа самосжигателей», тоскующих «по огненной смерти».
Центральное место в композиции стихотворения занимает третья строфа, содержащая аллюзию на теорию «Москва – Третий Рим»:
- Не три свечи горели, а три встречи –
- Одну из них сам Бог благословил,
- Четвертой не бывать, а Рим далече –
- И никогда он Рима не любил (с. 133).
Местоимение «он» исследователи истолковывали как указание на самого Мандельштама, в статье «Скрябин и христианство» (1917) написавшего о безблагодатности Рима и римской культуры; как обозначение Владимира Соловьева (к поэме которого «Три свидания» отсылают мандельштамовские три встречи)[806]. Но «он» может также относиться и к первому самозванцу, принявшему католичество и получившему престол благодаря поддержке папского Рима, но не выполнившему обязательства перед римским первосвященником, не пытавшемуся обратить Россию в «латинскую веру». Это местоимение может также обозначать и царевича Алексея, истового приверженца допетровской старины, надеявшегося (таков парадокс истории) спастись от отцовского гнева не только благодаря поддержке австрийского императора, но и благодаря покровительству Римского престола[807]. Для Мандельштама и убитый за мнимую или истинную приверженность католичеству[808] Лжедимитрий I (Григорий Отрепьев), и любящий допетровскую старину царевич Алексей, и «западник» и «русский социалист» Герцен, и «западник» и филокатолик Владимир Соловьев – все они истинные русские, бессмысленно и несправедливо обвиненные в отступничестве. Мандельштам строит своеобразный метасюжет «русской гибели» с метаперсонажем – лжеотступником, превратно заподозренным и обвиненным в измене (именно такое обвинение привело к восстанию против первого Лжедимитрия и к убийству Отрепьева). Структура метасюжета такова: «свой» «своими» (русский русскими) воспринят как «чужой» и предан смерти. Варианты этого метасюжета, в свернутом виде содержащиеся в стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой…» – гибель любовника (отсылки к двум Лжедимитриям и к третьему мужу Марины Мнишек атаману Ивану Заруцкому и автобиографический подтекст), гибель поэта (отсылка к погребению Пушкина и автобиографический план), гибель исповедника старой веры (переклички с суриковской картиной и с «Житием» Аввакума). Соотнесенность образа героя стихотворения с мотивом казни старообрядцев поддерживается аллюзией на теорию «Третьего Рима»: исповедники старой веры разделяли Филофееву идею и ощущали реформы Никона как знаки крушения «Третьего Рима», последнего оплота благочестия[809]. Мандельштам «переворачивает» цветаевский вызов – дарение ему, европейцу, известному «прокатолическими» симпатиями, Москвы[810]. В цветаевском «Ты запрокидываешь голову…» (а также и в «Из рук моих – нерукотворный град…») лирическая героиня, alter ego самой Цветаевой, вводит героя (поэтического двойника Мандельштама) в город и венчает на царство: «Я доведу тебя до площади, / Видавшей отроков-царей…» (I; 253). Отрок-царь напоминает одновременно и о Димитрии-царевиче, убиенном в отрочестве, и о его «тени» Отрепьеве, занявшем московский престол. Цветаева, отождествлявшая себя в стихах с Мариной Мнишек, совершает своеобразную инверсию ролей: согласно истории, наоборот, Отрепьев вводит Марину в город, «открывает» ей Москву. Мандельштам, отвечая Цветаевой в «На розвальнях, уложенных соломой…», утверждает свою русскую роль: «И никогда он Рима не любил». Поэтический диалог с Цветаевой содержит полемические реплики. Цветаева обещала воцарение, Мандельштам пишет о гибели.
Но разрыв с Римом («четвертой не бывать, а Рим далече») в мандельштамовском стихотворении сохраняет значение трагедии[811]. В статье Мандельштама «Петр Чаадаев» (1914) формула «Москва – Третий Рим» была представлена как знак изоляционизма, национальной обособленности: «История – лестница Иакова, по которой ангелы сходят с неба на землю. Священной должна она называться на основании преемственности духа благодати, который в ней живет. Поэтому Чаадаев и словом не обмолвился о “Москве – третьем Риме”. В этой идее он мог увидеть только чахлую выдумку киевских монахов» (I; 196). Демонстративная и бесспорно намеренная неточность – упоминание о киевских монахах – призвана подчеркнуть пренебрежительное отношение к самой идее и ее провинциализм.
Итак, смысл стихотворения не может быть сведен ни к гибельности нарушения закона (К. Браун[812]), ни к «деформации биографической фабулы идеологическим сюжетом, почерпнутым из репертуара русской интеллигенции конца XIX – начала XX века» (Г. Фрейдин[813]). К.Ф. Тарановский и Г.М. Фрейдин привели параллели к строке «А в Угличе играют дети в бабки» из других стихотворений Мандельштама («Век», «Нашедший подкову», «Грифельная ода»); Г.М. Фрейдин отметил, что образный ряд этих стихотворений объединяет мотив жертвы ребенка, кровью скрепляющей века[814]. Параллели могут быть дополнены: этот мотив развернут и в «1 января 1924», герой которого изображен рядовым седоком в санях и наделен жертвенной готовностью по-сыновнему заботиться о веке и соединять времена. В контексте других стихотворений Мандельштама метасюжет «На розвальнях, уложенных соломой…» приобретает смысл жертвы, принесенной ради соединения времен.
И «западничество», и изоляционизм мыслятся Мандельштамом – автором «На розвальнях, уложенных соломой…» как два полюса единой русской души. «Третий Рим» оказывается формулой, способной описывать и самодостаточность, обособленность России, и ее устремленность к Западу и западной культуре. Русские историософские сочинения – от философской публицистики Владимира Соловьева до современных Мандельштаму текстов – содержат много примеров такого предельно широкого и порой противоположного осмысления формулы «Москва – Третий Рим». Возможно, они послужили отправной точкой для мандельштамовской трактовки этой формулы. В философско-публицистических сочинениях Владимира Соловьева «Великий спор и христианская политика», «Русская идея», «Византизм и Россия» формула «Москва – Третий Рим» означает и духовные изъяны России, наследующей худшие черты Византии («второго Рима»), и провиденциальное указание на миссию России в будущем как примирительницы Востока и Запада, православия и католицизма[815]. Для Вячеслава Иванова «Москва – Третий Рим» – это свидетельство о «Риме Духа», о призвании русских к преодолению обособленности, к служению «вселенской правде»[816]. И.А. Кириллов в книге «Третий Рим: Очерк исторического развития идеи русского мессианизма» (1914) использует формулу «Москва – Третий Рим» для характеристики воззрений самых разных русских религиозных философов – от Хомякова до Владимира Соловьева (в этом отношении автор книги следует за Н.А. Бердяевым). Для И.А. Кириллова запечатленная в этой формуле «идея мессианизма есть ось нашего национального самосознания; она объединяет смысл деталей, дает цель и придает ценность проявлениям нашего народного духа»[817].
Стихотворение «На розвальнях, уложенных соломой…» было включено Мандельштамом во «Вторую книгу», вышедшую год спустя после сборника «Tristia». Лейтмотивом этой книги «становится повторяющийся образ заключительного этапа политической, национальной, религиозной и культурной истории: конец династии Пелопидов, Троя перед падением, Иудея после вавилонского пленения, упадок Москвы в Смутное время, Венеция XVIII века, гибнущий Санкт-Петербург в 1918 году, “несчастья волчий след” на ступенях закрытого большевиками Исаакиевского собора <…> остывающий песок после смерти человека»[818]. В отличие от других стихотворений книги, посвященных отдельным эпохам, в «На розвальнях, уложенных соломой…» соединены сразу три переломные эпохи – Смута, петровское время и современность, ощущаемая, несомненно, как канун грандиозных перемен. Три Рима, три свечи, три встречи обозначают кроме многого прочего эти три «перелома» в исторической судьбе России.
Телесный код в стихотворении Марины Цветаевой «Настанет день – печальный, говорят!»
- Настанет день – печальный, говорят!
- Отцарствуют, отплачут, отгорят,
- – Остужены чужими пятаками –
- Мои глаза, подвижные как пламя.
- И – двойника нащупавший двойник –
- Сквозь легкое лицо проступит лик.
- О, наконец тебя я удостоюсь,
- Благообразия прекрасный пояс!
- А издали – завижу ли и Вас? –
- Потянется, растерянно крестясь,
- Паломничество по дорожке черной
- К моей руке, которой не отдерну,
- К моей руке, с которой снят запрет,
- К моей руке, которой больше нет.
- На ваши поцелуи, о живые,
- Я ничего не возражу – впервые.
- Меня окутал с головы до пят
- Благообразия прекрасный плат.
- Ничто меня уже не вгонит в краску,
- Святая у меня сегодня Пасха.
- По улицам оставленной Москвы
- Поеду – я, и побредете – вы.
- И не один дорогою отстанет,
- И первый ком о крышку гроба грянет, –
- И наконец-то будет разрешен
- Себялюбивый, одинокий сон.
- И ничего не надобно отныне
- Новопреставленной болярыне Марине.
Тело и телесное – значимая сфера культуры и, соответственно, особенный элемент поэтики художественного текста: телесное может обозначать различные смыслы, оно не является асемантичным, не равно самому себе[820]. Исключительно важную роль тело и его органы играют в поэтике так называемого «исторического авангарда», к которой принадлежит и творчество М. Цветаевой[821]. На первый взгляд семантика тела в анализируемом стихотворении Цветаевой традиционна для христианской традиции; ее можно описать теми же словами, какими Е. Фарыно охарактеризовал трактовку тела в цветаевском поэтическом цикле «Бессонница»: «<…> “я” постепенно теряет свою телесность и приближается к статусу ангелоподобного бесплотного существа (“как серафим”, “я гость небесный”)»[822]. Индивидуально цветаевскими инвариантными мотивами являются не такое отчуждение от собственного тела, а вбирание мира в себя («раковинная природа» «я») и истолкование чувственного начала как неотъемлемого свойства, присущего мифологическому естеству «я»[823].
Действительно, в стихотворении «Настанет день – печальный, говорят!» прежнему состоянию страстности, обозначенному «пламенем» горячих (ныне «остуженных») глаз и «поясом» («пояс» ассоциируется с неприступностью, целомудренностью или девственностью – ср. символику развязывания пояса в античной поэзии), противопоставлены теперешние бесстрастность, «благообразие», достигнутые в смерти. Обретенное героиней бесстрастие-благообразие может интерпретироваться как вариант «существеннейшей в поэтической системе Цветаевой семантики отказа от пола»[824]. Наделение руки лирической героини признаком не-существования («к моей руке, которой больше нет») – средство обозначить именно такое отчуждение «я» от собственного тела, ставшего бесчувственным и потому не-реальным, по крайней мере в сравнении с прежним, досмертным состоянием. Тело, преображенное смертью, приобретает признаки святости. Прежде всего, это свойство выражено в оппозиции «лицо – лик»: церковнославянизм «лик» в данном контексте, в описании погребения и рядом с упоминанием о Пасхе, наделен сакральными коннотациями; «лик» – это образ, икона и это просветленное божественным духом лицо святого. Синоним слова «икона» – «образ» – зашифрован в лексеме «благообразие», воспринимающейся как окказиональное производное от образа-иконы: «О, наконец тебя я удостоюсь, / Благообразия прекрасный пояс!»; «Меня окутал с головы до пят / Благообразия прекрасный плат». Употребление слова «лик» в цветаевской поэзии и в других случаях связано с семантикой преображения, «истончения» плоти, отрешения от земного мира и его страстей: «Нежно светлеют губы, и тень золоче / Возле запавших глаз. Это ночь зажгла / Этот светлейший лик, – и от темной ночи / Только одно темнеет у нас – глаза» («После бессонной ночи слабеет тело…» из цикла «Бессонница» [I: 283])[825]. Целование руки покойной, очевидно, наделено признаками приложения к мощам святой: не случайно провожающие умершую лирическую героиню названы паломниками: «Паломничество по дорожке черной».
Такая семантика телесного кода может показаться тривиальной; не тривиально в ней лишь самоопределение лирической героиней себя как святой. Однако на самом деле механизм смыслопорождения в стихотворении намного более сложен, а значения, передаваемые с помощью телесного кода, внутренне противоречивы, амбивалентны.
Прежде всего, новое (святое) тело, обретенное лирической героиней, не есть в полной мере ее, не принадлежит ей: руки «больше нет», а значит, в экзистенциальном смысле нет теперь и ее тела. Иконописный лик святого мыслится как выражение в нем неизменного, вечного, божественного, то есть сущностного. А в цветаевском тексте «лик» назван «двойником» «лица» живой героини, – двойничество же означает не сущностное тождество, а лишь повторение похожего или одного и того же, ассоциируется с узурпацией и подменой. М. Цветаева наделяет «лицо» эпитетом «легкое», имеющим несомненные позитивные коннотации, ассоциирующимся со свободой от материи, от плотской тяжести; традиционное ожидание требовало бы скорее, чтобы такой признак был присущ «лику». Лишенный эпитета «легкий», в соотношении с «лицом» «лик» воспринимается как его антоним, как нечто тяжелое. Тяжелый лик вызывает ассоциации с маской, в том числе посмертной. Маска же инородна по отношению к лицу и к «я». Впрочем, в тексте содержатся и указания на возможность традиционной интерпретации соотношения земной плоти и плоти преображенной. «Легкое» может иметь и пейоративные коннотации, как легковесное. А проступание «лика» сквозь «лицо» позволяет истолковывать бренную плоть «я» только лишь как оболочку для истинной сущности. «Легкое лицо» – это истончающаяся в смерти плоть, через которую и проступает неизменный, вечный лик. Однако представляется несколько неожиданным, что плоть/лицо служит оболочкой для иной плоти/лика, а не для души, как это было бы в традиционном случае. Цветаевская героиня словно бы наделена двойным телом – до– и по-смертным.
Лексема «нащупавший» в применении к «лику» ощущается также как неожиданная. Это слово, обозначающее тактильные ощущения, ассоциируется со слепотой: нащупывает нечто слепой, тот, кто лишен зрения. И действительно, «лик» в стихотворении Цветаевой слеп: ведь у него нет глаз, которые «отгорели»; их заменяют холодные и «чужие» пятаки. Преображение тела святого, его нетление в христианской традиции связывается с просветлением. Между тем в стихотворении «Настанет день – печальный, говорят!» «лик» скорее темный, чем светлый. Семантика темноты, не-света и пейоративные коннотации, связанные со смертью и погребением героини, очевидны в эпитете «черная» из следующей строфы: «Потянется, растерянно крестясь, / Паломничество по дорожке черной».
Свет, имеющий в поэзии М. Цветаевой высокий ценностный смысл, в своем роде сакральный, представлен как атрибут лирического «я», обладающего светоносным взглядом; пример: я – световое око в поэме «Попытка комнаты»[826]. По наблюдениям Е. Фарыно, для М. Цветаевой характерны оппозиции «око – глаз» и «око – зрак», в которых первый элемент получает коннотацию «сакральное», а второй – «демоническое»[827].
Впрочем, в цветаевской поэзии слепота, незрячесть может приобретать и позитивный смысл отрешенности от внешнего, поверхностного, суетного, она выражает взгляд «я» внутрь себя: «На ложе из лож / Сложившим великую ложь лицезренья, / Внутрь зрящим – свидание нож» («Эвридика – Орфею» [Цветаева II; 183]; слепота – метафорический эквивалент высшего зрения поэта: «Что же мне делать, слепцу и пасынку, / В мире, где каждый и отч и зряч» («Что же мне делать, слепцу и пасынку…» из цикла «Поэты» [II; 185]).
Смерть в стихотворении М. Цветаевой «Настанет день – печальный, говорят!» наделена двойственной, амбивалентной семантикой. Она может быть истолкована как освобождение духовного начала. Сама физическая, плотская кончина парадоксальным образом связывается с воскресением, она именуется Пасхой: «Святая у меня сегодня Пасха». Написание стихотворения действительно приурочено к Пасхе 1916 года, и это событие является не чисто биографическим обстоятельством, а текстовым фактором: дата написания намеренно указана автором. Эта метафорическая «Пасха» лирической героини вызывает ассоциации с истинной Пасхой – Воскресением Христовым и потому приобретает коннотации побежденной, преодоленной, не-абсолютной смерти. «Благообразия прекрасный плат», наделенный такими оттенками значения, как новое, преображенное, чуждое страстей тело, в свете этой христологической параллели соотносится с погребальной плащаницей Христа: это ткань, в которую заворачивают тело («с головы до пят»). Кроме того, он, вероятно, ассоциируется и с покровом Богоматери, как пояс – с ризами Приснодевы Марии. Плат в стихотворении «Настанет день – печальный, говорят!» также – метафора тела, как в стихотворении «О путях твоих пытать не буду» из цикла «Магдалина» тело героини уподоблено плащанице, в которую было завернуто тело снятого с креста Иисуса Христа: «Я был наг, а ты меня волною / Тела – как стеною / Обнесла» (II; 222). Имплицитно в этом образе также содержится и параллель с символом Богоматери – Нерушимой Стены. (В других контекстах у Цветаевой «покров» может означать тело человека – отринутое, отброшенное в смерти: «Для тех, отженивших последние клочья / Покрова (ни уст, ни ланит!..)» – «Эвридика – Орфею» [II; 183].)
В предпоследней строфе стихотворения благодаря грамматической конструкции предложения погребальная процессия, в которой мертвое тело – объект, а не субъект действия, предстает путешествием живой героини: «По улицам оставленной Москвы / Поеду – я, и побредете – вы». Нейтральная, нормативная конструкция была бы иной: меня повезут. Мотив причастности героини миру живых, а не мертвых создается также благодаря грамматическому параллелизму конструкций, описывающих погребаемую героиню и провожающих ее живых людей. Выражение «себялюбивый, одинокий сон» в стихах «И наконец-то будет разрешен / Себялюбивый, одинокий сон» – это вариация традиционной метафоры «жизнь есть сон, смерть – пробуждение», свидетельствующая также об относительности смерти и о ее возможном восприятии как некоего блага, освобождающего от иллюзорных притязаний эгоистического земного «я».
Но одновременно смерть, о которой говорится в этом стихотворении, может быть истолкована и как уничтожение «я». На это указывает не только упоминание об угасших глазах (зеркале души), разрыв между «лицом» живой и «ликом» мертвой героини и отчуждение от собственного тела, метонимически обозначенное «рукой, которой больше нет». Вечный покой, бесстрастность может интерпретироваться не только как духовное состояние святой, но и как бесчувственность умершей, мертвого тела. Посмертное тело лирической героини ей, ее «я» не принадлежит. Не случайно говорится только о теле, но не о душе покойной: подразумеваемая душа или уже вне тела, или перестала существовать. По крайней мере, уничтожению подверглось «я» героини – страстное и потому немыслимое вне тела. Если оставшееся тело и наделено некими чертами святости, неотмирности, вечности/нетленности, то это в экзистенциальном смысле не ее тело. Смерть – одновременно преображение и уничтожение тела. Разделяя душу и тело, она ведет к уничтожению, стиранию «я» и к возникновению бестелесного тела, бесплотной плоти. Изначально героиня как будто бы стремится к освобождению от страстей: «О, наконец тебя я удостоюсь, / Благообразия прекрасный пояс!» Но обретенное ею состояние оказывается либо безусловной смертью, либо покоем и бесчувствием нового, другого тела, которому соответствует другое «я»: через двойничество тел обозначены два разных «я».
Такому телесному и душевному/духовному двойничеству соответствует дуальный характер темпоральной структуры текста. Смерть/преображение представлено то как событие воображаемого будущего: «Настанет день»; «Отцарствуют <…> мои глаза»; «проступит лик»; «Потянется <…> паломничество»; «не возражу»; «не вгонит в краску»; «Поеду – я»; «И первый ком о крышку гроба грянет»; «И наконец-то будет разрешен себялюбивый, одинокий сон», то как событие, совершившееся в недавнем прошлом: «Меня окутал с головы до пят / Благообразия прекрасный плат». Грамматические формы настоящего времени в строках «К моей руке, с которой снят запрет, / К моей руке, которой больше нет» имеют перфектное значение, указывая на смерть как на недавно произошедшую. Восприятие своей кончины как совершившейся в прошлом, по-видимому, отражает точку зрения «я», перешедшего в вечность; земное «я» мыслит эту кончину как принадлежащую будущему. В настоящем времени финальных стихов «И ничего не надобно отныне / Новопреставленной болярыне Марине» оппозиция «прошлое – будущее» снята, соответственно, земное и потустороннее, посмертное «я» обретают здесь некое условное единство, будучи обозначенными именем собственным героини и автора. Показательно, что семантически выделенная часть стихотворения – последняя строфа, завершающаяся итоговым pointe, – это описание не освобождения, не преображения тела героини, но его погребения: «И первый ком о крышку гроба грянет, – / И наконец-то будет разрешен / Себялюбивый, одинокий сон. / И ничего не надобно отныне / Новопреставленной болярыне Марине». Пасха лирической героини – не воскресение, а непреодолимая смерть. Параллель с Христом, но не воскресшим, а ведомым на распятие, прослеживается и в последней строке стихотворения: как ученики отвернулись от Спасителя, так и провожающие героиню в последний путь не все доходят до могилы: «И не один дорогою отстанет». В противоположность Христу героиня Цветаевой не воскресает и не воскреснет: ее Пасха – это и есть ее смерть.
Знаменательна замена в последней строке личного местоимения первого лица «я» и производных от него форм «мои», «моей» выражением «болярыня Марина»: эта замена означает одновременно отчуждение «я» от себя самого (взгляд на себя извне) и не-существование, исчезновение «я».
Итак, смерть в стихотворении М. Цветаевой представлена, с одной стороны, как преображение, с другой – как переход в небытие. При первой трактовке метафизической или экзистенциальной иронии подвергнуты знаки смерти, уничтожения, оказывающиеся ложными, несостоятельными. При второй трактовке трагическая ирония обволакивает образы воскресения (Пасхи), преображения. Такая амбивалентность присуща цветаевскому тексту и в другом случае: двойственной семантикой в нем наделено целование рук. Это и эротический поцелуй, поцелуй руки поклонником («Вы» как он, единственный, поцелуи, которые при жизни смутили бы героиню), и целование мощей/иконы.
Преображение/уничтожение лирической героини в смерти, представленное в стихотворении «Настанет день – печальный, говорят!» как бы в сжатом виде соединяет несколько вариантов соотношения «я», души и тела, свойственных цветаевской поэзии. Трактовка смерти как разделения души и тела, приводящая к небытию, к развоплощению, представлена в первом и втором стихотворениях из цикла «Надгробие». Ни погребенное в земле тело (кость), ни вознесшаяся в небесные сферы душа не воплощают, не сохраняют умершее «я»: «Нет, никоторое из двух: / Кость слишком – кость, дух слишком – дух»; «Не ты – не ты – не ты – не ты. / Чт бы ни пели нам попы, / Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть, – / Бог – слишком Бог, червь – слишком червь»; «На труп и призрак – неделим!» (II; 325–326). М. Цветаева, полемизируя с державинской духовной одой «Бог», где человек мыслится одновременно как бог (то есть духовное начало) и червь (телесное начало, слабость, смертность), утверждает, что «Бог» и «червь», дух и мертвая плоть в их разделенности никак не причастны «я» человека. При этом речь идет скорее не об отрицании бессмертия души, но именно о том, что она не есть «я» умершего.
Однако наряду с трактовкой смерти как перехода «я» в абсолютное небытие в лирике Цветаевой содержится интерпретация истинной жизни «я» как непричастности материальному, «телесному» миру: смерть в этом случае мыслится как освобождение: «А может, лучшая победа / Над временем и тяготеньем – / Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени // На стенах… / <…> / Распасться, не оставив праха // На урну…» («Прокрасться…» [II; 199])[828]. Не-оставление следа в материальном мире, в том числе и после смерти, мыслится не как не-существование, но как бытие истинное. Смерть в таком случае должна быть квинтэссенцией освобождения.
Сходная трактовка смерти как освобождения, как желанного развоплощения дана в цикле стихотворений «Дочь Иаира», полемически «переписывающем» евангельский сюжет о воскрешении умершей девицы Христом. У Цветаевой воскрешение – не благо, а зло или опрометчивое и недолжное деяние (ср. сходную трансформацию в ее творчестве мифа о приходе Орфея в Аид, чтобы вывести из царства смерти Эвридику): «В просторах покроя – / Потерянность тела, /, Посмертная сквозь. // Девица, не скроешь, / Что кость захотела / От косточки врозь» (II; 96). Смерть мыслится здесь как освобождение, утрата тела, к которой стремится, которой жаждет плоть (кость). Смерть истолкована и описана как преображение плоти, превращение ее в тонкую проницаемую материю («сквозь» здесь окказионализм, существительное). Мертвая плоть наделяется знаком особенной интенсивной жизненности – загаром: «С дороги не тронется / Отвесной. – / То Вечности / Бессмертный загар» (II; 97). Этот же образ смертно-бессмертного загара встречается в стихотворении «На пушок девичий, нежный…», написанном в одно время с «Дочерью Иаира»: «На пушок девичий, нежный – / Смерть серебряным загаром» (II; 97). Парадоксальное сближение смерти изагара мотивировано трактовкой смерти как сожжения и самосожжения (ср. в лирике М. Цветаевой самоидентификацию «я» с Жанной д’Арк, сжигаемой на костре).
Традиционный концепт тела как противоположности духу и душе, восходящий, по-видимому, к платоновской и неоплатонической и к связанной с ними гностической философским системам, представлен в стихотворении «Жив, а не умер…»: «В теле как в трюме, / В себе как в тюрьме. // Мир – это стены. / Выход – топор. / <…> (Только поэты / В кости – как во лжи!) // Нет, не гулять нам, / Певчая братья, / В теле как в ватном / Отчем халате. // Лучшего стоим. / Чахнем в тепле. / В теле – как в стойле. / В себе – как в котле. // Бренных не копим / Великолепий. / В теле – как в топи, / В теле – как в склепе, // В теле – как в крайней / Ссылке. – Зачах! / В теле – как в тайне, / В висках – как в тисках // Маски железной» (II; 254).
Живая плоть наделяется признаками останков, скелета: «Только поэты / В кости – как во лжи!» Это темница «я» (по крайней мере, возвышенного «я» поэтов), «я» же в данном случае, по-видимому, тождественно душе. Представление о некоем единстве, сращенности тела и души не просто отвергнуто. Такое представление подано как расхожее, обыденное (=мещанское) и, вероятно, как ложное (=актерское) понимание: «(“Мир – это сцена”, / Лепечет актер.) // И не слукавил, / Шут колченогий. / В теле – как в славе, / В теле – как в тоге» (II: 254). Более того, такое понимание интерпретируется как бесовское, дьявольское: актер именуется «колченогим», хромоногим; а по мифологическим представлениям, хромоног дьявол. В народном средневековом сознании актер причастен дьявольскому, «теневому» миру, а слово «шут» в разговорной речи и сейчас может использоваться как эвфемизм, заменяющий лексему «черт». Ср. примеры у В.И. Даля: «Шут и вор, шутик, черт. Шут его бери! Ну его, к шуту! || всякая нежить, домовой, леший, водяной <…>. || Шут, паралич конский, приписываемый несдружливому домовому, коли лошадь не ко двору (ср. колченогость шута в стихотворении М. Цветаевой. – А.Р., А.Б.). Он уже до шутиков допился, до чертиков. Не шут (не черт) совал (сажал, толкал, копал), сам попал! Шут (бес), шут, поиграй да опять отдай! (приговаривают, потеряв что-либо)»[829].
Близкая интерпретация тела и «я» выражена в стихотворении «– Пела как стрелы и как морены…»: «– Пела! – и целой стеной матрасной / Остановить не мог / Мир меня. / Ибо единый вырвала / Дар у богов… бег! // Пела как стрелы. / Тело? / Мне нету дела» (II; 241). Здесь оппозиция «тело – душа (я)» заменена оппозициями «тело – пение (песня)» и «тело – бег», причем пение и бег являются атрибутами «я» в его не– и антителесности. Пение и бег мыслятся как «преодоление» телесности.
Иной вариант отношений между телом и душой содержится в стихотворении «Квиты: вами я объедена…», завершающем цикл «Стол». Тело и душа соприродны, изоморфны друг другу. Душа, наделенная грубой витальной телесностью, – это душа мещанина, обывателя. Смерть обывателя представлена в традиционном культурном коде, подвергнутом индивидуальной цветаевской трансформации. Это разделение души и тела, однако, иллюзорное. Душа обывателя «гипертелесна»: «Каплуном-то вместо голубя / Порх! – душа при вскрытии» (II; 314). Тело мещанина – некая оболочка, в которой скрыта не менее плотская «душа»-каплун. Его тело подобно пирогу, из которого вылетали живые птицы на пиру у Тримальхиона в «Сатириконе» Петрония. Знаменательно противопоставление концепта голубь, наделенного духовными и сакральными коннотациями (символ Святого Духа), каплуну, их лишенному. С помощью мнимо духовного («душа») здесь закодировано телесное или, точнее, без– и внедуховное. Напротив, в случае смерти лирической героини, «я» – творца, поэта изоморфность души и тела выражена в том, что тело наделяется метафорическими атрибутами души и ангела как бесплотного существа (крылья). Сходным образом в стихотворении «Душа» душа поэта наделяется атрибутом «шестикрылости», присущим серафиму (здесь очевидна аллюзия на стихотворение Пушкина «Пророк»): «Шестикрылая, ра – душная, / Между мнимыми – ниц! – сущая, / Не задушена вашими тушами / Ду – ша» (II; 164). В стихотворении «Квиты: вами я объедена…» тело обозначает душу, телесная нагота указывает не на саму себя, но на раскрытие, «обнажение» души в теле: «А меня положат – голую: / Два крыла прикрытием» (II; 314).
Противоречие между трактовкой смерти как перехода в небытие в цикле «Надгробие» и осмыслением ее же в ряде других стихотворений М. Цветаевой как освобождения, вероятно, мнимое. В цикле «Надгробие» и прежде всего в стихотворении «Напрасно глазом, как гвоздем…» смерть увидена с внешней точки зрения, в ее значимости для того, кто остается жить. С этой точки зрения, уход человека (другого) из этого мира воспринимается как полное уничтожение. Но с точки зрения внутренней (умершего, уходящего), умирание есть не полное стирание «я», но его высвобождение, обретение высшей свободы и покоя.
Амбивалентная семантика тела (как элемента, контрастного «я», и как квинтэссенции «я») в поэзии Цветаевой связана с тем, что тело может наделяться и признаком антидуховности, и духовным содержанием. Собственно, можно говорить о существовании в цветаевских текстах двух различных концептов тело. Особенностью стихотворения «Настанет день – печальный, говорят!» является оппозиция двух тел «я», при этом ни одно из них не наделяется однозначными оценочными смыслами. Утрата героиней в смерти страстности также лишена однозначной оценки в отличие от случаев, когда страстность, чувственность либо оценивается позитивно, как духовное начало (например, в «Магдалине»), либо негативно, как некая неполнота и ущербность (например, в цикле «Хвала Афродите» и в стихотворении «Эвридика – Орфею»). Семантический конфликт в цветаевских текстах, как правило, происходит между планом выражения и планом содержания. Так, в стихотворении «Эвридика – Орфею» «бессмертье», или по-смертье, обозначено метафорой, ассоциирующейся с умиранием: «С бессмертья змеиным укусом / Кончается женская страсть» (II; 183). Но при всей парадоксальности жизни мертвых в их «призрачном доме» это посмертное существование представлено здесь как несомненная данность, ценностно превосходящая земное бытие. В стихотворении «Настанет день – печальный, говорят!» такой однозначности нет, и конфликтом смыслов охвачен план содержания.
«Куст» Марины Цветаевой и христианская символика
«Куст» – пример стихотворений-двойчаток, у Цветаевой нередких. Две части соотносятся по принципу зеркальной симметрии: в первой говорится о тяготении куста к лирическому «я», о движении куста внутрь «я» поэта, причем это стремление представлено как парадоксальное. Растение обладает полнотой бытия, смысла, и от человека ему, казалось бы, ничего не должно быть нужно:
- Что нужно кусту от меня?
- Не речи ж! <…>
- <…>
- А нужно ж! иначе б не шел
- Мне в очи, и в мысли, и в уши.
- Не нужно б – тогда бы не цвел
- Мне прямо в разверстую душу… (II; 317).
Утверждение «Не речи ж!» как будто бы отрицает вероятность того, что кусту нужно до-воплощение, выражение своего бытия, своего смысла в слове, в стихе поэта. Взаимосвязь между кустом и предназначением поэта на первый взгляд не просматривается в тексте. Однако она есть, причем вопреки явному содержанию стихотворения «косноязычный» поэт соотнесен с пророком – служителем Господа. Эпитет «разверстая» в выражении «разверстая душа» – это аллюзия на стихотворение А.С. Пушкина «Пророк», в котором о серафиме, изменяющем тело призванного к служению, сказано:
- И он мне грудь рассек мечом,
- И сердце трепетное вынул,
- И угль, пылающий огнем,
- Во грудь отверстую водвинул (III–I; 30).
Но у Пушкина «поэтическая тема страдания зиждется на точных, конкретно-чувственных зрительных деталях. <…> Трепетное сердце – трепещущее, еще живое; отверстая грудь – разрубленная мечом…»[831]. Правда, поэт «все время сохраняет дистанцию между словесным описанием и зрительным представлением, не допуская, чтобы картина сделалась прямо изобразительной. И здесь он пользуется <…> абстрактностью и многозначностью “высокого” старославянского слова <…>»[832]. Однако для Цветаевой даже эта полуметафорическая предметность неприемлема. У Пушкина посредством изменения тела герой «перерожден в прямом смысле этого слова – перерожден в Пророка»[833]. У Цветаевой обретение полноты бытия лирической героини представлено только как изменение души, которая вместе с тем как бы наделена признаком телесности: она, а не плоть, не грудь – «разверстая». Это глубоко не случайно. Цветаевская лирическая героиня – это прежде всего манифестация души, телесное в ней второстепенно, однако «преобладающий тип Л<ирической> Г<ероини> – не чистый дух, а душа, заключенная в земную оболочку: тело. Отсюда явная физичность цветаевской души (“физика души”, по выражению Цветаевой) и духа. Ср. “руки души”, “глаза души”, “уши души”, “голова в пять чувств” <…>. Ибо мир Цветаевой не земля – или небо, – а земля, преображенная небом, и небо, сошедшее на землю. <…> Таким образом, физичность души и одушевленность-одухотворенность “физики” – характерная особенность Л<ирической> Г<ероини> Цветаевой»[834].
Откликаясь на пушкинский текст, Цветаева заменяет эпитет «отверстая» его синонимом, но с другим префиксом: «разверстая», наделяя свою героиню несоизмеримо большей, экстатической открытостью миру и кусту: приставка раз– семантически «сильнее», чем от-, означает «распахнутость», «полную раскрытость». К «Пророку» отсылает и выражение «шум ушной»: у Пушкина ему соответствуют строки: «Моих ушей коснулся он, / И их наполнил шум и звон: / И внял я неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье» (III–I; 30).
Такая «раскрытость» в художественном мире Цветаевой – знак открытости божественной энергии, заполняющей «полую» душу и/или тело героини, призванной к пророческой миссии. Таков ключевой мотив стихотворного диптиха «Сивилла», в котором лирическое «я» предстает тоже в образе пророчицы, но языческой:
- Сивилла: выжжена, сивилла: ствол,
- Все птицы вымерли, но Бог вошел.
- <…>
- Так Благовещенье свершилось в тот
- Час не стареющий, так в седость трав
- Бренная девственность, пещерой став
- Дивному голосу…
- Тело твое – пещера
- Голоса твоего.
Как пишет Л.В. Зубова, «героиня произведений Цветаевой, выражающая ее лирическое “я”, всегда активна и в своей активности предельно максималистична. За этим пределом и находится состояние пассивности как подверженности стихийным началам, готовности к восприятию вдохновения»[835]. В ценностном отношении для автора «Куста» роль источника вдохновения была выше роли стихотворца; Цветаева прямо выразила эту мысль в очерке «Пленный дух»: «Уже шестнадцати лет я поняла, что внушать стихи больше, чем писать стихи, больше “дар Божий”, бльшая богоизбранность <…>» (IV; 235).
Вернемся к «Кусту» и «Пророку» Пушкина. По традиционному мнению[836], пушкинский герой не есть пророк в собственном значении, он – символ поэта, «чистый носитель того безусловного идеального существа поэзии, которое было присуще всякому истинному поэту»[837], Автор «Куста», напоминая о пушкинском стихотворении, наделяет слово поэта весомостью и непререкаемостью пророческого глагола.
Но речь героини совершенно неадекватна сокровенному смыслу, который несет в себе куст: «преткновения пни», «препинания звуки», «осколки». Она признается, что не в состоянии выразить то, что «знала, пока не раскрыла // Рта» и что обретет вновь за чертой смерти («как только умолкну»). И все же, «невзирая на только что сказанное “Не речи ж!”, Цветаева именно ей посвящает свой обращенный к кусту монолог»[838]. Существенно, однако, что само это косноязычие, ущербность (пни, противопоставленные ветвям куста) могут быть знаком пророческого избранничества. «В мифологии различных народов существует представление: пророки косноязычны. Косноязычен был библейский Моисей. О нем в Библии сказано: “И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал Моисею: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь Бог? итак пойди, и Я буду при устах твоих…” (Исход, 4, 10–12). Пушкин показал своего пророка в момент окончания немоты и обретения им речи. Косноязычие Демосфена – один из многих примеров легенды о том, что способность “глаголом” жечь “сердца людей” рождается из преодоления немоты»[839].
Как замечает один из интерпретаторов стихотворения, «ответ на вопрос, что нужно кусту от человека, можно сформулировать примерно так: куст (природа) ждет от поэта-творца, что он напишет о ней, то есть создаст новую форму его существования в искусстве»[840]. Это истолкование в целом верное, но в нем не учтено, что цветаевская лирическая героиня не творец, но инструмент для голоса куста, посредница между ним, символизирующим высшее, трансцендентное бытие, и «обыкновенным» миром.
Кусту, несомненно, нужна не эта несовершенная речь героини, героиня нужна ему как орган для его собственной речи, он, заполняя ее, распространяет себя вовне, в земное бытие, обретает в ней свой собственный голос. Семантически этот мотив – синоним пушкинского «Исполнись волею Моей». Энергия куста наделяет цветаевскую героиню «сверхречью».
В первом стихотворении «Куста» были две строфы (вторая из них являлась заключительной), не вошедшие в окончательный текст:
- Все лиственная болтовня
- Была… Проспалась – и отвечу:
- Что нужно кусту от меня?
- – Моей человеческой речи.
- …Тогда я узнаю, тоня
- Лицом в тишине первозданной,
- Что нужно кусту – от меня:
- Меня – и Ахматовой Анны (II; 521).
Причины отказа от этих стихов ясны: утверждение, что кусту нужна от героини простая, ее собственная («моя») «человеческая речь», лишало героиню избранничества, миссии служить Высшему Началу бытия, а прямое высказывание поэта о себе и об Анне Ахматовой выглядело пошлостью, снижением высокого регистра, с элементом рекламы и саморекламы.
Зеркальная симметричность второго стихотворения заключается в том, что здесь героиня говорит уже о том, что ей нужно от куста. «Невнятица» речи/поэзии приобретает теперь позитивный ценностный смысл. «Что нужно от куста – поэту? Здесь ответ однозначен: тишины. Тишины творчества. Тишины (гула!) Вселенной, невнятицы хаоса, которая, заполнив душу поэта, становится творчеством. Тишины (но не смертной!) иного бытия <…>.
Поэт ждет от куста тишины некоего непрерывного звучания: вот строфы, которые не вошли в окончательный текст:
- Несмолчности – точно поэт
- О чем-то бормочет поэту…
- Но только – настойчивей нет…
- Но только – доходчивей нету…
- Несмолчности, и вместе с тем
- Сохранности – силы и тайны:
- Невнятности первых поэм,
- Невнятицы от чрезвычайной
- В нас мощи…»[841].
С этой трактовкой в общем нельзя не согласиться. Но само понятие тишина (определяемое посредством оксюморонного, парадоксального отождествления с бормотаньем и с несмолчностью) отнюдь не однозначно и требует истолкования.
Один из его смыслов связан с романтической идеей невыразимого[842]. Высший, истинный смысл бытия невыразим посредством ограниченного, ущербного человеческого слова. Воссоздание этой полноты смысла возможно только благодаря отказу от человеческой речи, возвышения над ней в музыке и/или безмолвии.
Вариация этой старой идеи содержится в стихах современника Цветаевой Осипа Мандельштама:
- Ни о чем не нужно говорить,
- Ничему не следует учить,
- И печальна так и хороша
- Темная звериная душа:
- Ничему не хочет научить,
- Не умеет вовсе говорить
- И плывет дельфином молодым
- По седым пучинам мировым[843].
Этот мотив развивается в стихотворении с программным названием «Silentium» – «Молчание» (лат.)[844]:
- Она еще не родилась,
- Она и музыка и слово,
- И потому всего живого
- Ненарушаемая связь.
- <…>
- Да обретут мои уста
- Первоначальную немуту,
- Как кристаллическую ноту,
- Что от рождения чиста![845]
К.Ф. Тарановский так интерпретировал этот текст: «Слово <…> не нужно; поэт приказывает ему возвратиться в музыку. Конечно, это не наша человеческая музыка, но скорее метафизическая музыка: стихийный язык бытия. В этом стихотворении Мандельштам еще символист. <…> Самый тонкий духовный опыт человека заключается в слиянии с подлинной сущностью жизни, с первоначальной гармонией универсума. Пусть это лишь утешительный миф; он все же говорит нам об истинной ценности бытия, которую человек обретает в безмолвном размышлении (contemplation) о мире и красоте»[846].
Цветаевская «невнятица первых слогов» и посмертных поэм – аналог этой немоты и чистой музыки – первоосновы бытия. «По Цветаевой, в тишине заключены все лучшие возможности звучащего мира: древесный шелест, звуки музыки, невнятная детская речь, высокая поэзия. Тишина – тот язык, на котором поэты говорят после смерти. Тишина – состояние “между согласьем и спором”, ушной шум, предшествующий рождению стихотворения. Тишина – нерасплесканный полный кувшин души поэта, “все соединилось в котором”, все чувства, не передаваемые словом, все мысли, осколками доходящие в стихах. Тишина – прохладный кувшин души – и Вечности»[847].
Невнятица/невнятность, даруемая кустом, подобна косноязычию героини, о котором сказано в первом стихотворении двойчатки, и одновременно контрастна по отношению к нему: это полнота обретенного и не высказываемого до конца, ни в слове, ни даже в музыке (для этого нужна музыка новая) смысла. Это высокое значение невнятице Цветаева, возможно, придала вслед за Андреем Белым – автором поэмы «Первое свидание», где так охарактеризована поэзия автобиографического героя; впрочем, в «Первом свидании» эта лексема семантически амбивалентна, сохраняя и словарное значение с пейоративными коннотациями:
- Так в голове моей фонтаном
- Взыграл, заколобродил смысл;
- <…>
- Так мысли, легкие стрекозы,
- Летят над небом, стрекоча;
- Так белоствольные березы
- Дрожат, невнятицей шепча;
- Так звуки слова «дар Валадая»
- Балды, под партою болтая, –
- Переболтают в «дарвалдая»…
- Ах, много, много «дарвалдаев» –
- Невнятиц этих у меня[848].
Н.С. Кавакита соотнесла цветаевскую «тишину» с «ничто» восточных учений, в частности, по-видимому, с буддийской Нирваной: «Олицетворением всего мира представляется тишина, не имеющая ни пространственных, ни временных ограничений. В связи с чем следует отметить, что цветаевская “тишина” по своей сути близка широко распространенной на Востоке философской категории “ничто”, лежащей в основе традиционных восточных учений»[849]. Однако этот поэтический концепт можно истолковать и в контексте платонической философской традиции, в том числе и в ее христианской версии – в апофатическом («отрицательном») богословии, показывающем непознаваемость Бога посредством отвержения, отбрасывания всех определений, неспособных отразить его сверхприродную и сверхсловесную сущность.
Так, Дионисий (Псевдо-Дионисий) Ареопагит писал: «<…> Многословесная благая Причина всего, и малоречива, и даже бессловесна настолько, что не имеет ни слова, ни мысли по причине того, что все Она пресущественно превосходит, и неприкрыто и истинно изъявляется одним тем, кто нечистое все и чистое превзойдя, и на все и всяческие святые вершины восхождение одолев, и все божественные светы, и звуки, и речи небесные оставив, вступает “во мрак, где” воистину пребывает, как говорит Писание (Исх. 20: 21), Тот, Кто вне всего»[850].
Развивая эту мысль, он пояснял: «<…> По мере нашего восхождения вверх, речи вследствие сокращения умозрений сокращаются. Так что и ныне входя в сущий выше ума мрак, мы обретаем не малословие, но совершенную бессловесность и неразумение.
А оттуда, сверху, до пределов нисходя, слово по мере нисхождения соответствующим образом распространяется. Но теперь, восходя от нижнего к высшему, по мере восхождения оно сокращается и после полного восхождения будет вовсе беззвучным и полностью соединится с невыразимым»[851].
Максим Исповедник, толкователь Дионисия, так определял употребленные им понятия: «Бессловесностью он называет неспособность представить словом то, что выше слова, неразумением же – неспособность составить понятие о том, что выше ума»[852].
Движение куста в мир, в душу лирической героини Цветаевой соответствует схождению в тварный мир «многословесной благой Причины» – Бога, а порыв лирической героини – восхождению человеческого ума к Богу.
Разумеется, я отнюдь не склонен трактовать «Куст» как выражение и иллюстрацию ни этой, ни какой бы то ни было иной философской или богословской идеи. Неоправданным было бы просто настаивать на знакомстве автора с той или иной концепцией. Существенно не это. В культуре Серебряного века (прежде всего в символизме) романтическая идея невыразимого (производная от платонизма) была широко распространена, актуален был и собственно богословский апофатизм. Есть достаточные основания для того, чтобы предполагать у Цветаевой установку на этот комплекс идей.
Воздействие куста на цветаевскую героиню – это заполнение пустоты полнотой[853]. Она «только кустом не пуста», куст – «полная чаша», она – «место пусто». Причем это заполнение представлено не только в плане содержания «Куста», как основной мотив произведения, но и в плане выражения, на фонетическом уровне. Лексема куст созвучна слову пуст, причем оба слова сначала образуют внутреннюю рифму (в начальной строке четвертой строфы первого стихотворения – «кустом не пуста»), а затем концевую рифму не пуста – куста, с которой рифмуется пара захолустий – пусте. Благодаря такому рифменному созвучию в этих словах выделяется псевдоморфема, псевдокорень -уст-, в соединении с которым начальные к– и п– воспринимаются как префиксы со значением полноты (к-уст) и пустоты (п-уст). Куст не только наделяется признаком полноты, заполненности, но и словно заполняет лексему п-уст, в ней прорастая, расцветая. К в слове куст ассоциируется также с предлогом «к», обозначающим приближение и присоединение.
Одновременно повторяющееся созвучие -уст– может быть воспринято как вариация слова уста. Куст как бы наделяется устами или стремится обрести свои уста в лирической героине. У нее же самой, еще не преображенной вхождением куста в ее душу, не уста, а губы, упомянутые во второй строке четверостишия, завершающего первое стихотворение. Не названные, но подразумеваемые в подтексте уста, соотнесенные, между прочим, с устами пушкинского пророка, стилистически (как слово высокого слога, церковнославянизм) и, соответственно, семантически (как божественный, а не человеческий орган речи) противопоставлены губам.
Противопоставление лексемы куст слову пуст встречается и в стихотворении «Тоска по родине! Давно…», написанном в том же 1934 году, что и «Куст»:
- Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
- И все равно, и все – едино.
- Но если по дороге – куст
- Встает, особенно – рябина… (II; 316).
Как заметила Л.В. Зубова, метафора полная чаша куста «явно индуцирована поговоркой дом – полная чаша. Полнота как абсолютное бытие переносится с дома (который <…> пуст рядом с кустом) на сам куст»[854]. Одновременно эта метафора мотивирована формой куста, напоминающей чашу, и чашеобразным начертанием буквы у, обозначающей единственный гласный звук в слове куст. Таким образом, связь между означаемым (понятие ‘куст’) и означающим (звуковой и графический комплекс куст) предстает непроизвольной и неизменяемой, как в священном, сакральном языке.
Глубинный смысл метафоры полная чаша куста – символический, содержащий христологические литургические ассоциации. Чаша куста соотнесена с литургической чашей, вхождение куста в душу лирической героини – с причащением. На христологический литургический подтекст «Куста» указывает выражение «лобное всхолмье» как образ Голгофы. «В таком случае еще один образ пустоты – все кувшины / Востока – это та пустота, те сосуды, которые наполнятся кровью Христовой»[855].
Такая символизация куста объясняется, во-первых, созвучием (паронимической аттракцией) между словами куст и крест и, во-вторых, вероятно, символическим осмыслением отдельных букв. Такое осмысление букв, составляющих лексему куст, содержится в поэме Иосифа Бродского «Исаак и Авраам», в которой образ куста восходит, несомненно, к цветаевскому:
- Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
- В нем сами буквы больше слова, шире.
- «К» с веткой схоже, «У» – еще сильней.
- Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.
- У ветки «К» отростков только два,
- а ветка «У» – всего с одним суставом.
- Но вот урок: пришла пора слова
- учить по форме букв, в ущерб составам (I; 272).
Во сне Исаак видит:
- Земля блестит, и пышный куст над ней
- возносится пред ним во тьму все выше.
- Что ж «С» и «Т» – а КУст пронзает хмарь.
- Что ж «С» и «Т» – все ветви рвутся в танец.
- Но вот он понял: «Т» – алтарь, алтарь,
- А «С» лежит на нем, как в путах агнец.
- Так вот что КУСТ: К, У, и С, и Т.
- Порывы ветра резко ветви кренят
- во все концы, но встреча им в кресте,
- где буква «Т» все пять одна заменит.
- Не только «С» придется там уснуть,
- не только «У» делиться после снами.
- Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть,
- не буква «Т» – а тотчас КРЕСТ пред нами.
- И ветви, видит он, длинней, длинней.
- И вот они его в себя прияли (I; 275).
Михаил Крепс, истолковывая этот образ в поэме Бродского, замечает: «Оказывается, что куст – это не только символ жизни, но и символ жертвы, и в этом последнем значении “куст” сближается с “крест”, который является центром и средоточием куста, его основой <…>»[856].
Вероятно, сходство начертания буквы «Т» с формой креста было значимо и для Цветаевой, так же как и сходство фонетической рамки слов к-ус-т и к-рес-т и «мерцание» в лексеме куст анаграммы имени Iисусъ Христосъ: С-У-С-СТ-С.
А ведь «образ “распятья” <…> укоренен в цветаевском дискурсе, где мотив “пригвожденности” <…> составляет сердцевину для мифологемы Поэта-Орфея»[857]. Слово крест употребляется в текстах Цветаевой очень часто, чаще, чем куст, – при том, что куст является одним из любимых образов поэта[858]. Ассоциации между кустом и крестом, в «Кусте» данные лишь намеком, представлены в поэзии Цветаевой и в более явном виде, названы прямо:
- Через стол гляжу на крест твой.
- Сколько мест – загородных, и места
- Загородом! и кому же машет
- Как не нам – куст?
Сближение куста и креста может быть объяснено также их соотнесенностью в христианской символике и в богословских толкованиях. Цветаевский куст – цветущий (третья строка третьей строфы первого стихотворения). В христианской символике распространены изображения древа в виде процветшего креста и собственно изображения процветшего креста. Возможно, крест с находящимся под ним полумесяцем – весьма древняя форма креста, и в цветаевское время, и сейчас увенчивающая купола храмов, – это вариация первоначального креста с идущими от него древесными побегами. По распространенному в церковной и светской историографии мнению, «наиболее вероятное объяснение фигуры полумесяца заключается в том, что она представляет собою форму стилизации процветшего креста: ветви процветшего креста постепенно перешли в фигуру полумесяца»[859]. Этот символ восходит к образу процветшего жезла Аарона из ветхозаветной Книги Чисел: «Полумесяц под крестом является “наследником” византийской композиции “процветшего креста”, известной как минимум с VI в. <…> Исходящие от креста ветви-побеги призваны напомнить о богословской концепции “плодоносящей” христианской церкви, результат деятельности которой состоит в умножении числа христиан и их добродетели. Подобный образ имеет основание в библейской книге Чисел, где оставленный на ночь в скинии жезл Моисеева брата Аарона “прозяб” (Числ., 17: 8). Этот процветший жезл явился подтверждением прав владельца на священство. В христианском контексте жезл перерос в крест с распустившимися ветвями. Впоследствии эти ветви и оказались стилизованными под рога мнимого “полумесяца” в соответствии с эстетическими предпочтениями эпохи, но в богословии и христианской символике процветший крест оставался процветшим крестом, а не символом борьбы христианства и ислама»[860].
Проросший жезл Аарона трактуется как символ Крестного Древа, в частности, в Каноне на праздник Воздвижения Честнаго Креста, составленном Косьмой Маюмским[861]. В этом тексте Крест Христов именуется также древом. «В службе празднику Воздвижения вещество Креста рассматривается и как вселенский символ. Он неоднократно называется здесь Древом. В ирмосе песни 9 канона он именуется “насажденным на земли живоносным Древом”, которое сопоставляется с древом жизни, насаженным Богом в раю, и сопоставляется древу преслушания. <…> Здесь древу познания, неблаговременное вкушение плодов которого принесло человеку смерть, противопоставлено древо жизни <…> которое стало впервые доступно благоразумному разбойнику.
Древо Креста не только само является источником жизни, но иосвящает собою и самое естество древес дубравных: “Да возрадуются древа дубравныя вся, освятившуся естеству их, от Него же изначала насадишася”, то есть насажденные вначале Христом»[862].
Помимо канона на Воздвижение, символ процветшего Креста встречается также и в древнерусском искусстве (в частности, в рельефах Дмитриевского собора во Владимире, конец XII века). Он отражен и в оригинальной древнерусской книжности (например, в таком широко известном житийном памятнике, как «Повесть о Петре и Февронии»)[863].
Крест с побегами символизировал и Богородицу, и Христа: «Процветший крест, как и “жезл Ааронов”, заключает в себе и богородичную символику, олицетворяя одновременно и самого Христа, о чем говорят изображения креста на актовых печатях X–XV вв., сопровождающиеся инициалами “ИС ХС” <…>»[864].
Не исключено, что, вопреки господствующему представлению, крест с полумесяцем – форма более ранняя, а не более поздняя, чем процветший крест: «Ряд исследователей полагает, что крест с полумесяцем восходит к формам процветшего или же якорного креста. Думается, однако, что дело обстояло прямо противоположным образом: именно крест с полумесяцем – или, если угодно, с серповидной формой, соответствующей изображению полумесяца, – представляет собой, по-видимому, относительно более древнюю форму, тогда как другие, орнаментированные формы креста оказываются результатом ее последующего развития»[865]. Однако для интерпретации цветаевского стихотворения это не принципиально.
Существенно для реконструкции вероятного семантического фона «Куста» другое: полумесяц истолковывался в христианской традиции, начиная с весьма раннего времени, как символ Богородицы[866]. Однако существовало и представление о нем как о символе евхаристической чаши. Кроме того, в христианском искусстве и ствол древа, символизирующего Христа – Крестную Жертву, мог изображаться в форме чаши: так, «на миниатюре канонов “Золотого Евангелия Харли” времени каролингского Ренессанса (IX в.)» нарисованы «соединенные вместе пальма и крест, вырастающие из ствола в форме чаши (мотива Евхаристии) <…>»[867].
Естественно, было бы неправомерным говорить об актуальности для Цветаевой этой очень давней и весьма богатой христианской традиции. Однако бесспорно, что в каких-то своих ответвлениях, вариациях она была автору «Куста» знакома. Так, невозможно представить, чтобы Цветаева не знала о символике службы праздника Воздвижения[868]. Кроме того, эта символика была адаптирована в символистской литературе, Цветаевой прекрасно известной и на нее сильно повлиявшей[869]. В соотнесенности с этими прообразами из церковной традиции куст ассоциируется с Христом как Богом и Крестной Жертвой и с Крестом, а также с райским древом жизни. (В поэзии Цветаевой куст и дерево – образы со сходной семантикой[870].) В скрещении этих уподоблений поэзия, творчество приобретает смысл жертвы и искупительного служения, а также вместилища вечной жизни.
Еще один религиозный прообраз цветаевского куста – Неопалимая купина[871], куст, из которого Господь воззвал к Моисею: «И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!» (Исх. 3: 2–4).
Неизменное внимание Цветаевой к образу куста, соотнесенность куста и лирического «я»[872] связаны, в частности, с тем, что этот образ для нее ассоциируется с кустом – Купиной неопалимой. А Купина может символизировать творчество: огонь – творческое горение, а голос Бога к Моисею – прообраз вдохновения. Именно куст Купины неопалимой Райнер Мария Рильке выбрал в качестве метафорического именования Цветаевой и ее поэзии: «О, как я тебя понимаю, женственное цветенье на длящемся кусте непреходящем!» («Элегия для Марины», подстрочный пер. с нем. Н. Болдырева)[873]. Эта поэтическая метафора, найденная дорогим для Цветаевой поэтом, вероятно, повлияла на восприятие ею собственного творчества.
В христианской экзегетической традиции образ Неопалимой купины был истолкован как прообразующий символ. «Видению этому отцы церкви и в песнях церковных придают таинственное значение: несгораемая купина – это Матерь Божия, пребывшая Девою и по воплощении и рождении от нее Сына Божия»[874]. Вместе с тем горящий и не сгорающий терновый куст в этой традиции содержит и христологическую символику: «Явившийся Моисею в терновом кусте Ангел Господень считается отцами Церкви Вторым Лицом св. Троицы; отличается он от самого Бога и первомучеником Стефаном (Деян. VII, 35), и все видение является, по отеческому толкованию, прообразом таинства воплощения (Григорий Нисский, бл. Феодорит). Другие же отцы Церкви, напр. Кирилл Александрийский, разумеют, согласно с контекстом <…> под Ангелом самого Бога»[875].
Очевидно, к христианской традиции восходит соотнесенность кустов и воскресающего Бога в стихотворении Андрея Белого «Буря». Однако его автор «переворачивает» структуру христианского символа, противопоставляя мертвые, чахлые кусты воскресшему Господу / Солнцу:
- Воскрес: сквозь сень древес – я зрю – очес мерцанье:
- Твоих, твоих очес сквозь чахлые кусты.
- Твой бледный, хладный лик, твое возликованье
- Мертвы для них, как мертв для них воскресший: ты[876].
Цветаевская героиня, вбирающая в себя куст, его энергию в свою грудь, подобную лону, рождающая слово, может соотносить себя с Матерью Бога – Слова. Это рискованное, а для христианского сознания даже кощунственное уподобление в художественном мире Цветаевой, проникнутом мотивами избранничества героини и противоречивого приятия-отталкивания христианской традиции, вполне естественно. Показательно восприятие Благовещенья поэтом как особенно родственного, близкого праздника в стихотворении «В день Благовещенья…», содержащем сквозной рефрен молитвенного рода «Благовещенье, праздник мой!» (I; 261) и параллель между двумя матерями – лирической героиней и Богоматерью в стихотворении «Канун Благовещенья».
Вместе с тем цветаевский куст предстает выражением, если не воплощением божественного начала бытия, не предполагающего конфессиональной конкретизации. «Деревья и кусты по концепции Цветаевой не только подобны человеку, но и подобны поэту, так как занимают положение между землей и небом, т. е. являются медиумами», – пишет Л.В. Зубова[877]. Эта характеристика допускает небольшое уточнение: куст или дерево в художественном мире поэта могут быть не медиумами, но, так сказать, собственно божествами или их персонификациями. Ведь «разговор с кустом – это разговор с иным “ответвлением природы”, более совершенным, с точки зрения поэта, ибо внеположным миру “человечьему”»[878]. Вместе с тем куст у Цветаевой – не деперсонифицированная «языческая» стихия: он неизбывно нуждается в другом, в собеседнике, и листья его непохожи друг на друга («на ветвях / Твоих – хоть бы лист одинаков!»). Все они – личностны.
Показательно, что, хотя иногда куст в поэзии Цветаевой непосредственно соотнесен с Неопалимой купиной, обыкновенно (в том числе и в «Кусте») его образ не содержит прямых отсылок к ветхозаветному прообразу. Не случайно и то, что аллюзии на крестную смерть Христа в «Кусте» даны лишь пунктиром. И. Шевеленко заметила о стихотворении Цветаевой «Тоска по родине! Давно…», написанном в один год с двойчаткой: «<…> Куст в этом стихотворении столько же природный образ, сколько божественный – Неопалимая купина, которую в красный, огненный цвет и “окрашивает” рябина. Синкретизм найденного образа кодирует важное для Цветаевой представление о “двойном” родстве поэта – с божественным и с природным началами»[879]. Подобный синкретизм характерен и для «Куста».
В пятом стихотворении из цикла «Стол», написанном за год до «Куста», Цветаева писала:
- Мой письменный верный стол!
- Спасибо за то, что ствол
- Отдав мне, чтоб стать – столом,
- Остался – живым стволом!
- С листвы молодой игрой
- Над бровью, с живой корой,
- С слезами живой смолы,
- С корнями до дна земли! (II; 312).
И. Шевеленко, интерпретируя эти строки как выражение осознания поэтом природы творчества, пишет: «Природность стола, или же сохранение столом своей природности, несмотря на культурность его функции, – олицетворяет “природность” искусства. Цветаева продолжает в лирике тему, подробно разрабатывавшуюся ею в статьях. В двух стихотворениях 1934 года, “Тоска по родине. Давно…” и “Куст”, эта тема находит свое наиболее полное – и трагическое – воплощение»[880].
О соотношении искусства, природы и христианства Цветаева высказалась так: «Искусство есть та же природа» и «Обратная крайность природы есть Христос» («Искусство при свете совести» [V; 346, 368]). По толкованию этого высказывания С. Лютовой, «здесь творчество по сути своей оказывается неотделимо от языческой – природной, непосредственной, интуитивной, “внесовестной” формы религиозности»[881]. Развивая эту мысль, исследовательница, на мой взгляд, допускает серьезное преувеличение и искажение реальной картины, определяя цветаевское творчество как по существу и ценностной системе языческое, связанное с политеистическим восприятием мира. Цветаева признавалась в симпатии к язычеству: «Бессмертья, может быть, залог! (Строка из «Пира во время чумы» А.С. Пушкина. – А.Р.) <…> Залог бессмертья самой природы, самих стихий – в нас, поскольку мы они, она. Строка, если не кощунственная, то явно-языческая. <…> Последний атом сопротивления стихии во славу ей – и есть искусство. Природа, перерабатывающая саму себя во славу свою» («Искусство при свете совести» (V; 347–348, 351). Порой она делала это даже в вызывающей форме, как в записи о крещении сына Мура (Георгия) священником Сергием Булгаковым в 1925 году: «Мур, во время обряда <…> Одну ножку так помазать и не дал. (Ахиллесова пята язычества! Моя сплошная пята!)»[882]. Однако абсолютизировать эти высказывания не следует. «В типичном лирическом герое Цветаевой есть все: и от Черта, Дьявола, Демона, беса и от Бога, ангела. В нем конфликтно совмещаются ад и рай, тьма и свет, борются страсти-демоны, своевольный произвол от Лукавого и Божий Промысел, направляющий душу по истинному пути» (С. Ельницкая)[883]. Порой ропща на мир и Бога, иногда даже богоборствуя, лирическая героиня Цветаевой определяет себя прежде всего категориями христианского сознания:
- А во лбу моем – знай! –
- Звезды горят.
- В правой рученьке – рай,
- в левой рученьке – ад.
- Есть и шелковый пояс –
- От всех мытарств.
- Головою покоюсь
- На Книге Царств.
- Много ль нас таких
- На святой Руси –
- У ветров спроси,
- У волков спроси.
- Так из края в край,
- Так из града в град,
- В правой рученьке – рай,
- В левой рученьке – ад (I; 480).
Обостренное чувство личности, непризнание гармонии космического миропорядка, ощущение ранящего контраста между небесным и земным («Голос правды небесной / Против правды земной» – второе стихотворение из двойчатки «Заводские» ([I; 153]), порою почти гностическое отвержение материального начала бытия («А может, лучшая победа / Над временем и тяготеньем – / Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени / На стенах… <…> Распасться, не оставив праха // На урну…» – «Прокрасться…» [II; 199]) не позволяют считать мироощущение цветаевской лирической героини языческим[884]. Эти кардинальные свойства мировосприятия весомее утверждения: «Многобожие поэта. Я бы сказала: в лучшем случае наш христианский Бог входит в сонм его богов» («Искусство при свете совести» [V; 363]). И нельзя не согласиться с Иосифом Бродским, сказавшим: «При всей ее внецерковности, Цветаева – христианка <…>»[885].
В цветаевском «Кусте» вдохновение действительно представлено как начало стихийное, природное. Однако «сокровенный» язык для выражения своих чувств и мыслей Цветаева находит именно в христианской традиции, а высший смысл бытия вынесен ею за пределы земного существования, в посмертие. Сокровенность, утаивание этого глубинного подтекста, очевидно, объясняются невыговариваемостью самого главного посредством земного, слишком земного языка.
О «поэтическом» повторе в прозаическом тексте: «Распад атома» Георгия Иванова
В «Лекциях по структуральной поэтике» (1964), одной из первых в СССР работ, предлагавших развернутое изложение теории структурального метода, Ю.М. Лотман следующим образом характеризовал природу лексического повтора в поэтическом тексте: «Строго говоря, повторение, полное и безусловное, в стихе вообще невозможно. Повторение одного слова в тексте, как правило, не означает механического повторения одного и того же понятия. Чаще оно свидетельствует о более сложном, но едином смысловом содержании.
Человек, привыкший к графическому восприятию текста, видя на бумаге повторение слова, полагает, что перед ним – простое удвоение понятия. Между тем чаще всего речь идет о другом, более сложном понятии, связанном с данным словом, но усложненном совсем не количественно».
Как пример исследователь рассматривает повторы в строках «Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней» и «Уходит взвод в туман, туман, туман» из стихотворения/песни Булата Окуджавы: первый из двух стихов «совсем не означает приглашения попрощаться дважды. В зависимости от интонации чтения, он может означать “Солдат, торопись прощаться, взвод уже уходит”, или “солдат, прощайся с ней, еще раз прощайся с ней”. Таким образом, удвоение слова означает не механическое удвоение понятия, а другое, новое, усложненное его содержание. “Уходит взвод в туман, туман, туман”, – может быть расшифровано: “Взвод уходит в туман, все дальше, он скрывается из виду”, и с рядом других оттенков, но никогда не количественно: “Взвод уходит в один туман, затем во второй и в третий”»[887].
Развивая мысль Ю.М. Лотмана, можно утверждать, что в художественной литературе существуют два типа повтора – поэтический и прозаический. Они, соответственно, тяготеют к поэзии и прозе как к двум полюсам, но не связаны с ними абсолютно жестко: поэтический повтор возможен в прозаическом (с точки зрения ритмической организации) тексте, который ориентирован на риторические приемы организации поэзии; прозаический повтор встречается в поэтических произведениях, воссоздающих некий художественный (фикциональный) мир (при том, что такая установка в целом в литературе Нового времени более характерна для повествовательной прозы).
Таким образом, в стихе доминантная функция повтора – установка на выразительность, на коннотации и на метаописательность/автореференцию (повтор означает сам себя[888]), а в прозе – на референцию. «Прозаический» повтор – это повтор событийный, ситуационный, сюжетный, относящийся к пространственно-временному плану произведения. Это повтор и означающего, и означаемого. (При этом – в отличие от поэтического повтора – строгое сохранение «рисунка» означающих при повторении не столь обязательно.) Проза в принципе – конечно, речь идет только о типичных случаях – предполагает референциальный мир, моделирующий реальность, в поэзии эта референциальная функция чаще ослаблена. Естественно, типичный повтор в прозаическом тексте (так называемый концептуализирующий мотив, по Е. Фарыно[889]) несет в себе метаописательную, автореференциальную функцию – без этого он попросту не будет опознан; но эта автореференция, способствующая семантизации, концептуализации повтора, уже наслаивается на функцию референции, на денотацию.
Поэтому особенно интересны (из-за нетривиальности) случаи смены доминанты, например когда в прозаическом тексте на первый план выходит повтор в поэтической функции. Один из таких случаев, очень яркий и выразительный, – «Распад атома» Георгия Иванова[890]. Владислав Ходасевич в своем отклике, в целом пристрастно-несправедливом, точно отметил поэтическую природу текста. Он даже категорично утверждал, что этот текст не должно называть романом или повестью, так как в нем нет ни фабулы, ни действующих лиц, и предпочел именование «поэма»[891].
Поэтическая установка ивановского произведения проявляется в необычайно интенсивном для относительно небольшого прозаического текста (объем «Распада атома» составляет 7194 слова, или 41 099 знаков без пробелов, или 787 строк) использовании разнообразных повторов.
Прежде всего, это комбинация лексических и синтаксических повторов: повторение последовательности одних и тех же лексических единиц в одних и тех же синтаксических позициях.
Таков, например, повтор атом неподвижен: «Атом неподвижен. Он спит. Все гладко замуровано, на поверхность жизни не пробьется ни одного пузырька» – «Атом неподвижен. Он крепко спит. Ему снится служба и Обухов мост»[892]. Это один из сквозных, ядерных мотивов, заданных в заглавии текста; он характеризует существование и аннигиляцию (моральную, душевную, а в финале – и физическую) героя, представленного то как субъект – я, то как объект описания[893]. Помимо дословных повторов конструкции атом неподвижен и варьирования конструкции он спит / он крепко спит в тексте неоднократно (в виде сравнения и метафоры) присутствует лексема атом, несущая ту же семантику: «Каждый, как атом в ядро, заключен в непроницаемую броню одиночества» – «Точка, атом, сквозь душу которого пролетают миллионы вольт».
Семантически эквивалентен повтору с лексемой атом повтор: «Человек, человечек, ноль растерянно смотрит перед собой» – «Человек, человечек, ноль сидит с остановившимся взглядом». Я, атом и человек, человечек – варианты одного инвариантного персонажа.
Еще один повтор лексем в одной и той же синтаксической конструкции – предикативная пара я хочу: «Я хочу порядка» – «Я хочу душевного покоя» – «Я хочу чистого воздуха». С ней сцеплен ряд других повторов, в которых из лексических единиц повторяется личное местоимение я, но точно воспроизводится предикативная структура, предикаты же повторяются посредством варьирования – иду / думаю: «Я дышу» – «Я живу. Я иду по улице. Я захожу в кафе» – «Я иду по улице. Я думаю о различных вещах». Эта цепочка повторов завершается рядом с анафорическим я думаю, вводящим синтаксический повтор: предлог о + дополнение – существительное в форме предложного падежа: «Я думаю о сладострастии и отвращении, о садических убийствах, о том, что я тебя потерял навсегда, кончено» – «Я думаю о различных вещах и, сквозь них, непрерывно думаю о Боге» – «Я думаю о нательном кресте, который я носил с детства, как носят револьвер в кармане – в случае опасности он должен защитить, спасти. О фатальной неизбежной осечке. О сиянии ложных чудес, поочередно очаровывавших и разочаровывавших мир. И о единственном достоверном чуде – том неистребимом желании чуда, которое живет в людях, несмотря ни на что. Огромном значении этого. Отблеске в каждое, особенно русское сознание».
И далее происходит перетекание мотивов, рядов думаю (с повтором-подхватом мотива думаю о Боге) / иду: «Я иду по улице, думаю о Боге, всматриваюсь в женские лица», дальше опять ряд думаю: «Я думаю о войне» – «Я думаю о банальности таких размышлений».
Одновременно упоминание о револьвере в кармане предсказывает финальный мотив «Распада атома» – самоубийство, а слова русское сознание далее подхватываются, развертывая мотив онанирующего русского сознания: «Ох, это русское, колеблющееся, зыблющееся, музыкальное, онанирующее сознание. Вечно кружащее вокруг невозможного, как мошкара вокруг свечки. Законы жизни, сросшиеся с законами сна. Жуткая метафизическая свобода и физические преграды на каждом шагу. Неисчерпаемый источник превосходства, слабости, гениальных неудач». Мотив же онанизма скрепляет тему русского сознания с темой маленького человека. Его репрезентантом у Георгия Иванова выступает гоголевский Акакий Акакиевич Башмачкин вместе со своим творцом Гоголем, противопоставленным умершему, испарившемуся из русского культурного бытия светлому, гармоническому началу – пушкинскому. Одновременно в роли несчастного онаниста-вуайериста оказывается и сам герой, и русский человек вообще: «Петербургский ранний закат давно погас. Акакий Акакиевич пробирается со службы к Обухову мосту. Шинель уже украдена? Или он только мечтает о новой шинели? Потерянный русский человек стоит на чужой улице, перед чужим окном, и его онанирующее сознание воображает каждый вздох, каждую судорогу, каждую складку на простыне, каждую пульсирующую жилку». От этого фрагмента мотивные нити текста расходятся к эпизоду с онанирующим новобранцем (возможно, французом), выводя этот мотив за пределы русской и метафизической тематики, и к «онанирующему сознанию» Акакия Акакиевича и к Гоголю, который «бормочет <…> закатив глаза в пустоту, онанируя под холодной простыней»; почти в финале, где всё (и как бы сам текст Георгия Иванова, его ключевые образы)[894] улетает в помойку вечности, присутствует и «Акакий Акакиевич, с птичьим профилем, в холщовых подштанниках, измазанных семенем онаниста».
На инвариантном семантическом уровне мотив онанизма предстает и как символ иррационального русского сознания, и как знак предельной замкнутости атома, человеческого я в себе самом (невозможность сексуального контакта с женщиной как вариант невозможности душевного контакта, общения с другими). Одновременно такая деталь, как петербургский закат, подключает к этому мотиву другой пучок инвариантных тем «Распада атома» – конец искусства, старой цивилизации, веры. Ключевой для реализации этой темы фрагмент оформлен повторами лексемы закаты / закат, частично в позиции анафоры: «Закаты, тысячи закатов. Над Россией, над Америкой, над будущим, над погибшими веками. Раненый Пушкин упирается локтем в снег и в его лицо хлещет красный закат. Закат в мертвецкой, в операционной над океаном, над Альпами, в дощатом лагерном нужнике: все оттенки желтого и коричневого, запятые на стенках, сложная вонь, перебиваемая свежестью, сквозящей в щели. Новобранец, розовый парень, придерживая одной рукой дверь, поспешно онанирует другой. Задохнувшись, заглушенно вскрикнув, он кончает <…> Так и не удалось вообразить оставленную в деревне невесту. Конечно, его убьют на войне, может быть, еще в этом году.
Закат над Тамплем. Закат над Лубянкой. Закат в день объявления войны и в день перемирия: все танцевали, все были пьяны, никто не слышал, как голос сказал – “Горе победителям”. Закат в комнате, где когда-то мы жили с тобой: синее платье лежало на этом стуле»[895].
Еще один ключевой фрагмент «Распада атома» содержит тему крушения веры в искусство, культа эстетического и проникнут горькой иронией по отношению к эстетам. Он маркирован анафорическим повтором блаженны / блажен: «Я знаю этому цену и все-таки завидую им: они блаженны. Блаженны спящие, блаженны мертвые. Блажен знаток перед картиной Рембрандта, свято убежденный, что игра теней и света на лице старухи – мировое торжество, перед которым сама старуха ничтожество, пылинка, ноль. Блаженны эстеты. Блаженны балетоманы. Блаженны слушатели Стравинского и сам Стравинский. Блаженны тени уходящего мира, досыпающие его последние, сладкие, лживые, так долго баюкавшие человечество сны».
Этот фрагмент, являющийся антисимволом веры автора и его героя, что подчеркнуто благодаря цитатному характеру приема и самой лексемы, отсылающих к Христовым заповедям блаженства из Евангелия от Матфея (глава 5, стихи 3–11), где сказано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня».
Поэтика повторений охватывает не только повторы слов, но и повторы значений, сем, имеющих разное лексическое выражение. В тексте Георгия Иванова устанавливается эквивалентность между закатом, смертью культуры, смертью отдельных людей, смертью крысы, онанизмом и совокуплением с мертвой. Приравнивание совершается, например, благодаря паронимической аттракции (Гоголь, который онанирует, «закатив глаза в пустоту», и закат), омонимии (кончающий онанист-новобранец и конец жизни и культуры), коннотациям (вытекающее из мертвой семя и семя онаниста как бесплодные) и т. д.
Структура «Распада атома» организована помимо точных лексико-синтаксических и лексических повторов повторениями образов, не имеющих тождества в лексическом плане выражения. Таков ряд образов: мертвая девочка (и мотив совокупления с нею) – женщина (и совокупление с нею) – генеральская дочка – Психея – былая возлюбленная героя. Или три образа: дохлая крыса в мусорном ведре, неосторожно съевшая яд, французский министр, подписавший Версальский договор с поверженной Германией и позднее проворовавшийся и умерший «на тюремной койке», и «чернильная крыса» Акакий Акакиевич. Образы крысы и министра находятся в начале текста и соединяются в финале: «Министр, подписавший версальский договор, пролетел, напевая “Германия должна платить”, – на его острых зубах застыла сукровица, в желудке просвечивал крысиный яд».
В начале текста описывалось содержимое мусорного ведра. В конце сама вечность оказывается родом помойки, куда все ссыпается. Повтор уже не самого образа, а его семантического наполнения и мотива выброшенного мусора закольцовывает текст, но с кумулятивным эффектом – финальный образ вселенской помойки в семантическом отношении несоизмеримо сильнее начального, внешне просто бытового. Начинаясь вполголоса, под сурдинку, ближе к финалу текст звучит грандиозным и страшным крещендо[896].
В мотивной паутине повторов и сплетений ивановский герой теряет персонажные принципы, являясь то конкретным я – русским эмигрантом, то Акакием Акакиевичем, то человеком вообще, мельчайшей единицей, атомом. Законы наррации нарушены: герой Иванова – то повествующий, то повествуемый. В конечном счете комбинаторика мотивных и образных повторов приводит к размыванию и исчезновению пространственно-временных ориентиров. Соответственно, отдельные эпизоды (как шокировавшая современников и сочтенная «порнографической» сцена с мертвой девочкой) не могут быть оценены однозначно как реальные (в рамках художественного мира текста) или же как плод больной фантазии атома. Размыванию референции способствует также употребление одних и тех же лексем и как означающих, отсылающих к предметному денотату, и как символов (как в случаях с закатами и с онанизмом).
Ритм повторов, уходящих и вновь возвращающихся, наплывающих мотивов и образов, в «Распаде атома» имеет, очевидно, изобразительную функцию, словно воспроизводя ритм коитуса или манипуляций онаниста.
Структура «Распада атома» подчинена не логике сюжетного повествования, а музыкальным принципам контрапункта и обнаруживает определенное родство с поэтикой симфоний Андрея Белого, где «[о]бразы и эпизоды сочетаются в свободных комбинациях и сменяют друг друга вне зависимости от обычных сюжетно-прагматических связей, но это не значит, что в произведении Белого все подчинено внутреннему, “музыкальному” ритму и управляется чередующимися образно-смысловыми лейтмотивами»[897]. Сходство это, по-видимому, намеренное: ивановский текст является во многих отношениях программно антисимволистским по семантике, при том что в плане выражения «Распад атома» ориентирован на символистскую поэтику[898].
Принципы построения симфоний Андрея Белого родственны не только музыке, но и поэзии. Это естественно, так как организация музыкального и стихотворного текстов во многом похожи. Как заметил Иосиф Бродский, «[в]ообще, мне кажется, музыка дает самые лучшие уроки композиции, полезные и для литературы. Хотя бы потому, что демонстрирует некие основополагающие принципы. <…> А чего стоит чередование лирических пассажей и легкомысленных пиццикато… и вся эта смена позиций, контрапунктов, развитие противоборствующих тем, бесконечный монтаж»[899].
Для сравнения поэтического повтора с прозаическим рассмотрим повторяющийся образ растение чернобыльник в рассказе графа Льва Толстого «Хозяин и работник»[900].
Признак чернобыльника, заключенный во внутренней форме слова и содержащийся в описании засохшего растения Толстым, – черный цвет. Этот цвет наряду с белым цветом снега образует фон, семантический «второй план» всего толстовского рассказа. Впервые сквозной цветовой образ черного цвета встречается еще задолго до описания чернобыльника, словно подготавливая появление изображения мертвого растения ближе к финалу рассказа, в момент кульминации. Этот цвет в описании трагической поездки встречается при упоминании Телятинского леса, который «изредка смутно чернел через снежную пыль», затем появляется в эпизоде, когда персонажи, в первый раз сбившись с пути, видят землю, которая «чернелась», насыпавшись «с оголенных озимей сверх снега» и окрасив его «черным». После этого заблудившиеся Василий Андреич и Никита, оказавшись на захаровском поле, различают «черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега». Наконец они увидели что-то «черневшееся»; оказалось, это «ряд высоких лозин», которые «были обсажены по канаве гумна», за ними же «зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей».
Так хозяин и работник в первый раз попадают в Гришкино вместо Горячкина, куда направлялись. Брехунов решает не останавливаться на ночлег, а продолжить опасное путешествие. Вскоре они обогнали телегу, в которой возвращаются с праздника мужики и баба. Телега сначала показалась Брехунову и Никите как «что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега». Наконец «впереди действительно зачернело что-то; лес ли, деревня»: путешественники вновь оказались в Гришкине.
После того как путники, напившись чаю у гришкинского знакомца, по настоянию Брехунова все-таки уже впотьмах выехали в дорогу, черное вновь начинает с ними свою завлекающе-обманчивую игру, на сей раз уже смертельную. «Что-то чернеющееся впереди» оказывается не лесом, как ожидал Василий Андреич, а кустом. Когда они уже окончательно сбились с пути, Василий Андреич, всматриваясь в пелену снега перед собой, различает лишь «чернеющую голову» запряженного в их сани жеребца Мухортого.
Василий Андреич пытается бежать один из снежного плена на Мухортом, оставив Никиту замерзать в санях: «Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, а было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил направление <…>».
В своем теперь уже одиноком странствии Брехунов тоже сбился с пути, двигаясь по кругу; он вновь приходит все к тому же чернобыльнику: «Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверное деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепыхался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян, – подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся: это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный».
Образ чернобыльника соотнесен с образом других растений – лозин, возле которых оказались Василий Андреич и Никита, в первый раз подъехав к Гришкину. Брехунову в «чем-то черном, показавшемся из-за снега впереди их» чудится Горячкинский лес. Но «Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жилье <…>. И действительно, не проехали они еще и десяти саженей <…> как перед ними зачернелись, очевидно, деревья, и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин, с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна». Миновав эти посадки, лошадь вскоре выбралась на дорогу.
И лозины, и чернобыльник нещадно раскачивает холодный ветер; «унылому звуку», издаваемому лозинами на ветру, соответствует свист ветра в поросли чернобыльника. В обоих случаях Брехунов обманывается, принимая лозины за лес, а чернобыльник – за стены изб. Однако два образа не столько созвучны, сколько контрастны один по отношению к другому: посаженные крестьянскою рукою лозины – верный знак близкого жилья; сухой бурьян в поле, по ошибке принятый было Брехуновым за деревенские избы, – свидетельство окончательной утраты пути, тщетности потуг Василия Андреича выбраться из пучины снежного моря.
У мотающегося под порывами ветра чернобыльника есть и образ-двойник, наделенный противоположным колористическим признаком, – белая рубаха, висящая вместе с другим «замерзшим бельем» на веревке в одном из дворов на околице Гришкина: «Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами». Покидая Гришкино, Брехунов и Никита вновь замечают эту рубаху: «белая рубаха уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве». Потом, в третий раз, они видят это забытое на ветру белье, вторично попадая в деревню. И наконец, когда они в последний раз выезжают из деревни, белья «теперь уже не видно было». Рубаха, как и чернобыльник, раскачиваемая ветром, метонимически обозначает человека. С одной стороны, этот образ – предвестие смерти Брехунова: белый – цвет смерти (ср. народный обычай надевать перед смертью белые рубахи); белый – цвет снега, засыпающего дорогу и затягивающего пеленой окрестности; белы лицо и борода у полузамерзшего, заиндевевшего от мороза Никиты. У Никиты, входящего в гришкинскую избу, «запушенное снегом лицо, глаза и борода». И потом, в уже вставших санях: «густо засыпанный снегом Никита».
В белом и черном цвете благодаря повторам актуализируется символическое значение, связанное с трауром и смертью. Квинтэссенция этих смыслов заключена в образе чернобыльника. Из всех образов рассказа, связанных с черным цветом, чернобыльник – самый действенный как символ. В нем заключен библейский новозаветный прообраз, семантический архетип. Чернобыльник – другое название растения полынь[901]. В Откровении святого Иоанна Богослова (глава 8, стихи 10–11) одна из эсхатологических казней погрязшего в грехах, отвернувшегося от Бога человечества такова: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». «Хозяин и работник» – это тоже своего рода эсхатологический текст, «откровение смерти»[902], дарованное Василию Андреичу Брехунову. Толстовский рассказ повествует не о «большой», а о «малой» эсхатологии – о судьбе одной грешной души, прошедшей через предсмертные мытарства к свету любви и правды.
В сюжетном плане толстовского рассказа, рассматриваемом с точки зрения правдоподобия, мимесиса, ситуации, когда герой дважды видит белую рубашку или чернобыльник и тем более когда он раз за разом встречается с черными/чернеющимися предметами, являются не повторами одного события, а разными событиями. И только в символическом коде произведения они воспринимаются как повторы. Таким образом, символический код «реалистического», условно говоря, рассказа организован по поэтическому принципу. Именно этот поэтический принцип (повторы и контрасты) в прозе ответствен за формирование дополнительного, надфабульного значения – то есть собственно художественной семантики. Однако этот код – уровень второго порядка, как бы надстроенный над уровнем событийным. Семантика уровня второго порядка, будучи интерпретирована после восприятия фабульного уровня, побуждает вновь вернуться к событиям и понять их уже не только как мир референтов, но и как символическую структуру. В итоге дополнительный смысл как бы сквозит, мерцает сквозь события[903].
По-видимому, с определенным основанием можно говорить о противоположности установок прозы и поэзии в литературе Нового времени. Для большинства жанров первой характерна в качестве доминантной установка на референцию (хотя и преимущественно по отношению к воображаемому миру), на означаемое. Для большинства поэтических жанров, напротив, доминантным является принцип автореференции, означивание означающих. Поэтический текст означает прежде всего сам себя, повтор в нем указывает не на повторение референтов, а на самого себя. Показательна в этой связи как актуализация фонетико-фонологических структур в поэтических текстах, в ХХ веке рассмотренная прежде всего структуралистами, так и роль визуального компонента в поэтическом тексте. «Сегодня уже не выглядит преувеличением суждение о том, что “вся напечатанная поэзия – это визуальная поэзия в широком смысле; в том смысле, что, когда мы читаем стихотворение, визуальная форма влияет на то, как мы читаем его, и таким образом соучаствует в формировании нашего опыта в восприятии звука, движения и значения стихотворения”»[904].
Особенно же показательны carmina figurata – крайний пример того, как визуальность графического облика текста утверждается именно в поэзии, но не в прозе[905].
Последовательное использование поэтического повтора в прозаическом тексте приводит к принципиальным изменениям в его референтной функции.
Экзистенциализм по-русски, или Самоубийство серебряного века: «Распад атома» Георгия Иванова[906]
Природу можно описать то прекрасно, как солнечный день, то безобразно и ужасно, как рыбу, всплывшую кверху брюхом и начавшую уже плохо пахнуть.
(Из вступительного сочинения)
Эта небольшая книжка, изданная в Париже в 1938 году тиражом двести экземпляров, не прошла незамеченной и имела некоторый успех, которым, впрочем, кажется, была обязана исключительно скандальному обнажению доселе запретных для изящной словесности сфер бытия. Описание содержимого мусорного бака (дохлая крыса, окурки, «ватка, которой в последний раз подмылась невеста»[907]), сцена совокупления героя-повествователя с мертвой девочкой («семя вытекло обратно, я вытер его носовым платком» – с. 12), парижский туалет, под писсуаром которого лежит пропитанный мочой распухший кусок хлеба, и нищий, ждущий, чтобы поднять его и поспешно «унести эту булку домой» (с. 27) – грязь, порнография, непристойность… И рядом с ними эпатирующие оценки русского сознания: «Ох, это русское, колеблющееся, зыблющееся, музыкальное, онанирующее сознание. Вечно кружащее вокруг невозможного, как мошкара вокруг свечки» (с. 8). И наконец: вынесенный России неотменяемый диагноз – смерть. Причем не только на родине, – с этим, скрепя сердце, литераторы-эмигранты еще могли бы смириться. Так нет же: Россия умерла, перестала быть как на родине, так и в изгнании: «Ох, эта пропасть ностальгии, по которой гуляет только ветер, донося оттуда страшный интернационал и отсюда туда – жалобное, астральное, точно отпевающее Россию, “Боже, Царя верни”» (с. 8).
Экзистенциальный, метафизический смысл «Распада атома», неразрывная связь сквозной, то звучащей вполголоса, то доходящей до грозового крещендо, темы пошлости человеческого существования с другой струящейся сквозь текст, обволакивающей его темой – смертью искусства, абсолютное чувство богооставленности, раздавливающее героя, превращающее его, взыскующего Господа и слышащего лишь вселенскую немоту, в плевок на парижской мостовой, – ничего этого не обнаружили суровые критики ивановской книги. Одним из немногих высоко оценил «Распад атома» Владимир Злобин, признавший «несомненное религиозно-общественное значение» книги, автор которой пытается «соединить человека, Бога и пол» вслед за Василием Розановым, но иначе, не через род и семью, а через «я». Произведение Иванова он назвал «книгой очень современной и для нас, людей тридцатых годов нашего века, бесконечно важной»[908].
Однако защита Злобина, продиктованная, вероятно, отчасти «литературно-партийными» интересами, оказалась довольно неуклюжей: рецензент свои толкование и оценку декларировал, но не доказывал.
Как обыкновенно, резок был Владимир Набоков, откликнувшийся даже не на произведение Иванова (оно, по его мнению, вероятно, вообще не заслуживало внимания), а на текст Владимира Злобина: «Автор статьи договаривается до бездн, стараясь установить, почему эта брошюрка с ее любительским исканием Бога и банальным описанием писсуаров (могущим смутить только самых неопытных читателей) просто очень плоха»[909]. Набоковский несправедливый отзыв продиктован личной неприязнью к автору «Распада атома»: история литературной вражды двух литераторов была давней, и она – одно из прискорбных свидетельств человеческого несовершенства, обидчивости и мелочной мстительности[910].
«Рискованным манифестом на тему умирания современного искусства» назвал «Распад атома» Роман Гуль, утверждавший, что «в стремлении к “эпатажу” Иванов уснастил свою книгу нарочитой и грубой порнографией»[911].
На этом печальном и мрачном фоне счастливо выделяется отклик Ходасевича, переступившего через давнюю личную антипатию к автору[912]. Отведя как неуместные и упрек в «порнографии», и подозрение в дешевом эпатаже как инструменте успеха, Владислав Ходасевич тонко отметил жанровое своеобразие книги – «поэмы в прозе», но в конечном счете отправил ее в мусорный бак как низкопробную и безнравственную: «<…> Становится жутковато: как бы не взяли в Москве да не перепечатали бы всю книгу полностью, как она есть, – с небольшим предисловием на тему о том, как распадается и гниет эмиграция от тоски по “красивой жизни” и по нетрудовому доходу»[913].
Гласом вопиющего в пустыне прозвучали слова Зинаиды Гиппиус на заседании литературного общества «Зеленая лампа» в конце января 1938 года: книга Георгия Иванова «не хочет быть литературой», «по своей значительности она выливается за пределы литературы»[914].
Итог попытался подвести многие годы спустя Глеб Струве, но и его суждение далеко от беспристрастного нейтрального тона: «Книга эта не подходит ни под один принятый беллетристический жанр. Она написана от имени фиктивного героя, но действия в ней никакого нет. Размышления о конце искусства и конце эпохи вообще перемежаются с отдельными эпизодами и подчеркнуто натуралистическими описаниями (например, содержимого уличного мусорного ящика в Париже)»[915]. Отбрасывая трактовку «Распада атома» Злобиным, Струве всецело согласился с В. Сирином – Набоковым: «Есть, правда, в книге некрофильский эпизод (отвратный, но в каком-то смысле даже центральный, – к нему “я” Иванова возвращается) с совокуплением этого “я” с мертвой девочкой; есть рассуждения о парижских девицах легкого поведения с некоторыми иллюстрациями, но при чем тут соединение пола с Богом и человеком, ума не приложить <…>….Надо признать, что В.В. Набоков был прав». Впрочем, Струве проявил долю покровительственного снисхождения: «И все же некоторого внимания книжица Иванова заслуживает – и как симптом, и как комментарий к Иванову-поэту. Мысли Иванова об умирании искусства <…> не новы и не особенно интересны (и если убрать “порнографию” и еще кое-что, их можно было бы уместить на нескольких страничках, а в “книжице” их 80!), но они являются крайним выражением того ивановского нигилизма, который Гуль эвфемистически называет “экзистенциализмом”»[916].
Несправедливость этого приговора сейчас, когда ивановский текст рассматривается с дистанции, не близоруко, с помощью новой оптики, очевидна: Георгий Иванов неизменно защищал и одновременно обличал «лично дорогое», и «Распад атома» – «это par excellence “выворачивание наизнанку” всего “лично дорогого”. И дорогого не каким-то там “русским снобам”, а самому автору <…>. “Поэма” Георгия Иванова возвещала о конце поэзии, его собственной поэзии, которой – единственной на своем земном поприще – он был предан. После “Распада атома” ее автор и на самом деле умолк как поэт на шесть лет»[917]. «Открытое заимствование тем и образов из произведений отечественных классиков» Георгием Ивановым вовсе не призвано продемонстрировать «неразрывную связь» «Распада атома» с «гуманистической традицией русской литературы», как утверждает Николай Мельников: герой не может точно вспомнить – «промычать» не только пушкинские строки «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» (с. 27), но даже и футуристическую заумь: «“Человек начинается с горя”, как сказал какой-то поэт. Кто же спорит. Человек начинается с горя. Жизнь начинается завтра. Волга впадает в Каспийское море. Дыр бу щыл убешур» (с. 26)[918]. Дальше – только немота, судорожное молчание, и никакой «гуманистической» традицией здесь и не пахнет: ее язык попросту не приспособлен для таких чувств («Жизнь больше не понимает этого языка» – с. 18), да и само обесценившееся слово «гуманизм» имеет вес и смысл, только когда относится к европейским мыслителям Возрождения. И нет в «Распаде атома» никакого «наносного цинизма, цинизм и боль несовместимы. Но, действительно, Иванов «ощущает свою боль “частицей божьего существа” и продирается сквозь мрак отчаяния и “хаос противоречий к вечной правде, хотя бы к бледному отблеску ее”»[919].
Литературная форма «Распада атома» не столь уникальна для русской словесности, как может показаться на первый взгляд. Череда откровенных до бесстыдства признаний героя, безжалостный самоанализ напоминают о «Записках из подполья» Достоевского. Но исповедь подпольного героя прочно скреплена сюжетом, а автор брезгливо отстраняется от персонажа, – в то время как в ивановском тексте словно происходит распад структуры, автор же приближается к герою настолько, что превращается в его тень. «Музыкальное» строение текста с всплывающими и уходящими прочь, загорающимися, мерцающими и гаснущими лейтмотивами – смерть искусства, светлое пушкинское начало и темное, гнетущее, неприкаянное гоголевское, богооставленность, любовь и акт любви, парижский писсуар… – завораживающий, парализующий, оплетающий ритм фраз, – отголосок словесно-музыкальных симфоний Андрея Белого, но без мистических озарений, без символистского мифотворчества. Шокирующая откровенность рассказчика, кажущаяся спонтанной, хаотичной смена эпизодов-кадров, словно заснятых камерой, которую забыл выключить оператор, вызывают в памяти «Опавшие листья» и «Уединенное» Василия Розанова, «интимные до оскорбления»[920]. Но Розанов действительно превращал интимное свидетельство, «документ души» в достояние литературы. Иванов же совершает противоположную метаморфозу: литературный текст притворяется интимным дневником, написанным едва ли не извращенцем – некропедофилом и садистом – все это в воображении. Этот странный, кажущийся даже чудовищным персонаж имеет, однако, весьма почтенную – в литературном, а не в социальном отношении – родословную. Его предок – гоголевский Акакий Акакиевич Башмачкин, «маленький человек» – предмет сочувствия и сострадания милосердной русской словесности. Акакия Акакиевича обижали люди, и страдал он фетишизмом, возведя в перл создания, сделав своею любовницей и супругою новенькую шинель; изъяснялся косноязычно, наводняя свою речь всякими «того-с». Безымянный герой Иванова обижен не людьми, а бытием и Богом (если Он есть, во что несчастный аноним хочет, и не может, и не желает верить)[921]. Предмет его вожделения – мертвая девочка и здравствующие женщины, но он не удовлетворяет свою страсть физически, а, почти как вуайерист, следит за парами и в воображении рисует откровенные сцены. И совокупление с умершей девочкой, похоже, только плод его воображения. Этому господину «никто» далеко до демонических «сильных» извращенцев Достоевского – Свидригайлова и Ставрогина. И персонаж Иванова почти отождествляет себя с бедным Акакием Акакиевичем: «Петербургский ранний закат давно угас. Акакий Акакиевич пробирается со службы к Обухову мосту. Шинель уже украдена? Или он только мечтает о новой шинели? Потерянный русский человек стоит на чужой улице, перед чужим окном, и его онанирующее сознание воображает каждый вздох, каждую судорогу, каждую складку на простыне, каждую пульсирующую жилку. Женщина уже обманула его, уже растворилась без следа в перистом вечернем небе? Или он только предчувствует встречу с ней? Не все ли равно» (с. 28). Онанизм «метафизический» приравнен к реальному. Это он, Акакий Акакиевич, «в холщовых подштанниках, измазанных семенем онаниста» (с. 33), тоже ничтожный атом: «Акакий Акакиевич получает жалованье, переписывает, копит деньги на шинель, обедает и пьет чай. Но это все поверхность, сон, чепуха, бесконечно далекая от сути вещей. Точка, душа неподвижна и так мала, что ее не разглядеть и в самый сильный микроскоп. Но внутри, под непроницаемым ядром одиночества, бесконечная нелепая сложность, страшная взрывчатая сила, тайные мечты, едкие, как серная кислота. Атом неподвижен. Он крепко спит. Ему снится служба и Обухов мост. Но если пошевелить его, зацепить, расщепить…» (с. 28–29).
Слышится на страницах «Распада атома», в мечтах мелкого чиновника о генеральской дочке, и быстрый горячечный шепот другого гоголевского «маленького человека» – Поприщина из «Записок сумасшедшего». Чуть в отдалении – несчастный Макар Девушкин из «Бедных людей» Достоевского, потерявший любимую девушку. А за этими тенями смутно виднеются воспаленные глаза «маленького человека» декадентской эпохи – гимназического учителя Передонова – сладострастника, тайного извращенца, скандалиста из романа Федора Сологуба «Мелкий бес». Еще в романе «Тяжелые сны» Сологуб «писал действительно о себе, о своих двоящихся мыслях и поисках истины (и затем развивал эту тему в “Мелком бесе” и “Творимой легенде”)». Тоска, подавленность, ощущение враждебности мира, страх перед ним гнетут и учителя Передонова[922].
Но Федор Сологуб в своем декадентском романе преклонялся перед Красотой, отвергнутой ивановским «атомом»: «Основополагающая для творчества символистов утопия о Красоте – глубинной сущности мира и преображающей силе бытия – трансформировалась в романе в миф о невозможности воплощения Красоты в земном бытии, которым движет “слепая злая воля”, где царят хаос и энтропия. Ведущая метафизическая идея “Мелкого беса” утверждает земное бытие как <…> обман и кажимость»[923].
Декаданс совершил выбор в пользу Красоты. «Выбор в пользу автономной, свободной красоты равнозначен освобождению от морально-этических категорий добра и зла. При этом либо различие между добром и злом отрицается <…> либо утверждается красота зла и злотворность эстетического <…>»[924]. Для Георгия Иванова мир, пропитанный и пахнущий рвотой, мочой и кровью, реален, слишком реален, он явственнее чахоточно бледных фантазий искусства.
«Мир уродлив и страшен, – тем хуже миру», – утверждает автор «Мелкого беса».
«Мир уродлив и страшен, – но Красота не должна горделиво возноситься над ним», – отвечает автор «Распада атома».
У маленького человека не маленькое жалованье, а маленькая душа. Но такая она у всех. Акакию Акакиевичу легко сострадать. А просто ли посочувствовать «маленькому человеку», обиженному бытием? Все мы вышли из «Шинели» (шинели) Гоголя. И все мы в нее возвращаемся, зябко кутаемся на петербургском промозглом зимнем ветру в парижских июльских сумерках.
«Распад атома» был издан в один год с экзистенциалистским романом Жана-Поля Сартра «Тошнота». «Говорить о прямом влиянии вряд ли приходится: Георгий Иванов завершил свою “поэму в прозе” (определение В. Ходасевича) еще в конце февраля 1937 года, и тем не менее переклички обеих вещей русского и французского авторов очевидны – эффект близкой мировоззренческой наводки глаза!»[925]
Рожденные в один год, эти два произведения очень похожи. Но если они и братья, то не близнецы. Слова Светланы Семеновой: «и “я” “Распада атома”, и дневниковое “я” Рокантена из “Тошноты” – герои воистину экзистенциальные, открывшие для себя ощущение своего существования как такового, герои, пробудившиеся от механически-будничной спячки жизни, обретшие какое-то пронзительное, страшное зрение истины смертного, случайного, абсурдного бытия» справедливы только для героя «Тошноты». Ивановский «атом» не пробуждался, он страдает метафизической бессонницей и одновременно спит наяву: «<…> В моем сознании законы жизни тесно переплетены с законами сна. Должно быть, благодаря этому перспектива мира сильно искажена в моих глазах» (с. 6). Но, Боже, какие это скудные, тощие и неприглядные сны, – ничем не лучше яви. Ничтожный «атом» не испытал экзистенциальной катастрофы – прозрения, он словно бы изначально влачит существование post aetatem nostrum – после нашей эры, после конца времен.
Сартровский Антуан Рокантен тоже ощущает затерянность в мире, а свое существование переживает как абсурд. Свои новые чувства и мысли он поверяет дневнику. Но Рокантен спасается, его метафизическую тошноту вылечивают свобода и творчество[926]. Он находит точку опоры в пустоте бытия – Книгу. Только «надо, чтобы за ее напечатанными словами, за ее страницами угадывалось то, что было бы не подвластно существованию, было бы над ним. Скажем, история, какая не может случиться, например сказка. Она должна быть прекрасной и твердой как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования»[927].
Альбер Камю книгу «Миф о Сизифе», изданную в декабре 1942 года, завершает гимном свободе: «Остается только судьба, и ее исход предрешен. За исключением единственной фатальности смерти, во всем остальном, в радости ли, в счастье, царит свобода. Человеку предоставлен мир, он – единственный властелин его»[928].
Для героя Иванова этот рецепт непригоден: он и так свободен, и не знает, что делать с этим, его пугает не абсурд бытия, а «сладковатый тлен – дыхание мирового уродства», преследующий, «как страх» (с. 7). Он видит жизнь как кучку сора, которая «исчезая, уничтожаясь, улетает в пустоту, уносится со страшной скоростью тьмы» (с. 11). Как «рвоту, мокроту, пахучую слизь», как «падаль», «человеческую падаль» (с. 13). От такого мира не тошнит, а выворачивает наизнанку. Собственными внутренностями.
- Искусство здесь бессильно:
- Конечно, есть и развлеченья:
- Страх бедности, любви мученья,
- Искусства сладкий леденец,
- Самоубийство, наконец.
«Г. Иванов как бы уже перерос такое эстетическое оправдание бытия», – замечает Светлана Семенова. Она констатирует: «Таков страшный онтологический итог, выраженный Георгием Ивановым с раздирающей болью, черной иронией, на таких эстетических пределах, которых еще не знала большая русская литература»[930].
Экзистенциализм Серена Кьеркегора, приходящего через «страх и трепет», через абсурд бытия к вере, не для ивановского «атома»[931]. Очищения смертью, ее «откровениями»[932], приобщения к жизни вечной, дарованного Толстым Ивану Ильичу Головину и Василию Андреичу Брехунову через преодоление ограниченности «я», погрязшего в себялюбии и фальши, ивановский «атом», отпавший от Бога, лишен. Трагический оптимизм Сартра и Камю для него слишком жизнерадостен и эгоистичен в самоутверждении свободы «я».
Сначала русские классики, чьи сочинения заворожили философов-экзистенциалистов, – Толстой в «Смерти Ивана Ильича и в «Хозяине и работнике», Достоевский в своих великих романах, затем французские экзистенциалисты – Сартр, Альбер Камю – вбрасывали своих героев в «пороговые ситуации», пытали их смертью, чтобы добиться «перелома». Экзистенциалистская литература изображала этот «перелом» как «крушение», «падение» прежней стройной картины мира и переход через абсурд к обретению высшей истины. И намного реже – как безысходное падение в состояние абсурда: таков роман Камю «Посторонний». Персонаж экзистенциалистов – это прежде всего герой. Георгий Иванов представляет нам не-героя, который словно искони был одержим метафизической тоской и экзистенциальным ужасом. Да, он знает, что была большая война, после которой все стало иначе, мир сдвинулся в своих основаниях. Кажется, когда-то у него была родина, которую звали Россия. Может быть, у него когда-то и где-то была возлюбленная: о ней этот человек без имени и лица вспоминает несколько раз, бормочет: «Синее платье, размолвка, зимний туманный день…» (с. 19).
Но о России автор «Распада атома» еще несколькими годами раньше написал:
- Россия счастие. Россия свет.
- А, может быть, России вовсе нет.
- <…>
- Россия тишина. Россия прах.
- А, может быть, Россия – только страх[933].
Возлюбленная ивановского персонажа, может быть, не более реальна, чем та душа – Психея, которая рождается из тайных мечтаний и «жадной мысли» Акакия Акакиевича, «превращается в <…> желанную плоть» (с. 29). Так Психея грезится было человеку без имени в «уличной девчонке» (с. 31).
Не было у этого «атома» другой жизни, он изначальный пленник бытия – мусорного бака, морга, кафе, наводненного самодовольными пошляками. Если и было иное прошлое, то оно давно превратилось в plusquamperfectum – давнопрошедшее время. В грамматике русского языка его нет.
Да и само его существование эфемерно, он именует себя то в первом лице – «я», то просто отстраненно называет «человеком». Философ Декарт создал формулу, доказательство бытия «я»: «Cogito ergo sum» – «Я мыслю, следовательно, я существую». Первый фрагмент «Распада атома» открывается словами «Я дышу» (с. 6), второй фрагмент – словами «Я живу» (с. 6). Признаком существования «атома» оказывается только физиологический процесс, не зависящий от его сознания. Впрочем, даже такая уверенность в существовании «я» небесспорна: между «Я дышу» и «Я живу» разрыв, зияние в десятки строк.
За несколько лет до написания «Распада атома» немецкий экзистенциальный мыслитель писал об «анонимных силах», об «анонимном» как о «подлинном бытии человека, угрожающем исчезновением в рассеянии, и подлинном небытии, притязающем как будто на всю сферу существования»[934]. Иванов эту анонимность, это не-бытие воплотил в слове.
В 1930 году Георгий Иванов написал самые свои известные стихи, исполненные жуткой, запредельной иронии:
- Хорошо, что нет Царя.
- Хорошо, что нет России.
- Хорошо, что Бога нет.
- <…>
- Хорошо, что никого,
- Хорошо, что ничего,
- Так черно и так мертво,
- Что мертвее быть не может
- И чернее не бывать,
- Что никто нам не поможет
- И не надо помогать[935].
Мир «Распада атома» – мир, в котором рухнули три опоры: умерла вера в Бога. Умерла Россия. Умерло искусство. Фридрих Ницше когда-то с богоборческой отчаянной радостью и решимостью громко возвещал: «Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! <…> Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет благодаря этому деянию принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!»[936] Книга Ницше была издана в 1882 году. Через двенадцать лет родился автор «Распада атома». Мир постепенно привыкал жить без Бога. Мировая война и революция в России убили веру в прогресс. Серебряный век обоготворил искусство и Красоту. Щедрую дань почитанию искусства как высшей ценности бытия отдал в юности и Георгий Иванов, вошедший в изящную словесность как младоакмеист. В 1937 году, за год до издания «Распада атома», литературный критик Владимир Вейдле напечатал трактат, названный «Умирание искусства», он завершался словами: «Последняя отторженность от религии, от религиозного мышления, от укорененного в религии миросозерцания и миропостроения (заменяемого рассудочным мироразложением) не то что отдаляет искусство от церкви, делает его нерелигиозным, светским; она отнимает у него жизнь. Без видимой связи с религией искусство существовало долгие века. Но невидимая связь в эти века не прерывалась. <…> От смерти не выздоравливают. Искусство – не больной, ожидающий врача, а мертвый, чающий воскресения. Оно восстанет из гроба в сожигающем свете религиозного прозрения, или, отслужив по нем скорбную панихиду, нам придется его прах предать земле»[937].
Владимир Вейдле констатирует близящуюся смерть искусства, Георгий Иванов показывает, каково жить, существовать в мире, где эта смерть произошла. Вейдле пишет, что умирает новое, современное искусство, но верит в жизнь искусства прежних эпох. Иванов констатирует: безжизненным стало искусство классическое, утратившее для современного человека нравственную укорененность в бытии, оправдание перед повседневностью. «Декадентское» почитание Красоты, возносимой на пьедестал превыше добра и зла и оправдываемой даже во зле, воспетой Шарлем Бодлером в торжественных строках «Гимна красоте», переведенного символистом Эллисом: «Будь ты дитя небес иль порожденье ада, / Будь ты чудовище иль чистая мечта, / В тебе безвестная, ужасная отрада! / Ты отверзаешь нам к безбрежности врата»[938], давно превратилось в странное суеверие, а гимны его адептов выглядели почти пошлыми в своей выспренности.
Он издевательски пишет: «бессмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука, липкий тошнотворный страх – преображены гармонией искусства», как «кондитерский торт» украшен глазурью (с. 16). Кощунственно переиначивая евангельские заповеди блаженства, герой Иванова провозглашает: «Блаженны спящие, блаженны мертвые. Блажен знаток перед картиной Рембрандта, свято убежденный, что игра теней и света на лице старухи – мировое торжество, перед которым сама старуха ничтожество, пылинка, ноль. Блаженны эстеты. <…> Уходя, уже уйдя из жизни, они уносят с собой огромное воображаемое богатство. С чем останемся мы?» (с. 16)[939].
Владимир Вейдле верил в обновление искусства, Георгий Иванов – нет, и не считал его необходимым. Перед морщинистым лицом жизни – Старухи искусство терпит нравственное поражение. Пройдет несколько лет, и мир будет поражен вопросом: «Возможна ли поэзия после Аушвица – Освенцима?» Георгий Иванов еще накануне Освенцима утверждает: искусство больше невозможно.
И он наносит удар по Серебряному веку: превращая один из созданных литературой этой эпохи великих мифов в гротескную пародию, исполняемую кривляющимся от боли и сладострастия паяцем. Она, былая возлюбленная «атома», не случайно носила «синее платье», а несчастный «атом», вспоминая, называет ее звездой. Уж не сделано ли оно из обносков «синего плаща», в который заворачивалась героиня блоковских стихов «О доблестях, о подвигах, о славе…». Одежды блоковской Дамы – это одеяние космоса, «шлейф, забрызганный звездами», а синий цвет в палитре поэта – знак небесной гармонии, неотмирного покоя: «Бездыханный покой очарован. / Несказанная боль улеглась. / И над миром, холодом скован, / Пролился звездно-синий час» («Осень поздняя. Небо открытое…»); «мирная безрадельная синь» («Ты был осыпан звездным цветом…»). Но это и любимая краска небытия и смерти: «А Жизнь исходила синим паром / К сусально-звездной синеве» («В туманах, над сверканьем рос…»); карлик – слуга смерти останавливает часы, и наступает «синий сумрак и покой» («В голубой, далекой спаленке…» [II; 105, 22, 74, 83]).
И в поэзии Георгия Иванова синий – цвет звездный, астральный, но только ледяной, жуткий: «<…> синее, холодное, / Бесконечное, бесплодное, / Мировое торжество» («Над закатами и розами…»). Цвет небытия: «Синий ветер, тихий вечер <…> Тихо кануть в сумрак томный, / Ничего, как жизнь, не зная, / Ничего, как смерть, не помня» («Синий вечер, тихий ветер…»). Этот цвет и у сумрака, и даже у ладана («Это только синий ладан…»). Стреляться надо на фоне «синеватого облака» и «синей <…> безнадежной линии / Бесконечных лесов» («Синеватое облако…»). И звезда на небе зажжена смертью:
- Взгляни: горит
- Между черных лип звезда большая
- И о смерти говорит.
- Пахнет розами. Спокойной ночи.
- Ветер с моря, руки на груди.
- И в последний раз в пустые очи
- Звезд бессмертных погляди.
Возлюбленная «атома», само существование которой сомнительно, – шутовская тень Прекрасной Дамы и Вечной Женственности, мистический союз Его и Ее подменен воображаемым и бесплодным совокуплением героя – с мертвой девочкой, а женственную Психею – Душу творит сладострастное воображение «онаниста» Акакия Акакиевича.
Кто она, эта мертвая девочка? Сменившая «облик» Прекрасная Дама, кончившееся искусство, исчезнувшая Россия, улетучившаяся душа, окостеневшая жизнь, неспособная к плодоношению…
Возлюбленная «атома», принадлежащая мертвому прошлому и олицетворяющая Россию, становится и гротескной «подругой» Машеньки – героини одноименного набоковского романа: один из первых рецензентов А.С. Изгоев назвал былую возлюбленную Ганина «символизирующей Россию» и несправедливо посчитал, что «излишнее, в двух-трех местах, подчеркивание этой символики, пожалуй, главный художественный недостаток прекрасной повести В. Сирина»[941]. Воспоминание о России и Машеньке дарует небоковскому персонажу новую жизнь: «В финале романа Ганин, переживший в воображении первую любовь, ощущает силы для новой жизни: “Грудь дышала ровно и глубоко <…>. Он “давно не чувствовал себя таким здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу”»[942].
В «Машеньке» «изгнанник Набоков получает возможность усилием воображения и памяти превратить потерянное в сверхреальное, вечно сущее и потому быть счастливым вопреки любой утрате:
- Вдали от ропота изгнанья
- живут мои воспоминанья
- в какой-то неземной тиши.
- Бессмертно все, что невозвратно,
- и в этой вечности обратной –
- блаженство гордое души.
Герой Иванова такой возможности не получает, он ее и не желает, ибо это вытеснение обстающей его уродливой яви фантазией и воспоминаниями осознает не как освобождение, а как трусливую метафизическую ложь.
Набоков чуток к отвратительному и уродливому, от которых русская классическая литература предпочитала гадливо отворачиваться. В «Машеньке» «по широкой улице уже шагал, постукивая палкой, сгорбленный старик в черной пелерине и, кряхтя, нагибался, когда острие палки выбивало окурок. <…> Несколько проституток разгуливали взад и вперед, позевывая и болтая с подозрительными господами в поднятых воротниках пальто»[944]. Во втором романе – «Короле, даме, валете» «однажды собаку вырвало на пороге мясной лавки; однажды ребенок поднял с панели и губами стал надувать нечто, похожее на соску, желтое, прозрачное; однажды простуженный старик в трамвае пальнул мокротой…»[945].
Но мир для Набокова может быть и прекрасен в своих самых обыденных проявлениях: «Солнце поднималось все выше, равномерно озарялся город, и улица оживала, теряла свое странное теневое очарование. Ганин шел посреди мостовой, слегка раскачивая в руках плотные чемоданы, и думал о том, что давно не чувствовал себя таким здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу. И то, что он все замечал с какой-то свежей любовью – и тележки, что катили на базар, и тонкие, еще сморщенные листики, и разноцветные рекламы, которые человек в фартуке клеил по окату будки, – это и было тайным поворотом, пробужденьем его»[946]. Для героя «Распада атома» красота проблескивает только или в ноющем изгрызенном годами воспоминании, или в воображении, пытающемся воспарить над серым парижским асфальтом и бескрыло падающим вниз.
При всем радикальном новаторстве Набоков был укоренен в традиции Серебряного века – в акмеизме и в символизме: «Именно акмеизм особо выделяет чувственные детали и остроту восприятия, что, как мы знаем, имело для Набокова принципиальное значение <…>. И именно символизм проповедовал такой тип метафизического дуализма – или отделение видимых явлений от “высшей” духовной реальности, – который лежит в основе набоковского подхода к потусторонней действительности. Короче, искусство Набокова представляет собою уникальный образец примирения характеристических черт обоих литературных движений, опровергая тем самым поверхностное представление о полной их и непреодолимой противоположности»[947].
Мотиву мистической любви В. Сирин тоже отдал щедрую, хотя и прикровенную дань: «<…> Заимствованная у Блока ведущая тема набоковской поэзии воплощает платоновскую идею, согласно которой в любви, этом чувстве, восстанавливающем трансцендентальную цельность бытия, души человеческие взыскуют объединения со своими половинами, от которых отделены были при воплощении. <…> Эта мистическая концепция любви <…> пережила юношескую поэзию Набокова. Избавившись от несколько наивного пафоса и став более утонченной, она осуществляется в большинстве крупнейших произведений автора»[948].
Владислав Ходасевич с удивительной для него близорукостью смог разглядеть во вселенском отчаянии ивановского героя всего лишь «взгляд человека, которого постигла любовная неудача, – и от этого мир ему стал мерзок, и перед тем, как пустить себе пулю в лоб, он решает испакостить мир в глазах остающихся»[949]. Но, как известно любой философии, post hoc еще не значит propter hoc: то, что отчаяние раздавило героя после утраты любимой, не означает, что метафизическая катастрофа произошла по причине любовной трагедии. В ивановском тексте такие категории, как время и причинность, вообще не просматриваются. Да и сама реальность этой трагедии и возлюбленной зыбка, сомнительна. Но сон это или действительность, потерянная любовь ивановского «атома» – символическая, хотя и «антисимволистская». Ходасевич, ближайший наследник символистов, приобретший почетную и стесняющую репутацию «Блока русской эмиграции», был обязан этот смысл увидеть и постичь. Герой Иванова – не столько характер, не столько социальный тип – ну какие могут быть типично русские «маленькие люди» в эмигрантском Париже, и сама «малость» «атома» не социальная, а символическая и философическая, – сколько точка в скрещении силовых линий текста.
Затертый «эстетский» задник в «Распаде атома» – череда монотонно сменяющих друг друга столь любимых символистами закатов и рассветов. В символизме они были знаками мистического «визионерского ожидания», «состояния, в котором <…> “мечты” обретают апокалиптически-пророческую направленность», они – «время метаморфоз и перемен»[950]. А у Иванова они лишь отмечают с безжизненностью метронома смену дня и ночи. А именование «русского сознания» «музыкальным» и «онанирующим», через запятую, в одном ряду, – пощечина символизму, почитавшему музыкальность и видевшему в музыке сокровенную основу бытия и мироздания.
Ивановского персонажа ничто не спасет, и воистину ничто ему не поможет. Встреча с бывшей возлюбленной подменена его «грязными» эротическими фантазиями. России больше нет. В известном смысле ее нет и для Набокова, но все же он, брезгливо поморщившись, подарит эту мысль самому несимпатичному персонажу «Машеньки» – пошляку Алферову, с отвратительным презрением отзывающемуся о родной стране: «– А главное, – все тараторил Алферов, – ведь с Россией – кончено. Смыли ее, как вот, знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже…»[951].
И все-таки единственная шаткая опора в мире «Распада атома» – это любовь. Иванов словно откликается на розановское: «Всякая любовь прекрасна. И только она одна и прекрасна.
Потому что на земле единственное “в себе самом истинное” – это любовь»[952].
Но сколь далека эта любовь от любви Серебряного века! Владимир Соловьев, идеи которого питали русских «младших» символистов, особенно Александра Блока, именовал любовь «высшим проявлением индивидуальной любви, находящей в соединении с другим существом свою собственную бесконечность» и противопоставлял ей «внешнее соединение, житейское и в особенности физиологическое», которое «не имеет определенного отношения к любви. Оно бывает без любви, и любовь бывает без него»[953]. В «совершенном браке» физическое соединение мужчины и женщины будет преодолено, изжито[954].






