История свободы. Россия Берлин Исайя
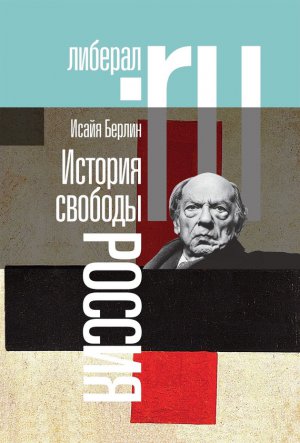
В «Ясной Поляне», журнале, который он издавал частным образом в 1861–1862 годах, Толстой говорит о том, как ездил на Запад, чтобы посмотреть, как там учат детей, и приводит в пример ужасающий (и чрезвычайно забавный) отчет о новейших методах преподавания алфавита, используемых выпускником одной из самых передовых немецких педагогических семинарий. Педантичный, безмерно самодовольный учитель входит в класс и отмечает с одобрением, что ученики сидят по местам, вышколенные и послушные, в полной тишине, по всем немецким правилам. «Он оглядывает класс и уже знает, что они должны будут усвоить; он знает и это; и то, из чего сделаны детские души, и многое другое, чему его учили в семинарии». Вооружен он новейшим и самым передовым учебником, который называется «Das Fischbuch». Там – картинки с рыбами.
«Что это такое, дорогие дети?» – «Рыба», – отвечает самый догадливый. – «Нет». И он не успокоится, пока какой-нибудь ребенок не скажет, что видят они не рыбу, а книгу. Так-то будет лучше. «А что содержится в книгах?» – «Буквы», – говорит самый отважный мальчик. «Нет-нет, – печально говорит учитель. – Ва придется сперва хорошенько подумать, что вы такое говорите». К этому моменту дети уже почти совсем растеряны: они понятия не имеют, чего от них хотят. У них появляется смутное и совершенно правильное впечатление, что учитель хочет, чтобы они сказали что-нибудь невразумительное, например, что рыба – это не рыба, и чего бы он от них ни добивался, им до этого никогда не додуматься. Мысли у них разбредаются. Они гадают (это очень по-толстовски), почему учитель носит очки, почему он смотрит сквозь них, а не снимет, и так далее. Учитель велит им сосредоточиться, он изводит и мучит их до тех пор, пока не вынудит сказать, что они видят не рыбу, а картинку, а затем, после новых мучений – что на этой картинке рыба. Если именно того он и хочет от них добиться, не проще ли, спрашивает Толстой, чтобы они заучили наизусть этот образчик глубокой мудрости? Зачем мучить их по методу «рыбьей книги», от которого они совсем не приучаются «мыслить творчески», а просто тупеют на глазах?
По-настоящему умные дети понимают, что, как ни ответь, все будет неверно. Почему – они не могут взять в толк, просто так получается, и это они понимают; а вот глупые, случайно попав в точку, не знают, за что их хвалят. Германский педагог скармливает мертвый человеческий материал – или, вернее, живых людей – нелепому механическому методу, изобретенному тупыми фанатиками, которым кажется, что они знают, как применить науку к образованию. Толстой уверяет нас, что его отчет (из которого я привел только небольшой отрывок) – не пародия, а достоверное воспроизведение того, что он видел и слышал в самых передовых школах Германии и «тех школах в Англии, которым посчастливилось перенять эти чудесные… методы».
Разгневанный и возмущенный, он вернулся в свое российское имение и начал сам обучать деревенских детей. Он строил школы, он продолжал штудировать, отрицать и разоблачать тогдашние педагогические доктрины, он издавал журналы и памфлеты, изобретал новые способы учить географии, зоологии, физике; сочинил целый учебник по арифметике, яростно разносил любые принудительные методы обучения, особенно те, что основаны на чистой зубрежке фактов, дат и цифр. Словом, он вел себя как просвещенный, энергичный, упрямый помещик XVIII века, чудак и оригинал, который увлекся доктринами Руссо и аббата Мабли. В дореволюционных собраниях сочинений его отчеты о своих теориях и экспериментах составляют два объемистых тома. Они и по сей день остаются совершенно восхитительными, хотя бы потому, что так описать деревенскую жизнь и в особенности детей, смешных и трогательных, даже ему самому редко удавалось. Писал он это в 1860–1870-е годы, в полном расцвете творческих сил. Его напористо-нравоучительные интонации легко уходят на задний план, стоит только погрузиться в бесподобный, густой и прихотливый узор детских мыслей, в ту изумительно богатую реалиями и творческим воображением манеру, в которой описаны их речь, их нравы и окружающая их природа. А бок о бок с этой попыткой прямо передать живой человеческий опыт идут четкие и жесткие догмы фанатически уверенного в собственной правоте доктринера-рационалиста в духе XVIII века – и догмы эти не сливаются с жизнью, которую он так хорошо описывает, но накладываются на нее, как строго симметрический узор на стекле, не имеющий никакого отношения к тому миру, на который выходят окна, но все-таки достигающий с ним какого-то иллюзорного единства, интеллектуального и художественного сразу. Очень уж живо и блистательно все это написано. В литературе немного таких замечательных представлений.
Противник всегда один и тот же: специалисты, профессионалы, люди, претендующие на особую власть над другими людьми. Нередко мишенью для атаки становятся университеты и профессора. Первые намеки такого рода встречаются уже в последней части его раннего автобиографического романа, озаглавленной «Юность». Есть что-то неуловимо напоминающее XVIII век, сразу и Вольтера, и Бентама, в отчаянно злых толстовских очерках российских университетских нравов своего времени, где профессора унылы и некомпетентны, а студенты подчиняются им и отчаянно скучают. Тон повествования необычен для XIX века – сухой, ироничный, нравоучительный, язвительный, одновременно бесстрастный и занимательный; целое же основано на контрасте между гармонической простотой природы и саморазрушительной системой сложностей, порожденных злобой или глупостью людей, которых автор чуждается, старательно не понимает и высмеивает со стороны.
Мы – у самых истоков темы, которой в позднем своем периоде Толстой просто одержим: решение всех наших проблем – прямо у нас перед глазами; ответ повсюду, как свет дня, если только мы не станем закрывать глаза или щуриться по сторонам, не замечая, как вглядывается нам в лицо ясная, простая, неодолимая правда.
Как Руссо, и Кант, и сторонники естественного права, Толстой убежден, что у человека есть основные материальные и духовные потребности, где и когда бы он ни жил. Если эти потребности удовлетворяются, люди ведут ту гармоничную жизнь, для которой от природы и созданы. Моральные, эстетические и другие духовные ценности объективны и вечны, и внутренняя гармония человека зависит от правильного к ним отношения. Кроме того, он всю свою жизнь отстаивал представление, которому, правда, не нашлось места в его собственных романах и набросках, о том, что люди гармоничней в детстве, чем в дальнейшей жизни под несчастливым знаком растлевающего душу образования; а также о том, что простой народ (крестьяне, казаки и так далее) «естественнее» и правильнее относится к этим ценностям, чем цивилизованные люди, и что он свободен и независим в том смысле, в каком цивилизованные несвободны. Крестьянские общины (твердит он снова и снова) вполне удобны, чтобы удовлетворить свои материальные и духовные потребности собственными силами, если их не грабят и не давят угнетатели и эксплуататоры; а вот цивилизованные люди не выживут, если на них не будут работать крепостные, рабы, угнетенные, именуемые по иронии судьбы «подневольными», хотя на самом деле это барин зависит от их воли. Господа живут за чужой счет и деградируют не только потому, что, используя и порабощая других, они отрицают такие объективные ценности, как справедливость, равенство, достоинство, любовь, к которым люди непременно стремятся, раз уж они люди. Еще важнее, на его взгляд, то обстоятельство, что, живя за счет награбленного или присвоенного, а значит – не умея обеспечить себя, человек теряет «естественные» чувства и способность к «естественному» восприятию мира, разлагается нравственно, становится несчастным и злым. Человеческий идеал – общество свободных и равных людей, которые живут и мыслят при свете правды и потому не вступают в конфликт ни с собой, ни с другими. Это одна из формул – кстати сказать, несложная – классической доктрины естественного права и в религиозной, и в светской, либерально-анархистской его разновидности. Ее Толстой придерживался всю свою жизнь и в «мирском» периоде, и после «обращения». В его ранних повестях и рассказах она представлена достаточно ярко. В «Казаках» Лукашка и дядя Ерошка – нравственно выше, счастливей и гармоничней, чем Оленин, – и он это знает, в этом вся соль. Пьер в «Войне и мире» и Левин в «Анне Карениной» чувствуют такое в простых крестьянах и солдатах, как и Нехлюдов в «Утре помещика». Это убеждение все больше и больше пропитывало сознание Толстого, пока не затмило все прочие проблемы в его позднейших творениях: «Воскресение», «Смерть Ивана Ильича» без этого понять невозможно.
Критическая мысль Толстого постоянно вращается вокруг этой центральной идеи – контраста между естественным и искусственным, правдой и вымыслом. Когда, например, в 1890-х он сформулировал условия высокой художественности в искусстве (в предисловии к русскому переводу рассказов Мопассана), он потребовал, чтобы каждый писатель был, во-первых, достаточно талантлив; во-вторых, чтобы рассматриваемые темы его были важны с нравственной точки зрения; наконец, чтобы он действительно любил (то, что достойно любви) и ненавидел (достойное ненависти), был «сопричастным», сохранял по-детски непосредственное нравственное видение, а не калечил свою натуру, стремясь к обманчивой, разрушительной, всегда иллюзорной беспристрастности или, еще того хуже, умышленно извращая «естественные» ценности. Талант не дается всем людям в равной степени; но всякий сможет, если попытается, обнаружить вечные, неизменные признаки того, что хорошо и что плохо, что важно, а что мелко. Только ложные – «надуманные» – теории вводят в заблуждение людей и писателей, искажая тем самым их жизнь и творческую деятельность. Толстой применяет этот критерий буквально, почти механически. Некрасов, с его точки зрения, пишет о глубоких и важных вещах, и пишет к страдающим крестьянам и сломленным идеалистам как-то холодно и не вполне естественно. Сюжетам Достоевского не занимать серьезности, он искренне и глубоко ими озабочен; однако здесь не соблюдено первое условие: он многословен, он повторяется, он не умеет ясно сказать правду и вовремя остановиться. Тургенев, напротив, и писатель прекрасный, и к темам своим относится правдиво, нравственно им соответствует; но он не проходит по второму пункту, сюжеты слишком избиты и банальны – а этого не восполнят ни искренность, ни мастерство. Содержание определяет форму, только так; если содержание слишком незначительно или банально, ничто не спасет твое творенье. Думая иначе, веря в примат формы, мы пожертвуем истиной и закончим надуманной игрой в искусство. Во всем критическом словаре Толстого нет более оскорбительного слова, чем «надуманный», означающего, что писатель не испытал на самом деле и не представил себе, но лишь «сочинил», «надумал» то, что вознамерился описать.
Точно так же Толстой утверждает, что Мопассан, чьим талантом он искренне восхищался, изменил себе именно благодаря этим фальшивым и вульгарным теориям. Правда, он остался хорошим писателем, в той степени, в какой он, подобно Валааму, вознамерившись опорочить добродетель, поневоле распознал благо, и полюбил его, и против собственной воли обратился к правде. Талант – это зоркость, а зоркость открывает правду, правда же объективна и вечна. Видеть истинное в природе или в человеческом поведении, видеть непосредственно и живо, как только гений (или простой человек, или ребенок) может видеть, а потом отрицать или хладнокровно искажать, неважно ради чего, – чудовищно и противоестественно; явственный признак глубокого нравственного нездоровья.
Правда познаваема; следовать ей – значит быть хорошим, душевно здоровым, гармоничным. Ясно, однако, что наше общество негармонично и не состоит из внутренне гармоничных индивидов. Интересы образованного меньшинства – которое Толстой именует профессорами, баронами и банкирами – противоположны интересам большинства – крестьян, вообще бедных; каждая из сторон равнодушна к ценностям другой или подсмеивается над ними. Даже те, кто, подобно Оленину, Пьеру, Нехлюдову, Левину, обнаруживают пустоту профессорских, баронских и банкирских ценностей и всю глубину морального падения, куда заводит ложное, растлевающее воспитание, даже те, кто искренне раскаялся, не могут, несмотря на все прекраснодушные чаяния славянофилов, «слиться» с массой простых людей. Настолько ли они испорчены, что им не вернуть утраченной невинности? Безнадежно ли их положение? А может быть, цивилизованные люди усвоили (или открыли) какие-то собственные ценности, о которых варвары и дети даже и не догадываются, но которых они, цивилизованные люди, не могут утратить или забыть, даже если бы чудом превратились в крестьян или в свободных и счастливых казаков? Это одна из центральных и самых мучительных проблем для Толстого, он непрестанно возвращается к ней и подбирает взаимоисключающие ответы.
Толстой прекрасно знает, что он и сам вполне определенно принадлежит к меньшинству, состоящему из баронов, банкиров и профессоров. Он слишком хорошо знаком с симптомами своей болезни. Он не может, например, отрицать своей страстной любви к Моцарту и Шопену или к Тютчеву и Пушкину, к самым зрелым плодам цивилизации. Ему никак не обойтись без печатного слова и всех тех сложных атрибутов культуры, на фоне которых только и можно жить такой жизнью и создавать такие шедевры. Но что толку от Пушкина деревенским мальчишкам, когда им он попросту непонятен? Какие реальные блага принесло крестьянам книгопечатание? Нам говорят, замечает Толстой, что книги просвещают (то есть развращают) сообщества; что именно печатное слово способствовало освобождению крепостных. Нет, это неверно: правительство сделало бы все то же самое и без книг и статей. Пушкинский «Борис Годунов» доставляет удовольствие только ему, Толстому; для крестьян он не значит ничего. Победы цивилизации? Телеграф сообщает о здоровье сестры или о замыслах греческого короля; но какой от этого прок народу? Однако именно он, народ, всегда оплачивал подобные нововведения и прекрасно об этом знает. Когда крестьяне убивают врачей во время «холерных бунтов» потому, что видят в них отравителей, они поступают дурно, но убийства эти не случайны: крестьяне чуют, кто их угнетатели, а врачи принадлежат именно к этому классу. Когда Ванда Ландовска играла на рояле для крестьян Ясной Поляны, почти все они остались совершенно равнодушными. Но можно ли сомневаться в том, что именно простые люди живут жизнью неизмеримо более цельной и гармоничной в сравнении с искореженными, изуродованными жизнями богатых и образованных людей?
Простой народ, доказывает Толстой в ранних педагогических работах, сам обеспечивает себя не только материально, но и духовно – народные песни, «Илиада», Библия выходят из самой народной толщи и потому понятны всем и везде, а «Silentium» Тютчева, или «Дон Жуан», или Девятая симфония – непонятны. Если идеал человека существует, его следует искать не в будущем, а в прошлом. Когда-то, как сказано в Библии и у Руссо, был Эдемский сад и в нем жили неразвращенные люди; потом пришли грехопадение, порча, страдание, неправда. Только слепой (Толстой повторяет это снова и снова) может верить, как верят либералы или социалисты, то есть сторонники прогресса, что золотой век все еще впереди, что история – это история совершенствования, что материальный прогресс в естественных науках и материальных навыках совпадает с нравственным продвижением. На самом деле все наоборот.
Ребенок ближе к идеальной гармонии, чем взрослый, а простой крестьянин – ближе, чем истерзанные, «отчужденные», не имеющие нравственных и духовных корней, разрушающие себя паразиты, из которых состоит цивилизованная верхушка. Именно отсюда проистекает знаменитый толстовский антииндивидуализм, в особенности мысль о том, что индивидуальная воля – источник заблуждений и искажений «естественных» человеческих наклонностей, и, следовательно, убежденность (почерпнутая во многом из шопенгауэровской доктрины о воле как источнике страданий) в том, что, планируя, организовывая, полагаясь на науку, пытаясь создать рациональные жизненные схемы в соответствии с рациональными теориями, мы плывем против течения, закрываем глаза на скрытую в нас самих правду, искажаем факты, подгоняя их под искусственные схемы, мучаем людей, подгоняя их под социальные и экономические системы, против которых протестует само наше естество. Отсюда же и обратная сторона этой мысли – толстовское непротивление. Он верит в возможность интуитивно постичь, что все не просто неизбежно, но объективно, промыслительно идет ко благу, и этому надо подчиняться.
Вот одна из сторон его учения, самая знаменитая, самая центральная идея толстовства, и она проходит через все его книги – романы, статьи, проповеди – от «Казаков» и «Семейного счастья» до последних религиозных трактатов. Именно это осуждали либералы и марксисты. Именно в этом расположении духа Толстой говорил, что, воображая, будто исторические личности управляют событиями, мы впадаем в манию величия и обманываем себя. Повествование его выстроено так, чтобы показать незначительность Наполеона или царя Александра, аристократов и бюрократов в «Анне Карениной», судей и чиновников в «Воскресении»; или еще пустоту и умственную беспомощность историков и философов, которые пытаются объяснить события, применяя к великим людям такие понятия, как «власть», или приписывая «влияние» литераторам, ораторам, проповедникам, хотя это пустые слова, абстракции, которые, на его взгляд, ничего не объясняют, поскольку сами гораздо менее внятны, чем факты, которые они призваны объяснить. Он утверждает, что мы даже не приблизились к пониманию, а значит, и к возможности объяснить или проанализировать, что значит обладать властью, влиять, господствовать. Объяснения, которые ничего не объясняют, – это, по Толстому, симптом самодовольного разума, способного разрушить невинность, исказить представления о мире и погубить человеческую жизнь.
Этот мотив, вдохновленный Руссо и сказавшийся уже в раннем романтизме, породил опрощение и в искусстве, и в жизни, причем не только в России. Толстому кажется, что он и другие люди могут найти путь к правде о том, как следует жить, приглядываясь к народу, изучая евангельские заповеди.
Другой свойственный ему мотив прямо противоположен. Михайловский совершенно справедливо замечает, что при всей своей очарованности Кавказом и казацкой идиллией Оленин не может превратиться в Лукашку, вернуться к детской гармонии, которая в нем самом давно разрушена. Левин знает, что если бы он попытался стать крестьянином, вышло бы смешно и нелепо, а крестьяне бы первыми это поняли и высмеяли: и он, и Пьер, и Николай Ростов смутно осознают, что богаты чем-то таким, чего нет у крестьян. Толстой объясняет образованному читателю, что крестьянин «нуждается в том, чем вас снабдила жизнь десяти поколений, не задавленных тяжким трудом. У вас был досуг, чтобы искать, думать, страдать – так отдайте его тому, ради кого вы страдали; он нуждается в этом… не зарывайте в землю таланта, данного вам историей…».
Досуг, в таком случае, не всегда вреден. Прогресс возможен; мы можем учиться на опыте прошлого, в отличие от тех, кто в этом прошлом жил. Да, общество неправильно устроено; и это накладывает на нас прямые обязанности. Те, кто принадлежит к цивилизованной элите, трагически оторванной от народа, обязаны по мере сил восстанавливать поруганную человечность, не прекращая эксплуатировать людей, давать им то, в чем они более всего нуждаются, – образование, знания, материальную помощь, возможность жить лучше. По словам Михайловского, Левин в «Анне Карениной» начинает там, где остановился Николай Ростов. Они не квиетисты, и все же то, что они делают, правильно. Отмена крепостного права была, по мнению Толстого, мерой половинчатой, и все-таки это действие, мало того – доброе действие правительства, а теперь надо научить крестьян писать, читать, считать, они ведь не могут научиться сами; надо дать им средства, без которых не воспользуешься свободой. Я не могу слиться с крестьянской массой; но я могу хотя бы употребить плоды неправедно приобретенного моими предками и мной самим досуга – мое образование, знания, навыки – на благо тех, чей труд сделал этот досуг возможным.
Вот этот талант я и не вправе хоронить. Я должен работать, чтобы приблизить справедливое общество в соответствии с теми объективными требованиями, которые осознают и принимают все люди, кроме безнадежно развращенных, независимо от того, живут они в соответствии с этими требованиями или нет. Простой народ видит их отчетливее, утонченная публика – смутно, но каждый человек, если, конечно, он даст себе труд, вполне в состоянии их разглядеть; фактически способность видеть их отчасти определяет, человек ли ты. Когда совершается несправедливость, я обязан выступить против нее и воспрепятствовать ей; художник не более, чем кто-либо другой, имеет право сидеть сложа руки. Хорошего писателя отличает способность видеть правду – социальную и личную, материальную и духовную – и представлять ее так, чтобы от нее уже невозможно было отделаться. Толстой считает, к примеру, что Мопассан именно этим и занят, вопреки себе и своим эстетическим заблуждениям. Сам он достаточно развращен и может принять сторону зла, предпочитая никчемного парижского совратителя его жертвам. Однако, если он добирается до глубинных пластов истины – а талантливый человек непременно до них доберется, – он вольно или невольно ставит перед читателем фундаментальные нравственные проблемы, от которых читатель уже не сможет уйти и не сможет найти на них ответа, не пройдя через строгий и мучительный самоанализ.
Это, c точки зрения Толстого, открывает путь к возрождению, и в этом – истинное дело искусства. Призвание – талант – подчиняет нас внутренней потребности; выполнять ее волю – прямая цель и обязанность всякого художника. Ни в коем случае нельзя видеть в художнике поставщика развлечений или ремесленника, чье единственное дело – создать красивую вещь, как полагают Флобер, Ренан и Мопассан[344]. Существует лишь одна достойная человеческая цель, в равной мере обязательная для каждого из нас, для помещиков, врачей, баронов, профессоров, банкиров, крестьян: говорить правду и руководствоваться ею в своих действиях, то есть творить добро и склонять других к тому же. Что Бог есть, что «Илиада» прекрасна, что люди вправе быть свободными и равными – вечные и абсолютные истины. Поэтому мы обязаны склонять людей к чтению «Илиады», а не порнографических французских романов, трудиться на благо равноправного общества, а не теократической или политической иерархии. Насилие есть зло; люди всегда знали, что это именно так; значит, они должны создать такое общество, в котором не будет ни войн, ни тюрем, ни пыток ни при каких условиях, ни на каких основаниях; общество, в котором личная свобода существует в наибольшей степени. Своим собственным путем Толстой пришел к христианскому анархизму, имеющему много общего со взглядами русских народников, которые, если бы не их начетнический социализм, вера в науку и приверженность к террористическим методам, весьма близки к его позиции. Теперь он вроде бы защищает программу, связанную с действием, а не с социальным квиетизмом; на этой программе основана образовательная реформа, которую он пытался претворить в жизнь. Он хотел обнаружить, собрать, растолковать вечные истины, пробудить у детей и у простого народа самопроизвольный интерес, воображение, любовь, любопытство; и прежде всего высвободить их «естественные» силы – нравственные, эмоциональные, интеллектуальные, – которые (он не сомневался в этом, как не сомневался Руссо) помогут достичь гармонии и в людях, и между людьми, если мы, конечно, устраним все то, что может их искалечить, сковать или убить.
Эта программа – сделать возможным свободное саморазвитие всех человеческих способностей – покоится на широком допущении: существует хотя бы один путь развития, на котором эти способности не вступят в конфликт друг с другом, не станут развиваться друг другу в ущерб – верный путь к совершенной гармонии, где всякая часть находится на своем месте и не противоречит целому. Отсюда можно вывести, что этот путь нам укажут познание человеческой природы, полученное через наблюдение, самоанализ, интуицию, или внимательное знакомство с жизнью и трудами самых лучших и самых мудрых людей, какие только были на свете. Здесь не место подробно рассуждать о том, насколько эта доктрина согласуется с древними религиозными учениями или с современной психологией. Я только хотел подчеркнуть, что программа эта направлена на активное действие, она бросает вызов всем социальным ценностям, всевластию государств, сообществ, церквей, жестокости, несправедливости, глупости, лицемерию, слабости, а прежде всего – тщеславию и нравственной слепоте. Человек, хорошенько повоевавший на этом фронте, искупит свой грех – то, что он жил ради наслаждений, помыкал людьми, был потомком и наследником разбойников и угнетателей.
Толстой действительно в это верил, проповедовал и применял на практике. «Обращение» изменило его взгляды на то, что хорошо и что плохо. Вера в необходимость действия ничуть не ослабла. Свои самые принципиальные позиции он не сдавал и не менял никогда. Враг проник через другую дверь: толстовское чувство реальности было слишком безжалостным, чтобы позволить ему уйти от мучительных сомнений в том, как эти принципы – верные или неверные – применять на практике. Даже если я верю, что те или иные вещи прекрасны и хороши, а такие-то вредны и уродливы, какое право я имею воспитывать других, когда я знаю, что не могу не любить Шопена и Мопассана, тогда как гораздо лучшие люди – крестьяне и дети – их не любят? Имею ли я, стоящий в конце долгого развития – нескольких поколений цивилизованной, неестественной жизни, – имею ли я право касаться до их душ?
Пытаясь повлиять на кого-либо, мы ввязываемся в сомнительное с нравственной точки зрения предприятие. Это очевидно, когда один человек грубо помыкает другим. Однако в принципе так можно взглянуть и на образование. Всякий педагог стремится оформить умы и жизни своих учеников в соответствии с некой заранее заданной целью или моделью. Но если мы, изощренные представители глубоко развращенного сообщества, сами несчастливы, дисгармоничны и блуждаем впотьмах, на что мы способны, кроме как превращать здоровых от рождения детей в наше собственное недужное подобие, делая из них таких же калек, как мы сами? Мы то, чем мы стали, мы не можем не любить Пушкина и Шопена; и вдруг оказывается, что дети и крестьяне находят их непонятными либо скучными. Что же мы делаем? Мы упорствуем, мы «образовываем» их, пока они тоже не начинают получать от этих стихов или этой музыки хотя бы какое-то удовольствие или, по крайней мере, понимать, почему все это нравится нам. Что мы сделали? Моцарт и Шопен восхищают нас только потому, что они сами были детьми нашей упадочной культуры, и оттого язык их понятен нашему больному разуму; но какое право мы имеем заражать других, делать их такими же развращенными? Мы замечаем изъяны чужих систем. Мы прекрасно видим, как ломается человеческая личность под гнетом протестантского послушания, католического соревнования или той дикой смеси из своекорыстия и преклонения перед чином или социальным статусом, на которой, согласно Толстому, построена русская воспитательная система. Не будет ли чудовищной самонадеянностью или редкостной непоследовательностью вести себя так, как будто наши прославленные системы, выстроенные по Песталоцци или по ланкастерскому методу, то есть несущие на себе явственный отпечаток цивилизованных, а значит, искалеченных личностей, непременно лучше или хотя бы безвредней всего того, что мы столь охотно и справедливо осуждаем в поверхностных французах или в напыщенных немцах?
Как этого избежать? Толстой повторяет уроки «Эмиля». Природа, только природа может нас спасти. Постараемся понять, что «естественно», самопроизвольно, неиспорченно, цельно, в гармонии с собой и с другими, и будем расчищать пути в этом направлении, не пытаясь что бы то ни было изменить, подогнать под шаблон. Надо слушаться подсказок нашей собственной, подавленной, но подлинной натуры, а не смотреть на нее как на сырой материал для нашей неповторимой личности и могучей воли. Бросая вызов, словно Прометей, ставя цели и строя миры, противореча истинам, которые наше же собственное нравственное чувство признает вечными, данными всем людям раз и навсегда; истинам, благодаря которым мы – люди, а не животные, только впадаешь в смертный грех гордыни, общий для всех реформаторов, всех революционеров – словом, всех тех, кого почитают великими и полезными. Свойствен он и чиновникам или помещикам, которые из либеральных убеждений, или со скуки, или просто из прихоти вмешиваются в жизнь крестьян[345]. Не учите; учитесь, в этом смысл написанной около ста лет назад статьи Толстого: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?», а также всех его записей, опубликованных в 1860-х и 1870-х годах, написанных с обычной для него свежестью восприятия, вниманием к детали, с неподражаемой силой непосредственного видения, где он приводит в пример рассказы, написанные детьми из его деревни, и говорит о благоговении, которое он испытывал, присутствуя при акте чистого творчества, в котором, как он уверяет, не принимал ни малейшего участия. Эти рассказы только проиграли бы от его «исправлений»; они кажутся ему гораздо более глубокими, чем что бы то ни было у Гете; он объясняет, как устыдился он из-за них своего высокомерия, тщеславия, своей глупости, узости, нравственной и эстетической глухоты. Если мы чем-то и можем помочь детям и крестьянам, то разве что облегчив им возможность свободно двигаться по своему собственному, инстинктивно найденному пути. Направлять – значит портить. Люди добры и нуждаются только в свободе, чтобы реализовать свои хорошие качества.
«Образование, – пишет Толстой в 1862 году, – это действие одного человека на другого, имеющее в виду побудить этого другого человека приобрести определенные нравственные привычки (мы говорим: они воспитали его лицемером, разбойником или хорошим человеком. Спартанцы воспитывали смелых людей, французы воспитывают личности однобокие и самодовольные)». Но это значит, что мы привыкли воспринимать – и использовать – людей как сырой материал, из которого мы лепим; иначе понять «воспитание» по тому или иному образцу невозможно. Мы явно готовы изменить направление, которому сами по себе следуют душа и воля другого человека, готовы отрицать его свободу – но ради чего? Ради наших извращенных, ложных или, в лучшем случае, весьма сомнительных ценностей? Это подразумевает ту или иную степень нравственного принуждения. Поддавшись на мгновенье панике, Толстой спрашивает, не движет ли учителем зависть – настаивая на своем, тот завидует «чистоте ребенка» и желает «сделать ребенка подобным себе, то есть развратить его». Чем была история образования? Все философы педагогики, от Платона до Канта, стремились к одной и той же цели: «освободить образование от гнета оков исторического прошлого». Они хотят «угадать нужды людей и затем построить свои новые школы на основании того, что им удалось более или менее правильно угадать». Они снимают одно ярмо только для того, чтобы надеть вместо другое. Некоторые схоласты настаивали на изучении греческого, потому что это язык Аристотеля, который знал правду. Но, продолжает Толстой, Лютер отрицал авторитет отцов церкви и настаивал на изучении древнееврейского, ибо он знал, что именно на этом языке Бог открыл людям вечные истины. Бэкон стремился к эмпирическому познанию природы, и его теории противоречили аристотелевским. Руссо провозгласил веру в жизнь, такую, как он ее понимал, в жизнь, а не в теорию.
Но в одном они все были согласны: нужно освободить молодых от слепого деспотизма стариков; и всякий тут же подставлял на освободившееся место свою собственную жесткую, не терпящую возражений догму. Если я уверен в том, что знаю правду, а все прочие ошибаются, получаю ли я в силу этого, одного-единственного обстоятельства право учить и воспитывать других людей? Достаточное ли это условие, независимо от того, вступает ли моя уверенность в согласие с уверенностью окружающих? По какому праву я строю стену вокруг ученика, исключаю все внешние влияния и пытаюсь сформировать его именно так, как мне нравится, по моему или чьему-то еще образу и подобию?
Ответить на этот вопрос, страстно бросает прогрессистам Толстой, нужно или «да» или «нет». «…Если “Да”, то еврейская синагога, церковная школа имеет такое же законное право на существование, как и все наши университеты». Он заявляет, что с нравственной точки зрения не видит никакой разницы, по крайней мере принципиальной, между непременной латынью в традиционных гимназиях и столь же непременным материализмом, которым радикальные профессора пичкают свою безответную аудиторию. Тогда найдется что сказать в пользу тех вещей, которые с такой охотою поносят либералы, – домашнего обучения, например; ведь желать, чтобы твои дети были похожи на тебя, вполне естественно для родителей. Можно оправдать и воспитание религиозное, ведь верующие хотят спасти всех остальных от того, что они считают вечной гибелью. Получает право обучать людей и правительство, ведь общество не сможет выжить без той или иной формы правления, а правительство не сможет существовать, если ему не служат квалифицированные специалисты.
Что же лежит в основе «либерального образования» в школах и университетах, набитых людьми, которые даже не претендуют на уверенность в том, что они учат правде? Уроки опыта? Уроки истории? История учит нас только тому, что все предыдущие образовательные системы оказались насилием, покоящимся на лжи, и были совершенно забракованы. Не оглянется ли XXI век на наш XIX с такой же насмешкой и презрением, с какими мы смотрим на средневековые школы и университеты? Если история образования – всего лишь история угнетения и ошибок, какое мы имеем право длить этот отвратительный фарс? Если же нам говорят, что всегда так было, ничего нового в этом нет, тут уж ничего не поделаешь, просто работать как можно лучше – но с таким же успехом можно сказать, что убийства бывали всегда, так что и мы имеем на них право, хотя открыли причины, побуждающие совершать убийства?
Мы были бы просто мерзавцами, если бы не сказали, по крайней мере, так: поскольку мы, в отличие от папы с Лютером или современных позитивистов, не считаем, что наша педагогика (либо другие виды влияния на людей) основывается на знании абсолютной истины, мы не должны хотя бы мучить других во имя того, чего сами не знаем. Наверное мы можем знать только одно – чего действительно хотят люди. Что же, наберемся мужества хотя бы на то, чтобы признать свое невежество, свои сомнения и колебания. Попытаемся хотя бы понять, в чем дети или взрослые испытывают потребность, снимем очки традиции, предубеждения и догмы, чтобы познать людей такими, какие они есть, выслушать их внимательно и сочувственно, понять их самих, жизнь и нужды каждого. Попытаемся обеспечить их тем, о чем они просят, и не станем силой навязывать наших догм. Дайте им Bildung[346] (Толстой приводит точный русский эквивалент этого термина и с гордостью указывает, что его нет во французском или английском языке) – иначе говоря, старайтесь воздействовать на них через примеры и правила, взятые из их же собственной жизни. Не применяйте к ним «обучения», ведь это, в сущности, – один из способов насилия, которое уничтожает в человеке самое естественное и святое – способность самостоятельно мыслить и поступать в соответствии с тем, что он полагает благим и истинным, власть и право руководить собой.
Однако Толстой не может остановиться на этом, как делали многие либералы. И впрямь, тут же возникает вопрос: как же нам так исхитриться и оставить школьника или студента свободным? Не давать никаких моральных оценок? Предлагать только «факты», а не этические, эстетические, социальные или религиозные доктрины? Позволять, чтобы он делал собственные выводы, не пытаясь подтолкнуть его ни в одном из возможных направлений, чтобы не заразить его нашим болезненным мировоззрением? Но возможно ли между людьми настолько нейтральное сообщение? Ведь, когда мы общаемся, мы сознательно или бессознательно запечатлеваем один характер, или способ жить, или систему ценностей – в других? Бывают ли в принципе люди настолько отделены друг от друга, чтобы, тщательно уклоняясь от всего, что превышает минимальный уровень отношений, оставаться стерильно чистыми, абсолютно свободными в различении правды и лжи, добра и зла, красоты и уродства? Не глупо ли думать, что человека можно уберечь от любого влияния со стороны общества, не глупо ли даже для того мира, в котором протекали зрелые годы Толстого, то есть, строго говоря, без всех тех сведений о нашей природе, которые мы теперь приобрели стараниями психологов, социологов и философов? Да, мы живем в вырождающемся обществе; только чистые могут нас спасти. Но кто будет учить обучающих? Кто чист настолько, чтобы достаточно знать, а уж тем более – суметь излечить наш мир или хоть кого-то одного?
Между этими двумя полюсами – невинностью и ученостью (на одном – факты, природа, то, как оно есть на самом деле; на другом – долг, справедливость, то, как оно должно быть), между требованием непосредственности и требованием подчиниться долгу, между несправедливостью насилия и несправедливостью небрежения – Толстой мучительно метался всю жизнь. Да что там, не только он, но и те русские народники, и социалисты, и идеалистические студенты, которые «пошли в народ», но не могли решить, идут они учить или учиться. Что такое «народное благо», ради которого они готовы пожертвовать жизнью, то, чего хочет «народ», то, чего хотят для него одни реформаторы; а он только должен хотеть, и хотел бы, будь он столь же образован и мудр, как его защитники, но в нынешнем своем блаженном состоянии часто не желает принимать и чему яростно сопротивляется.
Именно эти противоречия, а также непоколебимое признание своей неспособности примирить или смягчить их в каком-то смысле придают особое значение и жизни Толстого, и полным нравственного мучения, подчеркнуто дидактическим страницам его книг. Он гневно отвергал попытки своих либеральных современников найти компромисс, оправдать свою слабость как пустые отговорки. Однако он верил, что в конце концов можно решить, как применять на практике заповеди Христа, даже если ни ему, ни кому-либо другому пока и не удалось его в полной мере открыть. Он отвергал саму возможность того, что некоторые из целей и задач, о которых он говорит, могут быть в буквальном смысле слова и реальны, и несовместимы. Историцизм против моральной ответственности; квиетизм против обязанности противостоять злу; телеология или строгая причинность против игры случая и непостижимых для разума сил; духовная гармония, простота, народ – и неотвратимая притягательность культуры избранного меньшинства; развращенность цивилизованной части общества – и ее прямая обязанность поднять народ до своего уровня; искажающее влияние страстной, простой, односторонней веры – и ясное ощущение сложности фактов и неизбежной слабости реальных действий, проистекающей из просвещенного скептицизма. В философии Толстого каждый из этих мотивов выступает во всей своей силе. Его приверженность к ним порождает целый ряд несообразностей – возможно, именно потому, что эти противоречия действительно есть и приводят к коллизиям в реальной жизни[347]. Когда Толстому является некая истина, он не способен ни подавить, ни исказить, ни попросту отбросить ее, обратившись к диалектическим или другим «глубинным» уровням мысли, независимо от того, что она повлечет за собой, куда приведет, какую часть его символа веры она способна уничтожить. Все знают, что Толстой ставил правду выше прочих добродетелей. Не он первый так говорил, не он первый воспел, но мало кто настолько заслужил это редкое право. Ведь Толстой возложил на ее алтарь все, что у него было, – счастье, дружбу, любовь, покой, нравственную и интеллектуальную уверенность и в конечном счете собственную жизнь. А истина дала ему взамен лишь сомнения, неуверенность, презрение к себе и неразрешимые противоречия.
В этом смысле (хотя он бы с негодованием это отверг) он истинный герой и мученик – может быть, самый одаренный – европейского Просвещения. Казалось бы, парадокс; но ведь вся его жизнь свидетельствует в пользу того, с чем он так боролся в свои последние годы: истина редко бывает простой или ясной или настолько очевидной, как иногда представляется глазу обычного наблюдателя.
Русское народничество
«Народничество» – термин, означающий не какую-то конкретную политическую партию или связанное с ней учение, но широкое радикальное движение в России середины XIX века. Оно зародилось в эпоху великих социальных перемен и брожения умов, последовавшую за смертью царя Николая I и унизительным поражением в Крымской войне 1856–1857 годов, приобретало все большее влияние в течение двух последующих десятилетий и достигло своего пика с убийством царя Александра II, после чего быстро пришло в упадок. Вождями его были люди разного происхождения, взглядов и способностей; ни на каком из этапов оно не выходило за рамки разрозненных групп заговорщиков и их единомышленников, иногда объединявшихся для совместных действий, но обычно работавших самостоятельно. Эти группы отличались друг от друга как целями, так и средствами их достижения. Однако их убеждения имели в основе своей много общего, а моральная и политическая солидарность дает право причислить их к единому движению. Как их предшественники, заговорщики-декабристы 20-х годов и кружки Герцена и Белинского 30–40-х, они считали правительство и социальное устройство своей страны нравственным и политическим уродством – устаревшим, варварским, тупым и одиозным – и посвятили жизнь полному его уничтожению. Их основные идеи были неоригинальны. Они разделяли демократические идеалы современных им европейских радикальных идеологов, а также верили в то, что борьба социально-экономических классов определяет все в политике. Теорию эту они исповедовали не в форме марксизма (который широко распространился в России не раньше 1870-х), а в той, которой учили Прудон и Герцен, до них же – Сен-Симон, Фурье и другие французские социалисты и радикалы, чьи труды, легально или нелегально, тонкой, но непрерывной струйкой десятилетиями вливались в Россию.
Теория классовой борьбы как доминирующего фактора в социальной истории, стержень которой – эксплуатация «неимущих» «имущими», родилась на Западе в ходе индустриальной революции; и самые характерные ее идеи относятся к капиталистической фазе экономического развития. Экономические классы, капитализм, беспощадная конкуренция, пролетарии и их эксплуататоры, губительность непродуктивной финансовой системы, неизбежность дальнейшей централизации и унификации всей человеческой деятельности, превращение людей в товар, вытекающее отсюда отчуждение между людьми и группами людей и деградация человеческой жизни – все это неразрывно связано с индустриализацией. Россия, даже в конце 1850-х, была одной из наименее индустриализованных стран Европы. Несмотря на это, эксплуатация и нищета уже давно были привычными и общепризнанными чертами ее социальной жизни, в которой основными жертвами оказались крестьяне, свободные и крепостные, вместе составлявшие девять десятых населения. Рабочий пролетариат уже сформировался, но к середине века не превышал двух-трех процентов от общей численности. Поэтому под угнетенными массами подразумевали в основном земледельцев, составлявших низший слой общества, в подавляющем большинстве своем – государственных или помещичьих крестьян. Народники смотрели на них как на мучеников, чьи страдания они призваны отомстить, исправив причиненное им зло; как на воплощение простых, незапятнанных добродетелей. Крестьяне эти (сильно идеализированные) должны составить естественный фундамент для будущего устройства российского общества.
Главными целями народников были социальная справедливость и социальное равенство. Следуя Герцену, революционная пропаганда которого в 1850-х была для них самым влиятельным источником, они в большинстве своем верили, что основа для справедливого общества уже существует в виде русской крестьянской общины – мира. Мир был автономным сообществом крестьян, время от времени устраивавших переделы пахотной земли; его решения связывали всех членов; и на этом краеугольном камне, по мнению народников, можно было путем выборов возвести здание государства, состоящего из таких самоуправляемых общин. (Идею эту они почерпнули у французского социалиста Прудона.) Вожди народничества полагали, что такая форма общественной жизни создала бы в России свободный и демократичный строй, берущий начало в глубочайших нравственных установках и традиционных ценностях русского – да и любого – общества. Они верили, что работники (то есть все производители) и города и деревни смогут воплотить эту систему в жизнь с гораздо меньшей степенью жестокости и насилия, чем это случилось на индустриализованном Западе. Такая система, выросшая из насущных человеческих потребностей и представлений о правде и добре, заложенных в каждом, обеспечила бы справедливость, всеобщее равенство и широчайший простор для развития человеческих способностей. Поэтому народники полагали, что рост широкомасштабной централизованной промышленности не был «естественным» и неизбежно вел всех, попавших в его когти, к деградации и обесчеловечиванию, ибо капитализм – страшное зло, калечащее тела и души. Но они не считали его неизбежным, так как социальный и экономический прогресс, по их мнению, отнюдь не связан с ростом индустриализации. Народники думали, что приложение научных истин и методов к проблемам общества и конкретных людей (в которое они страстно верили), хоть и может привести к развитию капитализма, все же достижимо без этой, казалось бы, неизбежной жертвы. Они верили в способность науки облегчить человеческую жизнь, не нарушая при этом «естественную» жизнь крестьянской деревни и не создавая огромного, нищего, безликого городского пролетариата. Капитализм кажется непобедимым лишь потому, что с ним никто не пытается адекватно бороться. И, как бы то ни было на Западе, в России проблема большой территории преодолима, а создание небольших объединений самоуправляемых трудовых общин по Фурье и Прудону – вполне осуществимо, если продуманно подойти к делу. Как и французские первопроходцы, их последователи в России ненавидели институт государства особой ненавистью, ибо для них государство было символом, результатом и источником несправедливости и неравенства, орудием господствующего класса для защиты его привилегий – а сам он, по мере сопротивления его жертв, становился все более жестоким и склонным к слепому разрушению.
Поражение либеральных и радикальных общественных движений на Западе в 1848–1849 годах укрепило народников в убеждении, что выход надо искать не в политике или политических партиях. Им казалось очевидным, что либеральные партии и их вожди не понимают, что нужно угнетенным их стран, и не пытаются по-настоящему стоять за их насущные интересы. Подавляющее большинство российских крестьян (или европейских рабочих) действительно нуждалось в еде и одежде, в физической безопасности, спасении от болезней, невежества, нищеты и унизительного неравенства, а не в политической деятельности, праве голоса, парламентах и республиканском строе, которые для неграмотных, грубых, полуголых и голодных людей представляют собой лишь пустой звук, издевательство над их положением. Народники, имея мало общего со славянофилами, разделяли их отвращение к строго разграничившей классы социальной пирамиде западных стран, услужливо принимаемой или пылко почитаемой конформистской буржуазией и государственной бюрократией, на которую эта буржуазия равнялась.
Сатирик Салтыков-Щедрин в своем знаменитом разговоре русского мальчика с немецким запечатлел этот народнический взгляд, провозгласив свою веру в русского мальчика, голодного, оборванного, копошащегося в грязи и убожестве проклятого рабовладельческого царского режима, потому что он, в отличие от аккуратного, послушного, приятного, упитанного и хорошо одетого немецкого мальчика, не продал свою душу за несколько монет, которые ему пообещал прусский чиновник, и потому способен когда-нибудь, если только ему позволят, подняться во весь свой человеческий рост, а немецкий мальчик не поднимется никогда. Россия лежала во мраке и в цепях, но ее дух не был покорен; прошлое было темным, но будущее обещало больше, чем прижизненная смерть цивилизованного среднего класса в Германии, во Франции или в Англии, давным-давно продавшегося за материальную обеспеченность и так закосневшего в своем позорном добровольном рабстве, что само желание свободы стало ему чуждым и непонятным.
Но, в отличие от славянофилов, народники не верили в то, что характер и судьбы русского народа уникальны. Они не были националистами-мистиками и думали только, что Россия – отсталая нация, не достигшая уровня социального и экономического развития, к которому, желая того или нет, подошли нации западные, вступив на путь ничем не сдерживаемого капитализма. В массе своей они не были историческими детерминистами; соответственно они верили, что нация, оказавшаяся в столь тяжелом положении, может избежать своей судьбы, упражняя волю и разум. Они не видели, почему бы России не воспользоваться западной наукой и технологией, не платя за это ту отвратительную цену, которую заплатил Запад. Они доказывали, что можно избежать деспотизма централизованной экономики и централизованного управления, если принять свободную федеральную структуру, основанную на самоуправлении и социальном единстве производителей и потребителей. Они придерживались мнения, что управлять нужно, но нельзя упускать из виду прочие ценности, так как управление само по себе – не цель; управлять следует, прежде всего исходя из нравственных и гуманистических соображений, а не только, как в муравейнике, из экономических и технологических. Они говорили, что защитить людей от эксплуатации, превратив их в индустриальную армию организованных роботов, – самоуничижение и самоубийство. Идеи народников часто были нечеткими, между ними существовали острые различия, но сходного достаточно, чтобы говорить о подлинном движении. Так, например, они принимали в общих чертах просветительские и моральные уроки Руссо, но не его поклонение государству. Некоторые из народников (возможно, большинство) разделяли его веру в добродетель простых людей, его мысль, что причина морального разложения общественных институтов – их изношенность, его острое недоверие ко всем формам умствования, к интеллектуалам, специалистам, всем самоизолировавшимся кружкам и фракциям. Они принимали аполитические идеи Сен-Симона, но не его технократический централизм. Они разделяли веру в насилие и конспирацию, проповедуемые Бабефом и его учеником Буонаротти, но не их приверженность авторитаризму. Они противостояли (вместе с Сисмонди, Прудоном, Ламенне и всеми, кто создал идею «государства всеобщего благоденствия»), с одной стороны, эволюционистам (laissez-faire), а с другой стороны, центральной власти, будь она националистическая или социалистическая, временная или постоянная, проповедуемая Листом или Мадзини, Лассалем или Марксом. Иногда они близко подходили к позициям западных христианских социалистов, однако без их религиозной веры, так как, подобно французским энциклопедистам прошлого века, верили в «естественную» мораль и научную истину. Такие убеждения их объединили. Но разделяли их не менее глубокие различия.
Первой и самой большой их проблемой было отношение к крестьянам, во имя которых все и делалось. Кто должен указать крестьянам истинный путь к справедливости и равноправию? Индивидуальная свобода, конечно, не осуждалась народниками, но они были склонны относиться к ней как к либеральной фразе, отвлекающей внимание от социальных и экономических задач. Надо ли создавать воспитателей душ – специалистов по обучению невежественных младших братьев, и если да, нужно ли побуждать крестьян к сопротивлению властям, восстанию и разрушению старого порядка, пока они сами полностью не осознают значение и необходимость подобных действий? В 1840-е годы об этом рассуждали такие непохожие друг на друга люди, как Бакунин и Спешнев; в 50-е это же проповедовал Чернышевский, в 60-е – страстно отстаивали Заичневский и якобинцы «Молодой России»; в 70-е и 80-е этому учил Лавров, а также его оппоненты, приверженцы организованного профессионального терроризма Нечаев, Ткачев и их последователи, которые включали (объединяясь исключительно в этом) не только социалистов, но и самых фанатичных русских марксистов, в частности Ленина и Троцкого.
Некоторые из них задавались вопросом, не приведет ли обучение революционных групп к появлению заносчивой элиты рвущихся к власти людей, которые в лучшем случае считали бы своим предназначением дать крестьянам не в точности то, о чем те просят, а то, что они сами, то есть их самонадеянные наставники, считают для них благом. Они шли дальше и спрашивали, не станет ли, таким образом, племя фанатиков, уделявших мало внимания действительным нуждам большинства населения, агитировать народ за то, что они (орден профессиональных революционеров, оторванный от народной жизни специальным обучением и необходимостью конспирации) для него избрали, не считаясь с его собственными стремлениями и надеждами. Нет ли здесь страшной опасности заменить старое ярмо новым, когда на место аристократии, бюрократии и царя придет деспотическая олигархия интеллектуалов? Есть ли гарантии, что новые хозяева будут меньше угнетать, чем старые?
Об этом спорили некоторые террористы 60-х годов, например Ишутин и Каракозов, и особенно молодые идеалисты 70-х, которые «пошли в народ» не столько учить других, сколько самим учиться жизни, вдохновленные скорее Руссо, Некрасовым и Толстым, чем более жесткими социальными теоретиками. Эти молодые люди, «раскаявшиеся дворяне», считали, что сами они развращены не только преступной социальной системой, но и самим либеральным образованием, которое способствует углублению неравенства и становится богатейшей почвой для несправедливости и классового угнетения, неизбежно возвышая ученых, писателей, профессоров, специалистов и вообще цивилизованных людей над массами. Все, что затрудняет понимание между индивидуумами, группами или нациями, что создает препоны человеческой солидарности и братству, по определению дурно; специализация и университетское образование воздвигают стены между людьми, мешают общим контактам, убивают любовь и дружбу и в числе прочих причин виновны в том феномене, который Гегель и его последователи назвали «отчуждением», царящим на уровне целых классов и культур.
Некоторым народникам удавалось обойти эту проблему. Бакунин, например, который не был народником, но глубоко повлиял на народничество, осуждал веру в интеллигенцию и специалистов, ведущую, возможно, к самой страшной тирании (правлению ученых и педантов), но не касался вопроса о том, должны ли революционеры учить других или учиться сами. Это оставили без ответа и террористы «Народной воли». Более чувствительные и морально добросовестные мыслители, например Чернышевский и Кропоткин, чувствовали важность этой проблемы и не пытались скрыть ее от себя; задаваясь вопросом, по какому праву они предлагают крестьянской массе, выросшей в совершенно другой системе ценностей, ту или иную социальную организацию, которая, на их взгляд, воплотит более глубокие ценности, чем ее собственные, они не могли дать ясного ответа. Вопрос становился еще более острым, когда они спрашивали (в 60-е годы все чаще), что делать, если крестьяне станут сопротивляться планам их революционного освобождения? Нужно ли обманывать массы или, хуже того, принуждать? Никто не возражал против того, что в конце концов править должен именно народ, а не революционная элита, но как далеко можно зайти сейчас, не считаясь с желаниями большинства и принуждая народ стать на путь, который он прямо отвергает?
Это ни в коем случае не было просто академическим вопросом. Первых восторженных приверженцев радикального народничества (миссионеров, которые пошли «в народ» знаменитым летом 1874 года) встретили безразличие, подозрение, обида, а иногда активные ненависть и сопротивление части их потенциальных подопечных, которые снова и снова выдавали их полиции. Народники были вынуждены открыто выражать свои взгляды, так как страстно верили в необходимость оправдать свои действия с помощью разумных доводов. Сперва они не были единодушны. Активисты Ткачев, Нечаев и (не столько в политическом смысле) Писарев, чьи поклонники стали известны как «нигилисты», предвосхитили Ленина в его презрении к демократическим методам. Со времен Платона доказывали, что дух господствует над плотью и знающие должны управлять незнающими; образованные люди не могут слушаться безграмотных и невежественных; народ можно освободить, даже вопреки его неразумным желаниям, хитростью, любыми подходящими средствами, обманом и насилием, если надо. Такие представления и авторитаризм, который они влекли за собой, разделяло лишь меньшинство народников. Большинство же приводила в ужас открытая защита макиавеллиевской тактики; они считали, что любую цель, даже хорошую, обесценят чудовищные средства.
Такой же конфликт возник из-за отношения к государству. Все русские народники сходились на том, что государство олицетворяет систему принуждения и неравенства и, следовательно, в принципе своем дурно; никакое счастье или справедливость невозможны, пока оно не будет уничтожено. Но в то же время какова одна из первых задач революции? Ткачев достаточно ясно говорит, что, пока капиталисты полностью не уничтожены, орудие принуждения (пистолеты, изъятые у них революционерами) ни в коем случае нельзя отбросить, его нужно обратить против врага. Иными словами, государственную машину надо не разрушить, а направить против неизбежной контрреволюции; она должна работать до тех пор, пока последний враг (по бессмертной фразе Прудона) не будет успешно ликвидирован и человечество, соответственно, не перестанет нуждаться в каком-либо орудии принуждения. В этой доктрине Ленин скорее следовал Ткачеву, чем амбивалентной марксистской формуле о требовании пролетарской диктатуры. Характерно, что Лавров, представляющий центральное крыло народничества, отражая все его колебания и затруднения, отстаивает не полное и не медленное уничтожение государства, но систематическую его редукцию до какого-то неопределенного минимума. Чернышевский, наименьший анархист среди народников, считает, что государство должно организовывать и защищать свободные сообщества крестьян и рабочих, причем умудряется видеть его одновременно централизованным и децентрализованным, гарантирующим не только порядок, действенность и равенство, но и личную свободу.
Все эти мыслители разделяли вполне апокалиптическое предположение: если царство зла (самодержавие, угнетение, неравенство) сгорит в огне революции, из пепла сам по себе поднимется естественный, гармоничный, справедливый порядок, который потребует для своего окончательного совершенствования только мягкого руководства просвещенных революционеров. Эту великую утопическую мечту, основанную на простой вере в перерождение человеческой природы, народники разделяли с Годвином и Бакуниным, Марксом и Лениным. Сутью ее была модель греха, смерти и воскресения – дороги к земному раю, ворота которого откроются только в том случае, если люди обнаружат единственно верный путь к нему и пойдут этим путем. Корни таких представлений лежат глубоко в религиозном сознании человечества, и нет ничего удивительного в том, что эта мирская версия имеет большое сходство с верой русских старообрядцев, для которых со времен великого раскола XVII века Российское государство и Петр Великий олицетворяли земное царство Сатаны. Эти религиозные изгои дали много потенциальных союзников, которых народники пытались привлечь на свою сторону.
Между народниками существовали глубокие противоречия. Их разделяло отношение к будущей роли интеллигенции по сравнению с ролью крестьянства и к историческому значению поднимающегося класса капиталистов; одни были постепеновцами, другие – сторонниками тайного заговора; одни склонялись к образованию и пропаганде, другие – к терроризму и подготовке немедленного восстания. Все эти вопросы были взаимосвязаны и требовали решения. Но самые глубокие расхождения народников касались безотлагательного вопроса о том, может ли истинно демократическая революция осуществиться до того, как достаточное количество угнетенных станет полностью сознательными, то есть способными понимать и анализировать причины своего невыносимого положения. Умеренные доказывали, что никакую революцию нельзя назвать демократической, если она не исходит из принципов революционного большинства. Но в этом случае, наверное, остается только ждать, пока образование и пропаганда не создадут такого большинства, что и отстаивали почти все западные социалисты-марксисты и немарксисты во второй половине XIX века.
Русские якобинцы на это возражали, что такое ожидание, притом отвергающее все формы борьбы, организованной решительным меньшинством, как безответственный терроризм или, еще хуже, как замена одного деспотизма другим, привело бы к катастрофическим результатам: пока революционеры мешкают, капитализм быстро бы развивался; передышка заставила бы правящий класс развивать социальную и экономическую базу намного интенсивнее; рост процветающего, энергичного капитализма создал бы возможности работать для радикальной интеллигенции – врачи, инженеры, преподаватели, экономисты, техники и специалисты всех типов заняли бы высокооплачиваемые места и должности; их новые буржуазные хозяева были бы достаточно умны, чтобы не требовать от них, как теперь, политического подчинения; интеллигенция получила бы особые привилегии, статус и широкие возможности для самовыражения (безвредный радикализм и определенная доля свободы личности были бы разрешены), и, таким образом, революционное движение потеряло бы самых ценных участников. Те, чье ненадежное положение и недовольство объединило их с угнетенными, были бы частично удовлетворены, стимул к революционной деятельности ослабел бы, и перспективы радикального преобразования общества оказались бы весьма туманными. Радикальное крыло революционеров яростно доказывало, что развития капитализма, что бы ни говорил Маркс, избежать можно. Где-где, а в России его еще можно остановить революционным переворотом, пресечь в корне до того, как он окрепнет. Если, признав необходимость будить «политическое сознание» рабочих и крестьян (которых к этому времени, частично из-за неудачи интеллектуалов в 1848 году, марксисты и большинство народнических лидеров сочли абсолютно готовыми к революционному крещению), мы примем программу постепеновцев, момент для решительных действий будет, конечно, упущен; и не поднимется ли вместо народнической или социалистической революции мощный, гибкий и хищный, преуспевающий капиталистический режим, который сменит российский полуфеодализм так же, как он сменил феодальный порядок в Западной Европе? Кто тогда может сказать, сколько десятилетий или столетий пройдет, пока грянет революция? И когда она все же грянет, кто может сказать, какой порядок она установит, на какую социальную базу она будет опираться?
Все народники соглашались с тем, что идеальный зародыш социалистических групп, на которые должно опираться будущее общество, – это деревенская община. Но не разрушит ли ее автоматически развитие капитализма? Если капитализм уже разрушает деревенский мир (хотя об этом, наверное, открыто не говорили до 1880-х годов) и классовая борьба, как доказал Маркс, разделяет деревню так же, как и город, тогда план действий ясен: вместо того чтобы сидеть сложа руки и спокойно наблюдать разрушение, мы должны решительно остановить этот процесс и спасти деревенскую общину. Социализм, как доказывали якобинцы, можно ввести, захватив власть, и на это надо направить всю энергию революционеров, даже отсрочив обучение крестьян моральным, социальным и политическим реалиям. Ведь такое обучение осуществится быстрее и эффективнее после того, как революция сломит сопротивление старого режима.
Такой образ мысли, чрезвычайно схожий если не с конкретными словами, то с политикой Ленина в 1917 году, существенно отличался от старого марксистского детерминизма. Его постоянный рефрен: нельзя терять времени. В деревне кулаки уничтожают беднейшее крестьянство, в городе становится все больше капиталистов. Если правительство обладает хоть каплей разума, оно пойдет на уступки, проведет реформы и отвлечет образованных людей, чья воля и разум нужны революции, на мирный путь служения реакционному государству; а несправедливый порядок, поддержанный такими либеральными мерами, продолжится и укрепится. Активисты доказывали, что революции не неизбежны, они – плод человеческой воли и человеческого разума. Если воли и разума недостает, революция может вообще не произойти. Только потребность в безопасности вынуждает людей к солидарности и общинной жизни; индивидуализм всегда был роскошью, идеалом социальной элиты. Новый класс технических специалистов (современных, блестящих и энергичных людей), появление которого приветствовали либералы Кавелин и Тургенев, а иногда даже радикальный индивидуалист Писарев, для якобинца Ткачева был «хуже тифа и холеры», так как, применяя научные методы к социальной жизни, они играли на руку новым капиталистическим олигархам и, таким образом, закрывали путь к свободе. Полумеры фатальны, когда только операция может спасти пациента; они продлевают его болезнь и так ослабляют организм, что в конце концов не спасет даже операция. Нужно поднять восстание до того, как эти новые интеллектуалы, потенциальные конформисты, станут слишком сильны, слишком многочисленны и получат слишком много власти, иначе будет слишком поздно: элита сенсимонистов из высокооплачиваемых чиновников возглавит новый феодальный порядок – экономически эффективное, но аморальное общество, основанное на вечном неравенстве.
Неравенство – величайшее из зол. Когда другие идеалы вступали в конфликт с идеей равенства, русские якобинцы всегда готовы были принести их в жертву или изменить. Первый принцип, на котором покоится справедливость, – равенство; нет справедливого общества без максимальной степени равенства между людьми. Если революция успешно осуществится, нужно побороть и искоренить три основных заблуждения. Первое заблуждение: что прогресс создается только людьми культуры. Это ложь, наихудшее следствие которой – вера в элиту. Второе – противоположная иллюзия, что всему нужно учиться у простых людей. Это тоже ложь; в аркадских крестьянах Руссо слишком много идиллического вымысла. Массы невежественны, грубы, реакционны и не понимают собственных потребностей и выгод. Если революция зависела бы от их зрелости, способности к политическому суждению и организации, она бы, естественно, провалилась. Последнее заблуждение: только пролетарское большинство может успешно осуществить революцию. Без сомнения, пролетарское большинство могло бы это сделать, но если Россия должна ждать, когда это произойдет, возможность свергнуть коррумпированное и ненавистное правительство будет упущена и капитализм почувствует себя крепко в седле.
Что же делать? Нужно подготовить революцию, разрушить существующую систему и все, что препятствует равенству и самоуправлению. Когда это будет достигнуто, нужно созвать демократическое законодательное собрание, и если те, кто совершил революцию, сумеют объяснить ее причины, то есть социальную и экономическую ситуацию, сделавшую ее необходимой, то массы, хотя сегодня они, возможно, этого не понимают, непременно (по мнению якобинцев) осознают свое положение и охотно позволят организовать себя в новую свободную федерацию производительных ассоциаций.
Но предположим, что народные массы наутро после успешного coup d’tat[349] все еще недостаточно зрелы, чтобы осознать это? Герцен снова и снова задавал этот нелегкий вопрос в конце 1860-х годов; тревожил он и народников. Активное крыло не сомневалось в ответе: сбросьте цепи с плененного героя – он встанет в полный рост и будет навеки свободен и счастлив. Взгляды этих людей были поразительно просты. Они верили, что терроризм, и только терроризм, поможет достигнуть полной, анархистской свободы. Целью революции для них было установление абсолютного равенства, не только экономического и социального, но «физического и физиологического». Они не видели противоречий между прокрустовым ложем насильственного равенства и абсолютной свободой, считая, что этот порядок нужно ввести силой и властью государства, после чего государство, выполнив свою задачу, быстро «ликвидировало» бы само себя.
Представители основной части народников на это возражали, что средства якобинцев должны соответствовать целям: если цель революции – освобождение, нельзя использовать оружие деспотии, которое может поработить тех, кого они задумали освободить; лекарство не должно быть более разрушительным, чем сама болезнь. Использовав государство, чтобы уничтожить власть эксплуататоров, и навязав специфическую форму жизни людям, большинство из которых недостаточно образованно, чтобы понять, как это необходимо, мы заменим царский гнет на новый, не обязательно менее тяжелый, – гнет революционного меньшинства. Народники большей частью были истинными демократами; они верили, что любая власть склонна портиться, что любая концентрация власти ведет к стремлению властвовать вечно, что любая централизация – принуждение и зло и, следовательно, единственная надежда на справедливое и свободное общество – в добровольном (разумно доказанном) обращении людей к истинам социально-экономической справедливости и демократической свободы. Может быть, чтобы добиться возможности прививать людям эти взгляды, действительно надо уничтожить существующие препятствия для свободного разумного общения (полицейское государство, власть капиталистов и помещиков) и использовать силу, будь то восстание или индивидуальный террор. Но эти временные меры представлялись им вполне невинными (ведь власть врага уничтожалась) и совершенно отличными от передачи власти в руки какой-либо партии или группы. В течение последних двух столетий именно об этом спорили либертарианцы и федералисты с якобинцами и сторонниками централизации – Вольтер с Гельвецием и Руссо, левое крыло Жиронды с «горой». Герцен использовал эти доводы против коммунистов-доктринеров предшествующего периода, Кабе и его ученика Бабефа. Бакунин осуждал марксистское требование диктатуры пролетариата, считая, что оно просто переведет власть от одних угнетателей к другим. Народники 80-х и 90-х использовали эти доводы в борьбе против всех тех, кого они подозревали в тайном намерении (вольном или невольном) разрушить самобытность личности и свободу, будь то либералы-эволюционисты, которые позволяли владельцам фабрик порабощать массы, или радикальные коллективисты, готовые сделать это сами; будь то капиталистические entrepreneurs (как писал Михайловский Достоевскому в известном критическом разборе «Бесов») или марксистские защитники централизованной власти. Он считал, что и те и другие намного опаснее патологических фанатиков – грубых, аморальных социальных дарвинистов, глубоко враждебных разнообразию индивидуальных характеров и свободе, – которых Достоевский обличил.
Это был главный политический вопрос, который в поворотный момент столетия отделил русских социалистов-революционеров от социал-демократов и по которому несколько лет спустя Плеханов и Мартов разошлись с Лениным. Действительно, раскол между большевиками и меньшевиками (что бы ни было его внешней причиной) произошел из-за этого. Сам Ленин, никогда не отходивший от центральной марксистской доктрины, через два или три года после Октябрьской революции бранил бюрократию и деспотический произвол партийных чиновников, хотя именно это предсказывали его оппоненты; Троцкий обвинял Сталина в том же самом преступлении. Дилемма методов и их последствий – самая глубокая и мучительная для революционных движений наших дней на всех континентах мира, не исключая Азии и Африки. То, что она так ясно и четко прозвучала у народников, делает ее исключительно близкой нашим собственным проблемам.
Все эти различия существовали в рамках общего революционного мировоззрения, так как, несмотря на многие разногласия, всех народников объединяла нерушимая вера в революцию. Проистекала она из многих источников. Она исходила из потребностей и взглядов преимущественно доиндустриального общества, жаждущего простоты и братства, из аграрного идеализма, восходящего в конечном счете к Руссо, – реальности, которую можно сегодня увидеть в Индии и Африке и которая непременно кажется утопической социальным историкам, родившимся на индустриальном Западе. Это было следствием разочарования в парламентской демократии и либеральных взглядах, славной веры буржуазных интеллектуалов после поражения европейских революций 1848–1849 годов и специфического вывода, к которому пришел Герцен: Россия, не выстрадавшая эту революцию, возможно, найдет свое спасение в неистребимом естественном социализме крестьянского мира. На это глубоко повлияли страстные обличительные речи Бакунина против всех форм централизованной власти и, в частности, государства; его взгляд на человека как существо от природы мирное и созидательное, которое становится агрессивным только тогда, когда извращают его сущность, вынуждая быть жертвой или палачом. Это питалось и течениями иного направления – верой Ткачева в якобинскую элиту профессиональных революционеров как единственную силу, способную остановить развитие капитализма, который опирается в своем фатальном движении на невинных реформистов-гуманитариев и карьеристов-интеллигентов и скрывается за омерзительным лицемерием парламентской демократии; еще больше это питалось страстным утилитаризмом Писарева и его блестящей полемикой со всеми формами идеализма и дилетантизма – например, сентиментальной идеализацией красоты и простоты крестьянской жизни вообще и жизни русских крестьян в частности, осененной благодатью и удаленной от пагубного влияния загнивающего Запда. Это поддерживалось призывом «критических реалистов» к своим соотечественникам спасаться самодисциплиной и тренировкой ума – новый вид энциклопедизма, пропагандирующий естественные науки, навыки, профессионализм и направленный против гуманитарного знания, классического образования, истории и других форм «сибаритского» самолюбования. Более того, этот «реализм» контрастировал с литературной культурой, которая убаюкивала лучших людей в России в той ситуации, когда коррумпированная бюрократия, тупые и жестокие помещики, мракобесная церковь могли эксплуатировать их или позволять им разлагаться, в то время как эстеты и либералы думали о своем.
Но самой сутью, самым центром мировоззрения народников был индивидуализм и рационализм Лаврова и Михайловского. Вместе с Герценом они верили, что история не движется предопределенным путем, что у нее нет либретто, что ни сильнейшие столкновения между культурами, нациями или классами (в которых гегельянцы видели сущность человеческого прогресса), ни борьбу классов за власть (представленную марксистами как движущая сила истории) нельзя считать неизбежными. Вера в человеческую свободу была краеугольным камнем народнического гуманизма. Они не уставали повторять, что цели выбираются людьми, а не навязываются им свыше и что человеческого стремления достаточно, чтобы построить счастливую, достойную жизнь, в которой примирятся интересы интеллигенции, крестьян, рабочих и людей свободных профессий; конечно, они не полностью совпадут, это недостижимый идеал, но приведут в живое равновесие, которое, находясь под постоянным контролем разума, может быть отрегулировано почти всегда, когда возникнут непредсказуемые последствия человеческих взаимодействий друг с другом и с природой. Возможно, свое влияние оказали и традиции православной церкви с ее примиренческими и общинными принципами, ее неприятием авторитарной католической иерархии и индивидуализма протестантов. Все эти доктрины, их пророки и их западные учителя (французские радикалы до и после Французской революции, Фихте и Наполеон, Фурье и Гегель, Милль и Прудон, Оуэн и Маркс) сыграли, конечно, свою роль. Но самая крупная фигура в народническом движении, человек, чей темперамент, идеи и деятельность от начала и до конца доминировали в нем, несомненно – Николай Гаврилович Чернышевский. Влияние его жизни и учения, несмотря на множество существующих монографий, еще ждет своего исследователя.
Чернышевский не был новатором. Он не обладал глубиной, воображением, блестящим интеллектом и литературным талантом Герцена; красноречием, смелостью, темпераментом, интеллектуальной силой Бакунина; моральной честностью и уникальной социальной интуицией Белинского. Но он был человеком нерушимой цельности, огромного трудолюбия и редкой среди русских способности сосредоточиваться на конкретных деталях. Его глубокая, твердая, вечная ненависть к рабству, несправедливости и неразумию не выразилась в больших теоретических обобщениях, создании социологической или метафизической системы или насильственных действиях против властей. Она приняла форму неторопливого, спокойного, терпеливого собирания идей и фактов – неизящного и скучного, но мощного сооружения, в котором можно найти детальную стратегию практических действий, соответствующих специфике русской среды, которую он хотел изменить. Чернышевский очень хорошо относился к конкретным, старательно разработанным, хотя и ошибочным, социалистическим планам группы Петрашевского (к которой принадлежал Достоевский), уничтоженной правительством в 1849 году, а потом – к фантастическим построениям Герцена, Бакунина и их последователей.
Новое поколение выросло в годы реакции, наступившей после 1849 года. Эти молодые люди видели сомнения и предательства части либералов, приведшие к победе реакционных партий. Через двенадцать лет они наблюдали то же самое в собственной стране, когда освобождение крестьян в России оказалось циничной пародией на их планы и надежды. Такие люди оценили трудолюбивый гений Чернышевского – его попытки найти специфическое решение специфических проблем с точки зрения конкретных статистических данных, его постоянное обращение к фактам, его терпеливые усилия наметить достижимые, практические, непосредственные цели, а не те, к которым нет реального пути, его плоский, сухой, прозаический стиль, его монотонность и недостаток вдохновения были серьезнее и в конечном счете вдохновляли больше, чем благородные мечты романтических идеалистов 1840-х. Относительно низкое социальное происхождение (он был сыном приходского священника) давало ему естественную близость к простому народу, положение которого он анализировал, и постоянное недоверие, позже обернувшееся фанатической ненавистью ко всем либеральным теоретикам. Эти качества сделали Чернышевского естественным лидером разочарованного поколения, куда входили разные по рождению люди; поколения, озлобленного крушением их собственных ранних идеалов, правительственными репрессиями, унижением России в Крымской войне, слабостью, бессердечием, лицемерием и некомпетентностью правящего класса. Для этих грубоватых, социально неблагополучных, сердитых, подозрительных молодых людей Чернышевский был отцом и духовником, каким не мог бы никогда стать ни аристократичный, ироничный Герцен, ни своенравный и, в сущности, легкомысленный Бакунин.
Как все народники, Чернышевский верил, что необходимо сохранить крестьянскую общину и распространить ее принципы на промышленное производство. Он верил, что прямая выгода для России – перенять научные достижения Запада, не проходя сквозь агонию промышленной революции. «Человеческое развитие есть форма хронологической несправедливости, – подметил однажды Герцен, – так как потомки пользуются трудом своих предшественников, ничего не платя им за это». «История любит своих внуков, – повторил за ним Чернышевский, – потому что она предлагает им мозг тех косточек, раскалывая которые поранило руки предыдущее поколение». Для Чернышевского история двигалась по спирали, по гегелевским триадам, поэтому каждое поколение повторяло опыт не отцов, а дедов, и «на более высоком уровне».
Но не этот историософский элемент очаровал народников. Более всего на них повлияло его острое недоверие к реформам сверху, его вера в то, что сущность истории – борьба классов, и в особенности его убеждение (которое исходит, как вы знаете, от Маркса, но опирается на социалистические источники, общие для них обоих), что государство – это орудие правящих классов, а потому не может, сознательно или бессознательно, провести те необходимые реформы, успех которых мог бы положить конец их правлению. Ни один строй не хочет своей собственной смерти. Поэтому все попытки переделать царя, все попытки избежать ужасов революции непременно останутся тщетными (писал он в начале 60-х). В конце 50-х был момент, когда он, как Герцен, надеялся на реформы сверху. Конечная форма освобождения крестьян и уступки, которые сделало правительство помещикам, избавили его от этой иллюзии. Он указывал, со значительной долей исторической правоты, что либералы, надеявшиеся повлиять на правительство тактикой Фабиана Кунктатора, предали и крестьян, и самих себя. Сначала они скомпрометировали себя в глазах крестьян отношениями с их хозяевами, а потом уже правящему классу, когда это было ему удобно, ничего не стоило представлять их ложными друзьями крестьян и позже отвернуться от них. Это же происходило во Франции и Германии в 1849 году. Даже если бы умеренные вовремя одумались и потребовали насильственных мер, незнание ситуации и слепота к насущным потребностям рабочих и крестьян вынудили бы их отстаивать утопические проекты, которые в конечном счете дорого стоили бы их последователям.
Чернышевский развивал простую форму исторического материализма, в соответствии с которой политические факторы определяются социальными, а не наоборот. Тем самым он считал (как Фурье и Прудон), что либеральные и парламентаристские представления просто обходят главные вопросы – потребность крестьян и рабочих в пище, жилье и одежде; что же касается либеральной конституции, права голосовать и гарантий личной свободы – это мало что значит для голодных, полураздетых людей. Социальная революция должна идти первой; за ней последуют соответствующие политические реформы. Для Чернышевского принципиальным уроком 1848 года было то, что западные либералы, смелые и малодушные одновременно, продемонстрировали свое политическое и моральное банкротство (это же относится к их русским ученикам – Герцену, Кавелину, Грановскому и остальным). Россия должна идти своим собственным путем. В отличие от славянофилов и подобно русским марксистам следующего поколения, Чернышевский считал, что историческое развитие России, в особенности – крестьянский мир ни в каком отношении не уникальны, а подчиняются тем же социальным и экономическим законам, что и все человеческое общество. Как марксисты (и позитивисты-контианцы), он верил, что такие законы можно открыть и установить; но, в отличие от марксистов, он был убежден, что, переняв западные технологии и воспитав людей железной воли и рационалистических взглядов, Россия может «проскочить» капиталистическую стадию развития, превратив крестьянские общины и свободные кооперации ремесленников в сельскохозяйственные и промышленные ассоциации производителей, которые станут зародышем нового, социалистического общества. Технический прогресс, по его мнению, не разрушит автоматически крестьянскую общину: «дикарей можно научить пользоваться латинским шрифтом и безопасными спичками»; фабрики можно создать на базе рабочих артелей, не разрушив их; высокоорганизованное производство может уничтожить эксплуатацию и в то же время сохранить сельскохозяйственную природу российской экономики[350].
Чернышевский верил в решающую историческую роль внедрения науки в жизнь, но, в отличие от Писарева, не считал, что индивидуальное предпринимательство или тем более капитализм связаны с этим процессом. Он был верен своему увлечению фурьеризмом и рассматривал свободные ассоциации крестьянских общин и ремесленных артелей как основу свободы и прогресса. Но в то же самое время он был убежден, как сенсимонисты, что вряд ли можно достичь государственного социализма без коллективных действий. Эти две веры никогда не примирились; в работах его есть доводы и за, и против высокоразвитой индустрии. Он неоднозначно относится к тому, должно ли государство поощрять и контролировать промышленность и должен ли демократически избранный парламент быть независимым от государства, если оно осуществляет централизованное экономическое планирование и контроль.
Контуры социальной программы Чернышевского оставались неясными или противоречивыми, а иногда – и то и другое вместе. Его очень конкретная и основанная на реальном опыте программа прямо обращалась к представителям народных масс, наконец-то нашедших в нем своего оратора, толкователя своих чувств и потребностей. Самые глубокие эмоции и стремления Чернышевского вылились в роман «Что делать?» – гротескную социальную утопию, сыгравшую поистине эпохальную роль в русском сознании. Этот дидактический роман описывал «новых людей» свободного, морально чистого, кооперативного социалистического общества; его трогательная искренность и нравственный пыл покоряли воображение идеалистичных, кающихся молодых людей из буржуазных семей и снабжали их идеальной моделью, в лучах которой выросло и окрепло целое поколение революционеров, готовых к открытому неповиновению существующим условностям и законам, к величественно равнодушному приятию ссылки и смерти.
Чернышевский проповедовал наивный утилитаризм. Как Джеймс Милль и, возможно, Бентам, он считал, что в основе человеческой природы лежит фиксированная, физиологическая, поддающаяся анализу система естественных процессов и склонностей и, следовательно, увеличение человеческого счастья можно спланировать и осуществить. Решив, что художественная литература и критика – единственное доступное средство для пропаганды радикальных идей в России, он под видом литературы, насколько это было возможно, наполнил «Современник» (журнал, который он редактировал вместе с Некрасовым) прямыми иллюстрациями социалистической доктрины. Тут ему помогал молодой критик Добролюбов (в отличие от самого Чернышевского, литературно одаренный), который порою шел еще дальше в своем страстном желании учить и проповедовать. Эстетические взгляды обоих фанатиков были сугубо практическими. Чернышевский полагал, что функция искусства – помочь человеку более разумно удовлетворять свои потребности, распространять знания, бороться с невежеством, предрассудками, антиобщественными страстями, улучшать жизнь в самом узком и буквальном смысле этих слов. Приходя к абсурдным выводам, он радостно принимал их. К примеру, он объяснял, что главная ценность морских пейзажей в том, что они показывают море тем, кто живет далеко от него, скажем, жителям Центральной России; что его друг и покровитель Некрасов – величайший русский поэт потому, что его стихи пробуждают больше симпатии к угнетенным, чем стихи всех других поэтов, живых и умерших. Его ранние соратники, такие цивилизованные и утонченные писатели, как Тургенев и Боткин, находили его мрачный фанатизм все более невыносимым. Тургенев не смог ужиться с этим ненавидящим искусство догматичным школьным учителем. Толстой презирал его занудный провинциализм, полное отсутствие эстетического чувства, его нетерпимость, рационализм, его бешеную самоуверенность. Но эти же самые качества, или, точнее, мировоззрение, которое они характеризовали, помогли ему стать действительным вождем «суровых» молодых людей, пришедших на смену идеалистам 1840-х годов. Шероховатые, плоские, лишенные юмора, монотонные, режущие слух сентенции Чернышевского, его озабоченность конкретными деталями, его самодисциплина, его самоотверженное служение материальному и моральному благу своих друзей, его самоуничижение, его неустанное, страстное, увязающее в мелочах трудолюбие, ненависть к стилю и любым условностям этикета, безоговорочная искренность, полное невнимание к себе, грубая прямота, безразличие к притязаниям личной жизни, простодушие, доброта, педантичность, обезоруживающее моральное обаяние, способность к самопожертвованию создали образ, ставший позже прототипом русского революционного героя и мученика. Больше, чем какой-либо другой публицист, он несет ответственность за окончательное разделение на «них» и на «нас». Всю свою жизнь он учил, что компромисса с «ними» быть не должно, что война должна вестись на всех фронтах и до победного конца; что не может быть нейтральной позиции; что, пока война ведется, никакое дело не должно казаться революционеру слишком тривиальным, отталкивающим или утомительным. Его личность и мировоззрение наложили свой отпечаток на два поколения русских революционеров; и не в последнюю очередь на Ленина, который искренне им восхищался.
Несмотря на экономические и социологические акценты, основной тон Чернышевского и вообще народников был нравственным, а то и религиозным. Эти люди верили в социализм не потому, что он неизбежен или эффективен, и даже не потому, что он единственно разумен, а оттого, что он справедлив. Концентрация политической власти, капитализм, централизованное государство попирали права человека, калечили его нравственно и духовно. Народники были убежденными атеистами, но в их сознании социализм и христианские ценности уживались. Их отталкивала перспектива индустриализации в России непомерностью своей цены, и они не любили Запад за то, что тот безжалостно эту цену заплатил. Их ученики, экономисты-народники 1880-х и 1890-х годов, например Даниэльсон и Воронцов, при всей строгости экономических аргументов о возможности капитализма в России (некоторые из которых даже убедительнее, чем у их марксистских оппонентов), в последних работах отвернулись от него из нравственных соображений (очень уж много страданий он непременно принес бы), отказываясь, так сказать, платить эту страшную цену независимо от ценности результатов. Социалисты-революционеры (их преемники в ХХ столетии) озвучили идею, которая проходит через всю народническую традицию в России: цель социального действия – не сила государства, а благосостояние народа; обогатить государство, обеспечить его военную и индустриальную мощь, разрушив при этом здоровье, нравственность и общий культурный уровень его граждан, возможно, но безнравственно. Они сравнивали прогресс в Соединенных Штатах, где первостепенно, по их словам, личное благосостояние, с прогрессом в Пруссии, где это не так; и приходили к выводу (который восходит, по крайней мере, к Сисмонди), что духовное и физическое состояние отдельного гражданина значит больше, чем мощь государства; если же, как часто случается, эти две категории противоречат друг другу, предпочтение надо отдать правам и благосостоянию личности. Они считали исторически неверным мнение, что только сильное государство может вырастить хороших и счастливых граждан, и морально неприемлемым, что, растворяясь в жизни общества, личность в высшей форме осуществляет себя.
Вера в первенство прав человека – основной принцип, который отделяет плюралистические общества от централизованных, государства благосостояния, смешанной экономики и политики «нового курса» – от однопартийных правительств, «закрытых» обществ «пятилетками» и вообще форм жизни, построенных на служении одной цели, превосходящей цели всех других разнообразных групп или людей. Чернышевский был фанатичнее, чем большинство его последователей 1870-х и 1880-х годов, и значительно больше верил в организацию, но он не затыкал уши, слыша со всех сторон просьбы о немедленной помощи, и не считал, что даже в интересах самой святой и великой цели непременно нужно подавлять желание личности сохранить себя. Иногда он проявлял узость, ему не хватало воображения, но он никогда не был равнодушным, высокомерным или бесчеловечным и постоянно напоминал своим читателям и себе, что в своем стремлении помочь «наставники» не должны обманывать народ. Крестьяне, возможно, не хотят того, что «мы», интеллектуалы, считаем для них благом, и нельзя совать «им» в глотку «наше» лекарство. Ни он, ни Лавров, ни даже самые безжалостные якобинцы, приверженцы террора и насилия, никогда не прикрывались предопределенностью хода истории, чтобы оправдать то, что было бы явно несправедливым и жестоким. Если насилие – единственное средство достигнуть цели, значит, могут быть обстоятельства, при которых разумно к нему прибегнуть; но в каждом случае это должно было быть оправдано моральной высотой цели (которая перевешивала бы порочность средств – счастьем, солидарностью, справедливостью, миром и другими универсальными человеческими ценностями), а не рациональными требованиями и необходимостью шагать в ногу с историей, отбросив сомнения и «субъективные» нравственные принципы, которые будто бы условны, поскольку история преобразила все моральные системы и оправдала только те принципы, которые успешно выжили.
Настроение народников, особенно в 1870-е годы, справедливо можно назвать религиозным. Эта группа конспираторов и пропагандистов казалась себе и другим учредителями предписанного порядка. Чтобы в нее входить, нужно было прежде всего принести всю свою жизнь в жертву народническому движению и вообще делу революции. Но представление о диктатуре партии и ее лидеров не было частью этой доктрины и, собственно, противоречило ее общему духу. Поступки человека поверяла только его совесть. Если кто-то обещал подчиняться лидерам партии, такая присяга была тайной, да и распространялась она на специфически революционные цели, не дальше, и заканчивалась, в крайнем случае, с приходом революции, как только партия достигала своего. После революции каждый был свободен действовать в соответствии со своим образом мысли, поскольку дисциплина была временной мерой, а не целью. Народники действительно изобрели концепцию партии как группы профессиональных конспираторов, у которых нет личной жизни и все подчинено общей дисциплине, ядра «железных» революционеров, к которым примыкают сочувствующие и «перекатиполе»; но это исходило из особой ситуации, которая существовала в царской России, из необходимости и особенностей успешной конспирации, а отнюдь не из веры в иерархию как желательную или даже допустимую форму жизни. Конспираторы не оправдывали своих действий, апеллируя к всеобщим историческим процессам, определяющим их поступки, так как они верили в свободу человеческого выбора, а не в предопределенность. Позднейшая ленинская концепция революционной партии и ее диктатуры, многим обязанная этим добровольным мученикам, исходила из совершенно других принципов. Молодые люди, которые ринулись в деревню знаменитым летом 1874 года, чтобы встретить там непонимание, подозрение и даже открытую враждебность, очень удивились бы и возмутились, если бы им сказали, что они должны воспринимать себя как священное орудие истории и потому судить их должно по другому моральному кодексу, чем всех остальных людей.
Народническое движение было неудачей. «Социализм отскакивал от народа, как горох от стены», – писал известный террорист Кравчинский своей соратнице революционерке Вере Засулич в 1876 году, через два года после того, как первая волна энтузиазма спала. «Они слушают наших людей, как священника» – с уважением, без понимания, без всякого эффекта.
В столице шум, гремят витии,
Бичуя рабство, зло и ложь,
А там, во глубине России,
Что там? Бог знает… Не поймешь!
Эти строки Некрасова передают растерянность и уныние, которые последовали за провалом отдельных попыток, предпринятых идеалистами, мирными пропагандистами и единичными террористами в конце 60-х – начале 70-х, именно этих террористов с такой силой изобразил Достоевский в романе «Бесы». Правительство ловило их, ссылало, сажало в тюрьму, но их упорное нежелание поддерживать какие-либо меры, которые смягчили бы последствия дикой земельной реформы, обратило к ним сочувствие либералов. Они ощутили, что общественное мнение на их стороне, и окончательно склонились к организованному терроризму. Правда, их цели всегда оставались достаточно умеренными. Открытое письмо, с которым они обратились к новому императору в 1881 году, по тону было мягким и либеральным. «Террор, – много лет спустя сказала известная революционерка Вера Фигнер, – должен был создать возможности для развития человеческих способностей, которые бы послужили обществу». Общество, которому насилие прокладывало путь, должно было стать миролюбивым, терпимым, децентрализованным и гуманным. Принципиальным врагом все еще было государство.
Волна терроризма достигла своего пика в 1881 году, когда был убит Александр II. Желанная революция не разразилась. Революционные организации были уничтожены, и новый царь избрал политику жесточайших репрессий. В целом его поддерживало общественное мнение, ужаснувшееся убийству императора, который к тому же освободил крестьян и, как говорили, обдумывал другие либеральные реформы. Самых видных лидеров движения казнили или сослали; менее значительные бежали за границу, а Плеханов и Аксельрод, наиболее талантливые из тех, кто остался на свободе, постепенно сдвинулись в сторону марксизма. Их приводила в замешательство собственная оговорка Маркса, что Россия в принципе может избежать капиталистической стадии развития даже без помощи мировой коммунистической революции (Энгельс признавал это значительно неохотнее и с оговорками). По их мнению, Россия фактически уже вступила в стадию капитализма, а поскольку в России, как в свое время на Западе, развитие капитализма неизбежно, нет смысла отворачиваться от «железной» логики истории. Поэтому социалисты не должны сопротивляться индустриализации, а должны поощрять ее, извлекая пользу из того, что она, и только она, может воспитать армию революционеров, которая способна свергнуть капитализм, – армию растущего городского пролетариата, организованную и дисциплинированную самими условиями своего труда.
Беглый взгляд на индустриальное развитие России в 1890-е годы вроде бы подтверждал марксистский тезис. Этот тезис привлекал революционную интеллигенцию по многим причинам: он претендовал на научный анализ законов истории, которые не обойти никакому обществу; он мог доказать, что, хотя на свете много насилия, страданий и несправедливости, историческая конструкция неумолимо обнаруживает себя и все-таки будет иметь счастливый конец. Те, кто чувствовал себя виновным, принимая эксплуатацию и бедность или, во всяком случае, не делая активных (т. е. насильственных) шагов, чтобы смягчить или предотвратить их, как требовала политика народников, успокаивали совесть «научной» гарантией того, что дорога, хотя и покрытая трупами невинных жертв, непременно приведет к вратам земного рая. В соответствии с этой точкой зрения экспроприаторы превращаются в экспроприированных просто по логике развития, хотя исторический путь можно сократить и облегчить угрызения совести сознанием, что ты принадлежишь к организации, а уж тем паче – что ты все больше знаешь о рабочих и их лидерах. Это особенно привлекало тех, кто, не желая продолжать бесполезный терроризм, который просто вел в Сибирь или на эшафот, теперь нашел теоретическое оправдание для мирных занятий и духовной жизни, значительно более близкой интеллектуалам, чем бросание бомб.
Героизм, бескорыстность, личное благородство народников часто отмечалось их марксистскими оппонентами. Их считали достойными предшественниками истинно революционной партии, а Чернышевский иногда получал даже более высокий статус и наделялся интуицией гения – эмпирической и ненаучной, но инстинктивно верной, обнаруживающей истины, которые могли доказать только Маркс и Энгельс, вооруженные научным инструментарием, а его и у Чернышевского, и у других русских мыслителей того времени еще не было. Маркс и Энгельс были очень снисходительны к русским: их хвалили за результаты, поистине поразительные, если учесть непрофессионализм, удаленность от Запада и доморощенные средства. Только русские из всей Европы к 1880 году создали в своей стране подлинно революционную ситуацию; тем не менее Каутский, в частности, разъяснял, что нет замены профессиональным методам и использованию новых технологий, которые предполагает научный социализм. Народничество было списано; его признали смесью неорганизованного морального возмущения и утопических идей в сумбурном разуме крестьян-самоучек, благонамеренных университетских интеллектуалов и вообще тех, кто пал жертвой социальных бед переходного периода между концом отживающего феодализма и началом новой, капиталистической фазы в отсталой стране. Марксистские историки до сих пор склонны описывать его как движение, совмещающее неверную интерпретацию экономических фактов и социальной реальности, как благородный, но бесполезный индивидуальный терроризм и стихийные, неуправляемые крестьянские мятежи – необходимое, но жалкое начало реальной революционной деятельности, прелюдию к настоящей пьесе, шествие наивных идей и разочарований, сметенное новой революционной диалектической наукой, которую провозгласили Плеханов и Ленин.
Каковы были цели народничества? Серьезно спорили о средствах и методах, о выборе времени, но не о конечных целях. Анархизм, равенство, полноценная жизнь для всех – это признавали все. Пестрое разнообразие революционных типов, которые так хорошо и любовно описывает в своей книге Франко Вентури (якобинцы и умеренные, террористы и учителя, лавровцы и бакунинцы, «отшельники», «непокорные», «деревенщики», члены «Земли и воли» и народовольцы), – все движение как будто всецело поглощено одним мифом: что, как только монстр будет сражен, спящая царевна (русское крестьянство) очнется и без всяких дальнейших осложнений заживет долго и счастливо.
Именно об этом движении Франко Вентури написал очень полную, ясную историю, подробнейший из созданных на каком-либо языке отчет об определенной стадии русского революционного движения. Если движение не победило, если оно основывалось на ложных посылках и его легко пресекла царская полиция, стоит ли описывать жизнь и смерть партии, ее дел и идей, или все это имеет лишь исторический интерес? На этот вопрос Вентури осмотрительно, как подобает объективному историку, не дает прямого ответа. Он рассказывает историю в хронологической последовательности; объясняет, что было; описывает причины и следствия; освещает отношения различных групп народников друг с другом, а нравственные и политические суждения оставляет для других. Его работа – не апология народничества или его оппонентов. Он не осуждает и не хвалит, а только старается понять. Успешное решение этой задачи уже не нуждается в дальнейших похвалах. Возможно, кто-то еще задумается, нужно ли было так легко списывать народничество, как сделали и коммунистические, и буржуазные историки. Так ли безнадежно ошибались народники? Полностью ли заблуждались Чернышевский и Лавров – и Маркс, который их слушал?
Был ли капитализм действительно неизбежен в России? Последствия растущей индустриализации, предсказанные народниками-экономистами в 1880 году (столько же социальных и экономических страданий, как во времена промышленной революции на Западе), стали очевидными до Октябрьской революции и в особенности после нее. Можно ли было их избежать? Некоторые историки считают такой вопрос абсурдным. Что случилось, то случилось. Если мы не отрицаем причинно-следственную связь в человеческих делах, мы должны считать, что то, что произошло, могло произойти только так и не иначе; спрашивать же, что могло бы произойти, если бы ситуация была другой, – пустая игра воображения, недостойная серьезных историков. И все же этот академический вопрос не лишен актуальности. Многие страны, например Турция, Индия, некоторые государства Ближнего Востока и Латинской Америки, пошли по пути замедленной индустриализации, чтобы уменьшить вероятность мгновенного разорения отсталых областей до того, как их можно будет реконструировать, то есть сознательно предпочли этот путь форсированному маршу коллективизации, к которому в наши дни прибегли русские, а за ними китайцы. Ставят ли эти немарксистские правительства свои страны на путь, ведущий к неотвратимой гибели? Ведь они продолжают именно народнические идеи, во многом составляющие основу социалистической экономической политики.
Когда Ленин в 1917 году осуществил большевистскую революцию, избранная им техника, по крайней мере prima facie, напоминала ту, которую рекомендовали русские якобинцы, Ткачев и его последователи (переняв ее у Бланки и Буонарроти). Именно она чаще других обнаруживается у Маркса и Энгельса, во всяком случае – после 1851 года. Капитализм, свергнутый в России в 1917 году, в конце концов, не был зрелым. Он возрастал, еще не придя к власти, он боролся с оковами, надетыми на него монархией и бюрократией, как было и во Франции XVIII века. Но Ленин действовал так, как будто капиталисты уже у власти. Он поступал и говорил, словно это так, но революция победила не столько благодаря тому, что большевики взяли финансовые и промышленные центры, сколько благодаря тому, что они захватили политическую власть решительными и обученными группами профессиональных революционеров, точно так, как учил Ткачев. Если бы русский капитализм достиг той стадии, которой, в соответствии с марксистской исторической теорией, он должен был бы достичь, чтобы пролетарская революция была успешной, захват власти таким незначительным меньшинством, или просто путч, не смог бы ex hypothesi продержаться так долго. Именно это снова и снова повторял Плеханов, резко осуждая Ленина в 1917 году и не принимая его довода, что многое может быть позволено в отсталой стране, если только результаты в должное время поддержат ортодоксальные марксистские революции, успешно проведенные в индустриально развитых странах Запада.
Этого не произошло; ленинская гипотеза оказалась исторически несостоятельной; и все же большевистская революция парализована не была. Может быть, марксистская историческая теория ошибочна? Или меньшевики неверно ее поняли и скрыли сами от себя заложенные в ней антидемократические тенденции? В каком случае их выпады против Михайловского и его друзей полностью справедливы? К 1917 году на этом же был основан их собственный страх перед большевистской диктатурой. Более того, результаты Октябрьской революции оказались странно схожими с тем, что предсказывали оппоненты Ткачева как неминуемое следствие его методов: появилась элита, обладающая диктаторской властью, теоретически созданной для того, чтобы исчезнуть, когда исчезнет в ней необходимость, но, как снова и снова повторяли народники-демократы, на практике становящейся агрессивнее и сильнее и стремящейся властвовать вечно, этому диктатура сопротивляться не могла.
Народники были убеждены, что смерть крестьянской общины будет означать смерть или, во всяком случае, серьезное препятствие для свободы и равенства в России; левые социалисты-революционеры, бывшие их прямыми потомками, преобразили это в требование децентрализованного, демократического самоуправления крестьян, которое принял Ленин, когда пошел на альянс с ними в 1917 году. В определенный момент большевики отвергли эту программу и превратили ячейки обученных революционеров (возможно, самый самобытный дар народников революционной практики) в иерархическую централизованную политическую власть, которую народники твердо и горячо осуждали, пока их самих в конце концов не объявили вне закона и не истребили.
Практика коммунистического движения, как всегда с готовностью отмечал Ленин, многим обязана движению народников. Она заимствовала технику своих противников и с заметным успехом применила ее именно к тому, чему они так сопротивлялись.
Молчание в русской культуре
Обостренное самосознание – одна из самых поразительных особенностей современной русской культуры. Никогда еще ни одно культурное сообщество не было столь всецело поглощено самим собой, мыслями о собственной природе и своем особом предназначении. С 1830-х годов и до наших дней русская литература (как художественная, так и научная) посвящена по преимуществу самой России. И великие романисты, и изрядное число менее известных писателей, равно как и подавляющее большинство героев русского романа, – все они обычно озабочены не просто решением личных, семейных, сословных, профессиональных проблем, но еще и национальной миссией страны, той перспективой, которая открывается перед Россией, тем уникальным положением, которое обеспечено их принадлежностью к единственному в своем роде сообществу с неповторимыми проблемами. Эта самопоглощенность нации объединяет прозаиков и драматургов, придерживающихся самых разных взглядов. Такой фанатичный религиозный проповедник, как Достоевский, такой назидательный моралист, как Толстой, такой эстет и психолог, занятый вечными вопросами, как Тургенев (такова, во всяком случае, его репутация на Западе), такой аполитичный писатель, избегавший проповедничества, как Чехов, – для каждого из них в течение всей жизни «русский вопрос» оставался ключевым. Русские публицисты, историки, литературные критики, философы, социологи, теологи, поэты – все без исключения, от первого до последнего, неустанно бились над вопросами: «что значит быть русским?», «каково предназначение русского человека и русского общества?», «в чем заключаются русские добродетели и пороки?». Но больше всего их волновала историческая миссия России, ее роль в мировой истории, в частности – проблема ее социальной структуры: строится ли русское общество (скажем, соотношение образованного слоя и основной части населения, индустрии и сельского хозяйства) по собственным законам, как явление sui generis, или, напротив, оно сходно со структурой других стран, а может быть, даже представляет собой аномальное, недоразвитое, мертворожденное воплощение прогрессивной западной модели?
Начиная с 1880-х годов Россию наводнил мощный поток книг, статей, памфлетов, невероятно скучных для современного читателя и посвященных в большинстве своем решению следующей дилеммы: суждено ли России жить по своим собственным законам (тогда опыт других стран практически ничему не может ее научить), или, напротив, все беды России проистекают от обособленности и беспечности, от пренебрежительного отношения к тем универсальным законам, которые управляют всяким обществом. Западные писатели (даже американцы, которым также присуще обостренное национальное самосознание, хотя и в более скромных размерах) далеко не всегда мучают себя вопросом о том, будет ли предмет, о котором они размышляют в художественных произведениях, научных трудах или повседневных заметках, правильно вписан в историческую, нравственную и метафизическую перспективу. В России, по крайней мере – со второй половины XIX века, существовала противоположная тенденция. Любой серьезный писатель задумывался над тем, как соотносится его замысел с вечными вопросами, с целью человеческого существования. Долг каждого, кто считал себя достаточно проницательным и мужественным для осмысления своего индивидуального, социального и национального опыта, сводился к одному и тому же: соотнести волнующие его проблемы с тем путем, которым идет общество, прежде всего русское, потом уже – все человечество (это в том случае, если мы имеем дело с детерминистом), или соотнести свои проблемы с тем путем, которым на определенном историческом, или моральном, или метафизическом этапе своего развития общество должно следовать, – тут мы имеем дело с человеком, исходящим из представления о свободе выбора.
Некоторую ответственность за это пронизывающее русскую культуру умонастроение, несомненно, несет романтизм, преобладавший в европейской литературе и журналистике 1830–1840-х годов, особенно немецкий романтизм, акцентировавший проблему уникальной исторической миссии разных сообществ, будь то немцы, промышленники или поэты. Однако лишь в России дело зашло так далеко. Частично это объясняется тем, что период мощного воздействия романтизма на русскую культуру совпал со стремительным продвижением России в центр Европы после Наполеоновских войн. Частично российская самопоглощенность национальными проблемами связана с тем чувством унижения за собственную культуру, которое побуждало образованные слои русского общества болезненно и нетерпеливо искать своей собственной достойной роли, соотносимой, помимо всего прочего, с возраставшей политической мощью России. Ситуация обострялась тем, что европейский мир склонен был свысока смотреть на русских, побуждая их и самим смотреть на себя свысока как на грязную массу варваров, управляемых жестоким деспотом и годных только на то, чтобы уничтожать свободные и более цивилизованные народы. Определенную роль в развитии этих умонастроений могла сыграть, как считают некоторые исследователи, и та мощная потребность в телеологических и даже эсхатологических концепциях, которая свойственна всем культурам, испытавшим воздействие Византии и православия, – потребность, которую не могла удовлетворить русская церковная иерархия, страдавшая от недостатка интеллектуальных ресурсов. Умственным запросам образованных и критически настроенных молодых людей русская церковь, несомненно, не отвечала.
Каковы бы ни были, однако, истоки их умонастроений, подспудно они определялись уверенностью, что все проблемы взаимосвязаны и что должна существовать некая единая мировоззренческая система, в терминах которой эти проблемы можно описать и решить. Более того, почти все верили: отправная точка и конечная цель общественной жизни, образования, морали заключается в том, чтобы обнаружить такую систему. Отказываясь от ее поисков во имя каких-то иных задач (скажем, во имя науки или искусства, счастья или личной свободы), человек сознательно и эгоистично, руководствуясь только субъективными соображениями, совершает безответственный поступок. Столь радикальный подход характеризовал не только левое крыло русской интеллигенции, но и людей других политических взглядов: он был широко распространен как в религиозных, так и в светских, как в литературных, так и в академических кругах. Почти каждая философская система, претендовавшая на статус цельного знания и окончательные ответы, встречала пылкий прием среди всех этих жаждущих, то есть готовых к незамедлительному ответу, мыслителей, по преимуществу идеалистически настроенных, исключительно последовательных в своих логических построениях, но иногда слишком ригористичных.
Такие системы не замедлили появиться. Первой была немецкая философия, прежде всего – ее гегельянский извод, мысливший историю в качестве основной и единственной истинной науки. Правда, Гегель пренебрежительно считал славян племенами, пребывающими вне истории, и утверждал, что, подобно «вымершей» китайской цивилизации, те не играют роли в развитии мирового духа. Эту часть гегелевской философии в России просто обошли, примыслив к его схеме всемирной истории представление об особой роли славян вообще и русских в частности, опирались при этом на авторитет Шеллинга, последовательного противника Гегеля. После бешеного увлечения Шиллером, Фихте, Гегелем и другими немецкими идеалистами в России столь же ревностно уверовали во французских пророков социализма – Сен-Симона и Фурье, а также их многочисленных последователей и толкователей, выдвигавших радикальные, «научно обоснованные» концепции революционного переустройства общества. Сила воздействия французских социалистов была так велика, что некоторые их русские ученики, воспринявшие эти концепции буквально, были готовы идти на заклание. Затем следовало множество других Lebensphilosophie, вдохновленных идеями Руссо, контианским позитивизмом, дарвинизмом, неомедиевизмом, анархизмом. Все эти учения Россия восприняла в куда более радикальном ключе, чем Западная Европа. В отличие от Запада, где философские системы зачастую слабели и постепенно выдыхались в атмосфере циничного безразличия, в Российской империи они становились символом веры, за которую сражались, веры, вскормленной ненавистью к консервативной идеологии – к мистическому монархизму, славянофильской ностальгии по старине, клерикализму и подобным направлениям мысли. Кроме того, надо учитывать, что в условиях абсолютистского государства, где отвлеченные идеи и мечты легко становятся заменой реальности, принимая самые фантастические формы, эти учения определяли судьбу своих приверженцев в такой мере, которая вряд ли известна в иных культурных сообществах. Превратить историю, или логику, или одну из естественных наук (например, биологию или социологию) в теодицею, искать и в конечном итоге суметь найти в рамках этих наук ответы на мучительные нравственные и религиозные сомнения, трансформировать эти науки в светскую теологию – все это, вообще говоря, не ново в истории человечества. Но русские довели этот процесс до острого и отчаянного героического наслаждения. Встав на этот путь, они привнесли в мировой опыт то, что теперь называют полной самоотдачей.
Больше века тому назад русские критики западной цивилизации объявили европейскую философию поверхностной. Чтобы показать ее ограниченность и нравственную сухость, ссылались на характерное для западной мысли убеждение, что разные сферы человеческой деятельности могут существовать независимо друг от друга, что творческая и гражданская жизнь не нуждаются в соотнесении, что хороший химик вполне может оказаться семейным тираном и картежным шулером, а проникновенный композитор – закоснелым реакционером (это не должно, однако, волновать ни критику, ни публику). Русским людям самых разных убеждений западная философия представлялась искусственной, распадающейся на части и не выдерживающей критики в сравнении с глубиной того всеобъемлющего взгляда, согласно которому индивидуальная и социальная сферы жизни мыслились неотделимыми друг от друга и все составные части личности рассматривались в единстве – как элементы, находящиеся в постоянном взаимодействии. При оценке художника казалось невозможным отделить его творческую ипостась от гражданской. Научная честность математика автоматически ставилась под сомнение, если он изменял жене. Последовательное разграничение общественной и частной жизни не допускалось. Любая попытка оградить ту или иную сферу жизни от вторжения извне служила лишь доказательством того, как ошибочно думать, будто истинное предназначение человека не пронизывает собой все его поступки и отношения с людьми; не говоря уже об ошибочности того мнения, что у человека вообще нет особой роли и призвания. Отсюда вытекал важный вывод: в чем бы ни заключалась цель человечества – в Государстве (согласно гегелевской доктрине) или в создании ученой, артистической и деловой элиты, правящей обществом (согласно последователям Сен-Симона и Конта), в Церкви (если следовать сторонникам теократии) или в парламенте, реализующем волю нации (если принять точку зрения демократов и националистов), или, наконец, в том классе общества, который, по замыслу «истории», призван освободить себя и все человечество (позиция социалистов и коммунистов), – главная цель имела право подчинить себе абсолютно все. Сама идея самоценности человека или какой-то сферы его жизни казалась не чем иным, как попыткой ограничить, сузить, скрыть, изгнать истину, уклонившись от всемирного закона, потакая слабостям и порокам.
Вера в существование одной-единственной истинной цели, служению которой нужно подчинить всю свою жизнь, одного-единственного метода, позволяющего эту цель обнаружить, и лишь избранного круга людей, способных открыть и объяснить истину, – это древнее и хорошо известное убеждение может принимать разные формы. Но и в самом идеальном варианте оно, в сущности, тоталитарно. Даже его либеральные версии, допускающие некоторые сомнения относительно природы истины, метода ее обнаружения, статуса ее жрецов, не отменяют однажды установленной обязанности всех и каждого этой истине подчиняться. Плюрализм и независимость не признаются ценностями. Напротив того, существует презумпция единственной истины и единой нормы жизни. Допускается лишь разнообразие пороков и ошибок. Неудивительно, что семена марксистской идеологии, проникшей в Россию в 1870–1880-е годы, пали здесь на почти идеальную почву.
Марксизм включал в себя, по сути, все, что искали молодые русские revolts[352]. Опираясь на «научно обоснованную» модель истории, марксизм претендовал на открытие истинной цели жизни. Проповедуемые им нравственные и политические ценности преподносились как объективные: они вырастали не из произвольных, относительных и непредсказуемых мнений разных людей, классов или культур, но опирались на непререкаемые принципы, основанные на «объективном ходе вещей» и дарующие всем людям спасение и освобождение – в той мере, в какой люди способны эти цели осознать. Марксизм проповедовал нерасторжимое единство людей и социальных институтов. Подобно французским философам XVIII века, марксисты полагали, что все настоящие, поддающиеся решению проблемы в основном технологичны, что цели жизни – то, чего люди могли бы или хотели бы достичь, если бы знали свои истинные интересы, – определяются новой научной картиной мира. Единственная проблема в том, как достигнуть этих целей. Задача требовала не нравственных или политических, но технических решений, поисков правильных средств для достижения рационально обоснованной и универсальной цели. Иначе говоря, задача сводилась к проблеме социальной инженерии.
Известная фраза Сталина о писателях – «инженерах человеческих душ» уже своей образностью выдает марксистский источник, многое открывая по существу. Разъяснение правильных социальных задач, подкрепленное «научным» анализом общественного развития, входило в обязанности интеллектуалов. Затем через систему образования и посредством «формирования» правильных взглядов у сограждан им внушалось, что они вооружены единственно верным учением и действуют в рамках этого учения как хорошо подогнанные друг к другу части отрегулированного механизма. Показательно сравнение, использованное Лениным в книге «Государство и революция», одной из самых его известных политических деклараций: свободное общество, избавленное от классового угнетения, уподоблено фабрике или мастерской, где рабочие почти механически выполняют свои обязанности. Истоки этого образа – в технократической картине мира. Марксисты оперировали понятиями «благополучие», «порядок», «безопасность», «свобода действий» – разумеется, для тех, кто этого заслуживает, поскольку для всех «посвященных» цель была общая. Последний лозунг не предполагал свободы выбора; «свобода» предоставлялась лишь в рамках единственно правильного пути, способного привести человечество к вечному блаженству. Мы имеем дело со старой якобинской доктриной, очень древней, восходящей к Платону. Однако в предыдущие эпохи никто, пожалуй, не принимал этого учения столь непосредственно и фанатично.
В первое десятилетие после Октябрьской революции все эти принципы, служивши моральным и метафизическим обоснованием тоталитаризма, были восприняты искренне, по крайней мере – коммунистическими вождями. На этом этапе, каковы бы ни были личные просчеты Троцкого и Зиновьева, Бухарина и Молотова, чекистов или даже самого Сталина, нет никаких оснований сомневаться в искренности и глубине их убеждений. Разумеется, между ними возникало много разногласий, но споры касались не целей, а средств. Только когда дискуссии зашли слишком далеко, их заклеймили как «уклонистов». Троцкий, например, опасался, что хорошо укрепившаяся и глубоко засевшая бюрократия будет тормозить революционное движение, нуждающееся в людях темпераментных, живых, тесно связанных с текущей жизнью, бесстрашных, преданных делу мировой революции, на полдороге к которой они не остановятся. У так называемой Рабочей оппозиции возражения вызывала концентрация власти в руках Центрального комитета коммунистической партии: они требовали равенства и демократического контроля, который осуществлялся бы рабочими организациями. Правые уклонисты полагали, что быстрые темпы коллективизации приведут к дисбалансу экономики, пауперизации и серьезным разрушениям, нанеся советской экономике более значительный вред, чем мучительный процесс постепенной ликвидации крестьянской собственности, а заодно и ее защитников, равно как и других так называемых пережитков капитализма. Они были сторонниками менее стремительных темпов и более мягких мер. Шли дискуссии и о том, в какой мере можно было использовать армию в ходе индустриализации.
Самые острые споры возникали, пожалуй, на культурном фронте. Одни полагали, что любая, как тогда говорили, «пощечина» буржуазной культуре Запада, в какой угодно форме – будь то футуризм, модернизм или иного рода протест против традиционного искусства, служит eo ipso выражением большевизма, поскольку это бросает вызов западному истеблишменту, подрывая его нравственные и эстетические основы. В эти годы под флагом культурной войны с капиталистическим миром развивалось экспериментальное искусство, иногда очень смелое и интересное, иногда – лишь эксцентричное и менее ценное. На этот «культурный большевизм», получивший некоторую популярность и в Германии, коммунисты потом жестоко обрушились. Творчество талантливых писателей или художников мало привлекало членов партии, для которых коммунизм был связан с верой в особую пролетарскую культуру, творимую массами. Эксперименты авангардистов воспринимались ими лишь как чудачества или как декаданс, отражавший упадок той самой буржуазной цивилизации, которую революция и призвана уничтожить. Стоит заметить, что Ленин очень не любил все формы модернизма: его отношение к радикальным художественным экспериментам было предельно буржуазным. Но он не делал попыток навязать свои эстетические взгляды, и под опекой наркома образования Луначарского, драматурга-неудачника, писавшего в духе критического реализма, но сопротивлявшегося откровенной варваризации, острые споры об искусстве не прекращались. В партийных кружках царил разброд. Лидеры пролетарской культуры не могли прийти к соглашению: должно ли искусство создаваться отдельными талантливыми людьми, которые служат рупором пролетариата и в очищенном виде доносят до масс настроения рабочих, или, как утверждали экстремистски настроенные идеологи, творческие индивидуальности как таковые не нужны, поскольку искусство нового коллективистского сообщества должно стать коллективным. Некоторые даже полагали, что творить надо сообща, группами, а рецензии, статьи и художественные манифесты должны быть плодом совместных усилий, причем каждый автор мыслился анонимным участником общего дела, а все они несли коллективную ответственность. Словом, многие считали, что пролетарское искусство призвано рисовать обновленную жизнь, придав ей впечатляющий вид, приподняв ее над реальностью, если необходимо – создав особую социалистическую образность; другие полагали, что перед искусством стоит строго утилитарная задача – способствовать упрочению коммунистического общества, документально запечатлев создание основы социалистической экономики, уничтожение старого мира, строительство фабрик, колхозов, электростанций, тракторов, комбайнов, единообразной одежды и пищи, однотипных домов массовой застройки, книг, и главное – счастливого, не обремененного сложными проблемами, стандартного человека.
Можно привести множество подобных примеров. Существенно, что эти «программные» споры были искренними: борющиеся стороны верили в то, что говорили, и разногласия между ними можно описать как разные истолкования марксистской доктрины. Более того, споры носили до известной степени публичный характер, и, самое главное, они касались не целей, а средств. Цели мыслились общими для всех, с тех пор как враги и сомневающиеся были уничтожены либо обречены на молчание. Непримиримое отношение Коминтерна к зарубежным коммунистам и еще в большей степени к социалистам, безжалостная охота на еретиков – все это объяснялось, по-видимому, искренней верой, что и те и другие могут пойти на компромиссы, поставив под удар истину, то есть учение, на котором зиждился фундамент нового общества, или могут избрать (если уже не избрали) путь, уводящий – пусть поначалу незаметно – от сакральных целей, уже не подлежащих обсуждению.
Большевизму свойственна специфическая особенность, резко отделяющая его от родителя – западного марксизма – и позволяющая рассматривать большевизм не просто как систему политических, экономических и социальных идей, но как жизненную модель, строго обязательную, пронизывающую все сферы жизни и настолько жестко контролируемую коммунистической партией и ее Центральным комитетом, что подтверждений тому не найдется даже в самых крайних декларациях Маркса и Энгельса. Это – «царизм наоборот», мрачно и точно предсказанный Герценом, писавшим о судьбе коммунизма в России еще в начале 1850-х годов. «Царизм наоборот» обязан своим появлением непосредственно Ленину. Особые обстоятельства российской жизни, наложившие отпечаток и на самого Ленина, и на русский коммунизм, порождали потребность в религиозном учении и в мессианской перспективе – потребность, которую марксизм вполне удовлетворял. Однако Ленин привнес в марксизм требование сурового подчинения: партия, в его интерпретации, больше всего похожа на секту, строго управляемую и требующую от ее членов, чтобы те принесли в жертву самое дорогое (материальные ценности, моральные принципы, личные отношения), причем эффект достигался тем успешнее, чем яснее демонстрировалось презрение к традиционной морали. Здесь чувствуется железный фанатизм, приправленный сардоническим смехом и мстительным попранием либерального прошлого, который претил многим соратникам Ленина, но привлекал таких его учеников, как Сталин и Зиновьев.
Неотъемлемой частью этой хилиастической утопии, замаскированной под научную доктрину, стало умение игнорировать уже очевидную к началу ХХ века неспособность марксизма объяснить и предсказать социальные и экономические изменения; об этом слишком много и подробно написано, чтобы здесь повторяться. На Западе время от времени предпринимались и ортодоксальные и еретические попытки спасти марксизм от банкротства. В России, собственно говоря, в этом не было нужды. После Октябрьской революции марксизм стал там метафизикой, претендовавшей на исчерпывающее объяснение истории и упрямо пренебрегавшей всеми неудобными фактами. Чтобы согласовать их с марксистскими догмами, требовалась насильственная интерпретация прошлого, опиравшаяся на эзотерическую, не вполне внятную терминологию, на разработанную технику «диалектического» анализа и, наконец, на твердо постулированные представления о тех общественных целях людей и общества, которые должны быть достигнуты любой ценой.
В России, в отличие от Запада (это одна из самых поразительных ее особенностей), с первых дней существования нового режима, даже до официального объявления террора, те участники дискуссий, которые потерпели поражение, были обречены в лучшем случае на молчание, в худшем – на суровое наказание и уничтожение. Однако даже самые драконовские меры не прекратили дискуссий. Скорее, напротив: победа сулила огромное политическое влияние, поражение грозило смертью; само сознание, что ставки в этой борьбе так велики, воодушевляло антагонистов, обеспечивая неслыханный накал страстей. Я далек от утверждения, что все или хотя бы большинство участников опасных дискуссий были людьми исключительной честности, движимыми лишь высшими интересами; жестокие и отчаянные столкновения диктовались борьбой за выживание, за место и положение. Уже в 20-е годы стало совершенно ясно, что исповедуемые принципы отходят на второй план. Однако и отвлеченным вопросам воздавалось должное. Участники дискуссий чувствовали привычную необходимость в теоретическом оправдании своей позиции, и поскольку некоторые из них, по-видимому, искренне верили в то, что говорили, споры иной раз приобретали принципиальный характер.
Все это с очевидностью обнаружилось в борьбе на «культурном фронте», который всегда служил моделью советской жизни в самых разных ее проявлениях. В дискуссиях об искусстве принимали участие люди замечательного дарования и темперамента, и их позиция – неважно, честная или уклончивая – была позицией людей исключительных. Луначарский, Воровский, Авербах не были первоклассными публицистами, но обладали подлинно революционным красноречием. Троцкий, Бухарин и Радек как мыслители не представляют собой ничего замечательного, но один из них был человеком гениального дарования, а двое других – по меньшей мере очень одаренные агитаторы. Среди писателей и художников – тех, кто не эмигрировал или вернулся в Россию, – тоже были фигуры первого ряда. Взлет искусства обеспечил 20-м годам репутацию не только интереснейшего периода русской истории, но и замечательного культурного явления.
Всему этому Сталин внезапно положил конец, открыв новую историческую эпоху.
Идеологическая политика сталинского режима – это захватывающая тема, заслуживающая специального исследования. До сих пор еще никто не изучал ее всерьез, и я позволю себе высказать лишь некоторые мысли.
С тех пор как Сталину и его подручным стало совершенно ясно, что мировая революция откладывается, что судьба капитализма не оправдывает оптимистических пророчеств отцов-основателей марксизма, что она может сложиться иначе, чем предполагалось поначалу, Сталин сосредоточился на трех взаимосвязанных задачах. Во-первых, важно было канонизировать большевистский режим и, главное, тех его вождей, которые признавали власть Сталина. Во-вторых, необходимо было поддержать международный авторитет Советского Союза, находившегося во враждебном окружении. Для этой цели мобилизовались все средства, за исключением, разумеется, тех, что подтачивали советскую систему. И в-третьих, объявлялись несуществующими – независимо от того, согласовывалось это с марксизмом, социализмом, а также любой другой идеологией или нет – все те события и факты, происходившие дома и за рубежом, которые могли поставить под удар одну из двух предыдущих задач.
Сталин до некоторой степени сопоставим с Наполеоном. В целом это сравнение нельзя считать вполне обоснованным. Сталин не подавлял и не извращал революции, подобно Наполеону, ликвидировавшему якобинцев. У русской революции не было своего Термидора (и тем более своего Брюмера) ни в середине 20-х (как, по понятным причинам, казалось Троцкому), ни после убийства Кирова, ни после смерти Сталина. И тем не менее аналогия с Наполеоном способна кое-что прояснить. Задаться вопросом, был ли Сталин настоящим марксистом или даже верным ленинцем, это все равно что спросить, верил ли Наполеон в идеалы и идеи Французской революции. Наполеон противостоял дореволюционному режиму, и в этом смысле он был продуктом революции. Если он и примирялся с реликтами старого, то лишь из тактических соображений – на определенный период и ради конкретных выгод. Наполеон исходил из уверенности, что феодализм в Европе обречен и этот приговор истории окончателен, что династические принципы утратили обаяние и силу, что национализм – перспективная идеология, которой необходимо воспользоваться, что политика централизации и унификации наиболее приемлема на новом этапе истории. По аналогии можно сказать, что Сталин в той мере был марксистом и ленинцем, чтобы верить в обреченность капитализма, неизбежно гибнущего в силу «внутренних противоречий», хотя и вступающего то здесь, то там в смертельную борьбу за выживание, независимо от того, осознает ли он сам безнадежность этой борьбы. По-видимому, Сталин принял и другой тактический вывод марксизма: когда «противоречия» капитализма обостряются, необходимо форсировать кризисную ситуацию, если хочешь «наследовать землю». Если же «противоречия» еще не достигли критической точки, недальновидно добиваться преждевременного восстания, разумный путь для членов нового общества, то есть коммунистов, – подрывать режим изнутри, опереться на возмущение народа и разными способами использовать тактику «троянского коня». Без сомнений, Сталин верил, что общество неизбежно будет коллективистским, а не индивидуалистическим, верил в гибель религии и церкви, верил, что экономические рычаги управления играют более важную роль, чем, скажем, национальные чувства или политическая власть (поскольку экономика способна привести к самым значительным социальным изменениям или, напротив, может решительно их блокировать). В этом отношении он был, конечно, верным и даже необычайно твердым последователем Маркса. Если же спросить, был ли он марксистом в том смысле, в каком, несомненно, был им Ленин, то есть верил ли он, что после чудовищных родовых мук истории в самом деле появится новый мир, где человек получит больше свободы, чем раньше, где ему будут предоставлены более широкие возможности развивать свои способности, где не будет войн, голода и угнетения, – если так поставить вопрос, то надо признать, что Сталин вряд ли вообще утруждал себя подобными размышлениями. Сомнительно, что он задумывался над этим больше, чем император Наполеон над судьбой идеалов Французской революции. И в похвалу его умственным способностям надо сказать, что присущий Ленину утопизм не заразил Сталина, по крайней мере судя по его высказываниям.
Есть еще одно основание для сравнения его с Наполеоном. Сталин твердо усвоил истину, которую первым среди светских правителей, по-видимому, ясно понял и использовал знаменитый император Франции. Наполеон осознал, что идеологические дискуссии – споры о проблемах, внешне удаленных от политики, таких, как метафизика, логика, эстетика, – гораздо опаснее для деспотического режима, поглощенного борьбой за власть, чем вера в любые формы авторитаризма, поскольку эти споры развивают критическое мышление. Хорошо известна откровенная неприязнь, которую Наполеон питал к ideologues[353] – эмпирикам и позитивистам его эпохи. Мягкому политику и сговорчивому либералу Дестют де Траси он явно предпочитал непреклонного легитимиста и ультрамонтана Бональда, оскорблявшего его самого и отказывавшегося иметь с ним дело. Сходным образом Сталин, набрав силу и почувствовав себя достаточно уверенно, положил конец всем идеологическим спорам как таковым. Осуществил он это, объявив победу одной школы над всеми другими – с исторической точки зрения даже не важно, какую школу он выбрал. Интеллигенции – писателям, художникам, ученым – теперь предписывали не интерпретировать, не обсуждать, не анализировать, тем более не распространять марксистское учение на новые сферы жизни, но упрощать его, усвоив общепринятую точку зрения, а затем повторяя и буквально вдалбливая одну и ту же санкционированную истину, любыми средствами и по любому поводу. Сталинские установки очень похожи на те, что провозгласил Муссолини: лояльность, работа, подчинение, дисциплина. Слишком много времени было потеряно в дискуссиях – времени, которое можно потратить на принудительную индустриализацию и на формирование нового советского человека. Сама по себе идея, что может быть какая-то сфера, где позволено спорить даже по безобидным вопросам, потенциально нарушала субординацию. Начавшись в далеких от политики областях – скажем, в музыкальной критике или в языкознании, – споры могли распространиться на области, теснее связанные с политикой, и таким образом ослабить энергию экономического и военного строительства, во имя которых никакие жертвы не казались ни слишком огромными, ни чересчур безнравственными. Пресловутую марксистскую формулу – единство теории и практики – выхолостили и свели к набору цитат, призванных поддерживать официальную идеологию. Для искоренения даже самых слабых симптомов независимости среди преданных Сталину интеллектуалов (оставим сейчас в стороне уклонистов и людей дореволюционной эпохи) использовались методы, успех которых являет собой поразительный феномен, не знающий аналогов в истории подавления свободы.
В итоге мы имеем дело с пустой страницей в истории русской культуры. Если не брать в расчет естественные науки, не будет преувеличением сказать, что между 1932 годом и, скажем, 1945 или даже 1955-м в России едва ли появились оригинальная концепция или публицистическое произведение высокого уровня. То же касается и искусства; за эти годы в России не было опубликовано художественного произведения, которое заслуживало бы внимания само по себе – как эстетический феномен, а не документ эпохи или иллюстрация практиковавшегося тогда художественного метода.
Эта политика, по-видимому, объяснялась личными качествами Сталина. Полуграмотный представитель угнетенного национального меньшинства, познавший чувство унижения, исполненный ненависти ко всем, кто был умнее его, Сталин особенно ненавидел тех товарищей по партии, которые были наделены ораторским даром и любили теоретические дискуссии. Их искушенность в диалектике всегда – и до и после революции – вызывала у него чувство неполноценности. Троцкий был лишь самым высокомерным и блестящим представителем этого человеческого типа. Отношение Сталина к миру идей, к интеллектуалам и к интеллектуальной свободе представляло собой смесь страха, циничного пренебрежения и садистского юмора, свидетельствовавших о том, до какого низкого уровня он мог довести и советских и зарубежных членов своей постепенно уменьшавшейся конгрегации. После смерти Сталина эту политику защищали его наследники, утверждавшие, что когда старый мир будет разрушен и воцарится новый порядок, его создателям недосуг будет заниматься искусством, публицистикой, идеологией – все это обречено на безропотное молчание.
Стоит задуматься, каким образом, несмотря на тотальное подавление, русская интеллигенция могла сохраниться. Хотя она не одарила европейскую культуру ни одним новым словом, ей удалось сыграть выдающуюся и даже решающую роль в победе русской революции. Все революционное движение питалось кровью ее мучеников. Неудивительно, что Ленин возлагал куда больше надежд на интеллигенцию, чем Маркс, отводя ей ведущую роль в дискредитации старого порядка и поддержании нового. Однако, когда интеллигенцию удушили, никто не пикнул. Лишь из-за границы послышались разъяренные голоса, но в Советском Союзе воцарилось молчание, свидетельство полной задавленности. Запугивания, пытки, казни не вполне объясняют ситуацию в стране, где подобные методы не были в новинку, но никогда не могли предотвратить революционного движения. Приходится признать, что Сталин добился этого результата, внеся нечто новое в искусство управления людьми – совершив открытия, заслуживающие внимания каждого историка и политика.
Первое из этих открытий Атис назвал «искусственной диалектикой»[354]. Как известно, согласно философии Гегеля и Маркса, история развивается не как простая последовательность событий, но как результат конфликта двух противоборствующих сил – тезы и антитезы. Исходом конфликта оказывается столкновение и взаимоуничтожение этих сил, пиррова победа. Таким образом история поднимается на новый уровень развития, где «диалектический» процесс начинается вновь. Оставляя за скобками вопрос о том, как соотносится эта теория с разными сферами жизни, нельзя не заметить, что к революционным ситуациям она легко применима.
Хорошо известно, что главная практическая задача, встающая перед теми, кто успешно совершил крупномасштабную революцию, заключается в том, чтобы предотвратить одну из двух крайностей. Первая – назовем ее, вслед за Атисом, Сциллой – сводится к следующему: фанатики революции, видя, что создать новый мир не удается, начинают искать объяснений и козлов отпущения; обвиняют их в преступной слабости или в предательстве и возлагают ответственность на их агентов и союзников; объявляют, что революция находится в смертельной опасности, и начинают охоту на ведьм, вскоре перерастающую в террор, когда разные группы революционеров стараются уничтожить друг друга. В этой ситуации обществу грозит утрата даже того минимального социального единства, без которого оно не может существовать. Возникает угроза контрреволюции, вызванная отчаянными усилиями страдающего большинства выжить и достичь стабильности. Контрреволюционные попытки представляют собой инстинктивную реакцию на катастрофу, которая кажется неминуемой. Все это известно из опыта Великой французской революции, отчасти – Коммуны 1871 года, а также из опыта некоторых стран Восточной Европы в 1918 году. Все это могло произойти и в ходе революционных событий 1848 года, когда крайне-левые партии начали одерживать верх. Подозрения в желании начать новый этап террора падали на Троцкого.
Другая крайность, Харибда, – это унылое безразличие. Когда революционный энтузиазм постепенно угасает и люди стараются избавиться от ужасного напряжения той неестественной жизни, в которую их ввергли, они стремятся к спокойствию, комфорту и нормальному существованию. Революция либо постепенно скатывается в праздность, Schlamperei[355], моральное убожество, финансовые интриги и всеобщую коррупцию (примером чему была французская Директория), либо перерождается в обыкновенную диктатуру или олигархию (что нередко происходило в Латинской Америке и в других странах). Поэтому перед отцами революции всегда встает одна и та же проблема: избежать как Сциллы утопического фанатизма, так и Харибды бесстыдного оппортунизма.
Надо отдать должное Сталину, открывшему и применившему метод, который в определенном смысле помог решить эту исключительную проблему. Теоретически история или природа (в интерпретации Гегеля и Маркса), следуя собственному диалектическому закону развития, доводят борьбу противоположностей до критической точки, обусловливая тем самым эволюцию, движение по спирали, а не угасание. Но, поскольку история и природа сами по себе могут клониться к деградации, человек должен время от времени приходить на помощь этим безличным силам. Как только правительство замечает в обществе признаки пагубных стремлений к сытому довольству, оно должно натянуть вожжи, усилить пропаганду, увещевать, запугивать и, если необходимо, примерно наказывать столько врагов, сколько потребуется. Симулянты, любители комфорта, сомневающиеся, еретики и другие «негативные элементы» подвергаются уничтожению. Такова «теза». Оставшаяся часть населения, должным образом запуганная, подвластная страху больше, нежели надежде, вере или стремлению к выгоде, бросается выполнять предписанную сверху работу, и экономика на время вырывается вперед. Но затем элита пуристов от революции, фанатичные террористы, пламенное сердце партии – те, кто искренно убежден в священной необходимости отрезать засохшие ветви от древа государства, неизбежно заходят слишком далеко. Если этого не происходит, если они могут остановиться вовремя, значит, они не принадлежат к сорту людей, способных выполнять инквизиторские обязанности с отчаянным рвением и необходимой безжалостностью. Ханжи, полуверы, умеренные, оппортунисты, а также люди осмотрительные в суждениях или подверженные обычным человеческим чувствам, не подходят для этой цели, поскольку, как предупреждал еще Бакунин, они могут остановиться на полпути. Потом наступает момент, когда общество, слишком запуганное или истощенное, чтобы двигаться дальше, клонится к апатии, опускает руки – и производительность труда постепенно падает; в это время впору проявить милосердие. Фанатиков революции обвиняют в том, что они зашли слишком далеко, и – эта мера всегда популярна – их подвергают наказанию от имени всего народа. В зените правления Сталина это означало политические чистки и казни. Допускаются некоторые послабления в отдельных областях, например в литературной критике, поэзии или археологии, но ни в коем случае не в таких ключевых сферах, как экономика или политика. Это «антитеза». Снова легче дышится, слышны разговоры о мудрости правителей, о том, что наконец-то раскрылись их глаза на «произвол»; рождается надежда на расширение свобод; начинается оттепель. В производстве – резкий подъем, кругом восхваляют правительство за возвращение к раннему, более приемлемому идеалу, и наступает относительно счастливый период.
Все это неизбежно ведет к ослаблению напряжения: дисциплина смягчается, производительность труда снижается. Еще раз (новая теза) возникает необходимость вернуться к чистоте идеологии, упрочить фундаментальные законы, продемонстрировать приверженность власти, уничтожить паразитирующих саботажников, карьеристов, тунеядцев, иностранных агентов и врагов народа, каким-то образом сумевших проникнуть в общество. В результате – опять чистки, опять всплеск фанатизма, новый крестовый поход и опять возникает необходимость отсекать головы контрреволюционной гидре (новая антитеза).
Таким образом, общество удерживают в режиме постоянного движения, его развитие имеет зигзагообразный характер, а личная безопасность зависит от умения предугадать действия власти и вовремя приспособиться к новому курсу. Здесь все решает время. Неправильный расчет – следствие инертности, отсутствия политического чутья или, что хуже всего, наличия моральных или политических убеждений, заставляющих слишком долго оставаться на осужденной стезе, – почти всегда, а при упорстве особенно, чреват немилостью или гибелью.
Нет сомнения, что при помощи такой продуманной политики, с разной интенсивностью чередовавшей чистки с периодами послабления, ограничение свободы с ее расширением, Сталину удалось сохранить систему, отнюдь не вызывавшую одобрения тех, кто оказался в нее вовлечен. Он поддерживал ее жизнь дольше, чем это удавалось ранее, при любой другой революции. Метод Сталина подробно рассматривается в уже упомянутой статье Атиса. Хотя, как утверждает автор статьи, успех этого метода обеспечивается лишь рукой хозяина, поддерживающего порядок, сам метод пережил Сталина. Несмотря на то что разыгравшаяся между его преемниками борьба за власть нанесла системе огромный ущерб, несмотря на восстания на Западе, совершенно непредвиденные в Москве, «искусственная диалектика» продолжала работать. В течение последних пяти лет непрерывная последовательность «либеральных» и репрессивных шагов советских правителей строго сохраняется, хотя этот метод больше не поддерживается виртуозным мастерством (или личным садизмом) Сталина. Иначе говоря, гипотеза Атиса, объясняющая сталинские методы управления, прекрасно подходит и для его преемников.
Этот метод – оригинальное изобретение Сталина. Одним из его побочных последствий, тоже хорошо продуманным, была полная деморализация слоя, который в СССР до сих пор обозначают словом «интеллигенция», то есть людей, занимающихся искусством и наукой. В худшие годы царского режима все же сохранялись определенные сферы, где существовала возможность выразить себя совершенно свободно, мало того – существовала возможность промолчать. Сталин это изменил. Теперь ни одна сфера не исключена из области партийных директив; отказ говорить то, что предписано, означает неповиновение и ведет к наказанию. Для «внутренней эмиграции» необходимо, чтобы умственная деятельность и средства самовыражения оставались вне политики. Но если единственный шанс выжить определяется тем, поддерживает ли человек абсурдные политические принципы, если, более того, его умственные способности истощаются в борьбе со смертельной опасностью, поскольку он должен непрерывно маневрировать между разными позициями, если требуется признавать то одно, то другое божество, причем они непредсказуемо меняются, а малейшее невнимание, слабость или ошибка могут стоить человеку жизни – уже невозможно обдумывать собственные замыслы или скрываться в крепости своего внутреннего мира, оставаясь тайным еретиком. Сталин пошел еще дальше. Он допустил лишь минимум официальных контактов между научными учреждениями, между лабораториями и институтами и тем самым успешно предотвратил возникновение влиятельных интеллектуальных центров, пусть даже смиренных и покорных, пусть даже шарлатанских и ретроградных. Среди жрецов диалектического материализма тоже не могло появиться влиятельных фигур, поскольку теоретические проблемы обсуждать не дозволили. В Академии наук, Институте красной профессуры или в Институте имени Маркса и Энгельса занимались тем, что цитировали Маркса в поддержку деяний Сталина. Нужду в догматах как Сталин, так и другие члены Политбюро (конечно, далекие от академических штудий), восполняли сами.
Там, где нет официальной церкви или коллегии авгуров с их привилегиями и тайнами, существует относительно защищенная территория, где процветают и ортодоксальная вера, и ереси. Сталин взялся за подавление идей как таковых, за что, надо сказать, пришлось дорого заплатить. Речь идет не только о системе образования советских граждан, не только о «чистой» науке и фундаментальных исследованиях; даже прикладные науки были задавлены недостатком свободы; их наводнили авантюристы, шарлатаны и профессиональные осведомители. Подавление всех форм интеллектуальной жизни имело более глубокие последствия, чем полагали самые враждебные и пессимистично настроенные западные наблюдатели и даже зарубежные коммунисты, находящиеся за пределами советского влияния. Создание такой системы – поразительное достижение Сталина, значение которого не следует приуменьшать. Ему удалось выхолостить русское общество, некогда одно из самых талантливых и продуктивных.
Еще одно последствие созданной Сталиным системы состоит в том, что основная часть тех пороков, которые так настойчиво приписывались марксистами капитализму, в чистом виде обнаруживаются только в самом Советском Союзе. Большинству читателей, вероятно, знакомы такие расхожие марксистские понятия, как капиталистическая эксплуатация, железный закон заработной платы, превращение человека в товар, присвоение прибавочной стоимости владельцами средств производства, зависимость идеологической надстройки от экономического базиса и тому подобная коммунистическая фразеология. Но что лучше всего иллюстрируют эти понятия?
Экономическая эксплуатация – феномен, хорошо известный на Западе; но и там нет такого общества, в котором людей «эксплуатировали» бы более жестко, систематично и откровенно, чем советских рабочих. Правда, прибыль от этого в Советском Союзе идет не в пользу частного предпринимателя или капиталиста. Эксплуататор – само государство или те, кто контролирует аппарат принуждения и власти. Эта контролирующая сила – будь то партийные деятели, или бюрократы, или и то и другое вместе – больше похожа на капиталистов из марксистской мифологии, чем реальные капиталисты современного Запада. Рабочие на самом деле получают лишь такой минимум пищи, крова, одежды, развлечений и образования, чтобы они могли производить максимальное количество товаров и услуг, предусмотренных государственным планом. Остальное присваивается в качестве прибавочной стоимости намного проще и аккуратнее, чем на Западе, где нет планирования. Заработная плата регулируется самым «железным» из всех возможных законов – потребностью в продуктах. Экономическая эксплуатация осуществляется здесь в чистом виде, в «лабораторных» условиях, не мыслимых в Западной Европе или в Америке[356]. Именно в Советском Союзе официальные постановления, лозунги, идеалы меньше всего соответствуют реальности. Именно здесь поддерживаемые властью интеллектуалы – это своего рода лакеи правящей элиты (некоторые из них пассивны и инертны, другие полны циничного удовлетворения и гордости за свою изобретательность). Именно в Советском Союзе куда явственнее, чем на Западе, идеология, литература и искусство служат дымовой завесой, скрывающей жестокости, средством ухода от реальности, в которой творятся преступления, или «опиумом для народа». Именно в Советском Союзе государственная религия (ею и стал закосневший «диалектический материализм» официальных советских философов) – не что иное, как сознательно используемое оружие в борьбе с внутренним и внешним врагом; философия, уже и не претендующая на статус «объективной истины».
Материалистическая философия учит, что экономика определяет общественную жизнь и диктует взаимоотношения людей в системе производства, тогда как культурные феномены – религия, политика и мораль, юридические и политические институты, литература, искусство, естественно-научные представления – принадлежат к различным уровням «надстройки», то есть обусловлены «базисом». Эта известная, широко признанная и влиятельная доктрина едва ли в точности описывает какое-либо из существующих обществ или исторических периодов. Все попытки истолковать социальные явления, исходя из нее[357], наталкивались на огромное число исключений, объяснить которые можно было лишь с натяжками, что придает построениям аморфность и ограничивает возможности их применения. Однако в советском обществе марксистской теории беззаветно преданы. Там каждому ясно, что именно входит в базис, а что – в надстройку. Писатели и архитекторы могут не питать иллюзий по поводу того, какой уровень пирамиды они занимают. Экономические, военные и другие «кадры» должны полностью определять жизнь, поскольку таково их предназначение. Эта ситуация порождена не реальностью, а тщательной и искусной инженерией, с помощью которой Сталин и его чиновники преобразили Российскую империю.
Поразительная ирония истории: категории и понятия, придуманные для описания западного капитализма, оказались более всего пригодными для характеристики его заклятого врага. Вряд ли это лишь случайность, lusus historiae[358]. Каждому, кто изучал историю русской революции, известно, что самые глубокие разногласия большевиков и ортодоксальных марксистов – меньшевиков – сводились к вопросу о возможности немедленного перехода к социализму. Меньшевики считали, что согласно марксистской теории, как бы ее ни интерпретировали, подлинный социализм можно установить лишь в обществе, достигшем высшей ступени индустриализации, где организованный пролетариат составляет большинство и где нарастающие экономические «противоречия» толкают пролетариат на «экспроприацию экспроприаторов». В Российской империи этой стадии не достигли. Но большевики, главным образом под воздействием Троцкого, заявили, что надо не полупассивно ожидать, пока весь необходимый процесс будет завершен при капитализме (то есть буржуазной республике), оставляя рабочих не защищенными от свободной игры «истории», «природы» и т. д., а взять весь процесс под контроль пролетарской диктатуры. Тогда Россия сможет пройти через стадии, предполагаемые «диалектикой истории», в тепличных условиях, регулируемых коммунистической партией. Подразумевался знаменитый «переходный» период диктатуры пролетариата – искусственный и контролируемый эквивалент «естественного» развития капитализма на Западе. Обе дороги вели к развитому коммунизму, но русский путь казался менее болезненным, поскольку капризы «природы» исключались; люди, вооруженные марксистской теорией, могли контролировать собственную судьбу, облегчая тем самым «родовые муки» истории. Если, подобно Ленину, фанатично верить в марксизм, не имеет значения тот факт, что марксистский анализ не слишком убедительно описывает даже западный капитализм, для объяснения которого он и был создан. Если модель не соответствует фактам, нужно добиться, чтобы факты соответствовали модели. В России 1917 года капитализм был развит недостаточно, а пролетариат слаб. Однако требовалась верность диалектике истории. Если не исходить из того, что марксистская теория основана на чудовищной ошибке, то спасение невозможно представить без капиталистической фазы развития. Поэтому ее нужно синтезировать искусственно.
Иногда аналогичные попытки осуществлялись удачно, например в Японии. Но японцы руководствовались разумом и опытом. Они совершили модернизацию приемлемыми методами, не сковывая себя той или иной догматической теорией; и быстро и успешно достигли цели, прибегая, правда, к достаточно жестким средствам. Этот путь был чужд Ленину и его последователям. Верность классикам марксизма вынуждала их подчинять практические выводы требованиям теории: социальное и экономическое развитие России должно проходить через определенные стадии, порядок которых изложен Марксом. Это создало фантастические препятствия, преодолевавшиеся ценой огромных человеческих жертв. Россия должна была пройти через фазы, которые западный капитализм, согласно марксизму, прошел во времена индустриальной революции и после нее. Русскую жизнь надлежало изменить, чтобы она обрела сходство с моделью, сконструированной – правда, не слишком компетентно – для объяснения эволюции того общества, которое от русского кардинально отличалось. Россия подверглась вивисекции, чтобы соответствовать теории, начавшей свое существование с объяснения социальной эволюции. Модель, призванная лишь описывать явление, превратилась в норматив; теория, стремившаяся объяснить логику западноевропейской истории XIX века, была скопирована в Восточной Европе в ХХ веке.
Практика, основанная на ошибочных выводах, не всегда ведет к катастрофе. Например, американский конституционализм был частично вдохновлен неверным анализом британской политической жизни, предпринятым Монтескье. Ошибка Ленина обошлась, как оказалось, куда дороже. Россию ввергли в неслыханный ужас индустриализации, поскольку Маркс, нарисовав мрачную картину западного капитализма, утверждал, что ни одно общество не сможет избежать аналогичной ситуации. Установление большевистской системы в экономически отсталой стране – уникальный и чудовищный памятник власти небольшой группы энтузиастов и их неограниченного презрения к историческому опыту, памятник кровавого истолкования Единства Теории и Практики.
Столкнувшись с кризисной ситуацией и угрозой катастрофы, Ленин пошел на частичное отступление. Его преемники под воздействием событий также прибегали к компромиссам, и место ленинского утопического плана заняла реалистическая политика. Тем не менее тот огромный разрыв между замыслом и реальностью, который составляет самую суть большевистской революции, нельзя устранить без распада режима. Во всяком случае, серьезных попыток к преодолению этого разрыва никогда не предпринималось. По этой причине советское общество нельзя считать цивилизованным в привычном смысле слова.
Цель нормального общества сводится прежде всего к выживанию, а затем к удовлетворению самых, как писал Милль, «глубоких интересов человеческого рода», то есть тех минимальных потребностей, которые возникают, когда естественные желания уже реализованы. Речь идет о стремлении к самовыражению, счастью, свободе и справедливости. Правительство, в достаточной мере озабоченное реализацией этих ценностей, выполняет свои функции. Но не таковы цели советского общества и советского правительства. Революционные корни обусловили особую его организацию; оно должно принимать вызов, преодолевать трудности, одерживать победы. Подобно школе, спортивной команде и в еще большей степени – продвигающейся вперед армии, оно призвано к выполнению особых задач, разъясняемых массам его вождями. Советская жизнь задумана как борьба за достижение целей. При этом не слишком важно, в чем заключается главная цель, – ставится ли военная задача или гражданская, надо ли ликвидировать внутреннего или внешнего врага или, наконец, объяснить решение индустриальных проблем. Чтобы советское общество продолжало существовать, цели должны быть провозглашены. Независимо от того, вправе ли мы считать советских вождей заложниками собственной системы, ясно одно: они понимают, что избежать крушения режима можно, только неустанно призывая сограждан к новым свершениям. Советские лидеры, как командиры на войне, сознают, что нельзя гарантировать ни дисциплины, ни кастового духа и продолжительного существования армии как единого целого, если войска не понимают всей важности своей службы.
Возможно, лидеры Советского Союза после относительно спокойного периода втайне мечтают отказаться от бесконечных жестокостей и страданий, присущих режиму, и прийти к «нормальному» существованию. Даже если они вынашивают подобные планы, им совершенно ясно, что, по крайней мере, в ближайшем будущем все это недостижимо, поскольку советское общество создано не для счастья, не для благополучия и свободы, не для утверждения справедливости, не для сферы личных отношений, но для борьбы. Машинисты и контролеры этого огромного поезда не могут внезапно с него спрыгнуть или остановиться на полпути, ибо это чревато катастрофой. Если им суждено выжить и тем более сохранить свою мощь, они должны двигаться дальше. Смогут ли они на ходу перестроить состав и тем самым превратить поезд (да и самих себя) в нечто не столь дикое, не столь опасное для человечества и опять же для самих себя – покажет будущее. В любом случае, на это следует надеяться всем тем, кто не верит в неминуемость войны.
Между тем эта пародия на дирижизм дискредитировала традиции социального идеализма и уничтожила верную этим традициям интеллигенцию – уничтожила, возможно, более решительно, чем любые гонения. Ничто не действует на взгляды меньшинства так разрушительно, как официальное их признание самим государством, а затем неизбежное предательство и извращение. Мы имеем дело с таким случаем, когда нет ничего менее успешного, чем сам успех.
Генералиссимус Сталин и искусство властвовать
Мы живем в эпоху, когда социальные науки все с большим правом заявляют, что способны предсказывать поведение индивидуумов и социальных групп, правителей и подданных. В этом свете кажется странным, что для этих наук остается загадкой природа одного известного политического феномена, который при этом наблюдается не в каком-то неизведанном месте на планете, не в каких-то недоступных методам психологии пределах человеческой души, но в сфере, в которой, казалось бы, действуют железные законы разума и влияние на которую всякого рода случайностей, человеческих прихотей, непредсказуемых всплесков эмоций, спонтанных действий – иными словами, всего, что хоть в какой-то степени способно поколебать строгие логические связи, было раз навсегда безжалостно пресечено. Феномен, о котором я веду речь, есть так называемая генеральная линия Коммунистический партии Союза Советских Социалистических Республик. Ее резкие внезапные колебания ставят в тупик не только окружающий мир, но и граждан Советского Союза, и не только граждан Советского Союза, но и членов самой Коммунистической партии; и подчас эти колебания влекут для этих последних крайне неприятные, если не фатальные, последствия.
Коммунист, неспособный предсказывать колебания этой капризной линии, ходит по лезвию ножа. Если он не сумел предсказать, в какую сторону отклонится линия, ему в лучшем случае приходится менять все свое поведение; в худшем – он погиб. Примером может служить история нероссийских коммунистических партий, и в особенности немецкой, для которых неожиданные колебания «линии Москвы» оказывались подлинной катастрофой. Написаны целые полки книг, посвященных этому явлению, среди их авторов такие информированные экс-коммунисты, как Бармин, Чилиджа, Росси и Рут Фишер; добавим сюда и многочисленные «романы с ключом», написанные талантливыми людьми, отвернувшимися от коммунизма, такими, как Артур Кестлер, Хамфри Слейтер и Виктор Серж. Несомненно, в значительной степени эта «нестойкость» линии коммунистов как в сфере идеологии, так и в сфере конкретной экономической и внешней политики, может быть объяснена тем, что в умах этих коммунистов национальные интересы России доминируют над интересами мирового коммунизма вообще и интересами коммунистических партий других государств в частности. К тому же, поскольку советские лидеры, очевидно, не являются инопланетянами, то мы не должны исключать, что они могут ошибаться в своих расчетах, быть некомпетентны и глупы, и, наконец, что им просто может не везти. Но даже принимая во внимание влияние таких факторов, как национализм, человеческая слабость и беспорядок в человеческих взаимоотношениях, мы не можем разрешить вопрос, почему на протяжении советской истории идеология СССР так резко и так часто менялась.
Здесь, вероятно, необходим известный экскурс в марксизм, ибо мы все согласимся, что советские лидеры не только декларируют, что смотрят на события с точки зрения того или иного варианта марксизма, но порой действительно так и делают. Несомненно, склад ума у членов Политбюро скорее практический, нежели теоретический, но тем не менее фундаментальные категории, в терминах которых они воспринимают окружающий мир, и, соответственно, формируют свою политику, происходят из группы теорий, разработанных Марксом и Гегелем и затем принятых Лениным, Троцким, Сталиным, Тито и даже, хотя и в искаженной форме, фашистскими диктаторами. Этот уже довольно развитой марксизм предлагает различать два периода исторического времени – пики и провалы, то есть периоды, в которые, соответственно, «история» или находится в состоянии кипения и движется к революционному скачку, или пребывает в другом состоянии, когда все спокойно и стабильно, или, по крайней мере, кажется таковым, и это второе состояние обычно длится дольше, чем первое. И хотя, конечно, теория утверждает, что под этой гладью идет непрерывная борьба противодействующих друг другу факторов, которая в итоге ведет к неизбежному взрыву (это и есть прогресс), все же эта борьба чаще всего незаметна и протекает подспудно – революция, как говорил, цитируя «Гамлета», Маркс (и Гегель), подобно кроту, роет землю проворно, хотя внешний наблюдатель и не может этого видеть. В такие времена революционные партии должны копить силы и сплачивать свои ряды, а не сражаться в битвах. Эта теория фаз, сменяющих друг друга, известная по меньшей мере со времен Сен-Симона, на мой взгляд, есть единственное средство, с помощью которого мы можем понять политику, которую проводил в 20-е и 30-е годы Сталин.
Лучший пример того, как был положен конец «активной» политике – это смена агрессивной линии Троцкого по отношению к Китаю на более мягкую. Сталин и его помощники, судя по всему, пришли к выводу, что начался очередной «спокойный» период и что, вследствие этого, попытки вызвать или поддержать радикальную революцию «с необходимостью» обречены на провал. Напротив, наиболее яркий пример приказа «в атаку!» есть знаменитая директива 1932 года, предписывавшая немецким коммунистам обратить огонь на социал-демократов, поскольку те якобы были более опасными врагами, нежели Гитлер. Речи Сталина в этот период очень поучительны в этом смысле, из них очевидным образом следует, что, по его мнению, на смену долгому периоду спокойствия снова пришло время революции. В глазах Сталина экономический кризис 1929–1931 годов был самым ярким за всю историю человечества свидетельством того, что противоречия капиталистической системы скоро сыграют свою историческую роль и взорвут изнутри все ее прогнившее здание (кстати, ситуация того времени виделась в столь мрачном свете не одному только Сталину; весьма многочисленные интернациональные наблюдатели, относившиеся к самым различным частям политического спектра, высказывались о текущей ситуации в мире ничуть не менее красноречиво). Если же складывается «революционная ситуация», коммунистическая партия должна брать ход событий в свои руки и действовать. Закончен период, в течение которого она должна была вводить своих потенциальных противников и врагов в опасное заблуждение, что мир заключен навечно; теперь коммунистическая партия мгновенно сбрасывает с себя маску солидарности со всеми левыми и «прогрессивными» силами. Как только трещины в капиталистическом миропорядке становятся видны невооруженным глазом, это значит, что момент, когда нужно нанести удар, вот-вот настанет, и в такой ситуации надо срочно готовить выступление; образцовый пример здесь – Ленин и его подготовка Октябрьского переворота. Коммунистическая партия, смелая, сильная, единственная знающая, что ей нужно и как этого достичь, разрывает отношения (которые никогда и не были подлинными, хотя до поры были тактически необходимыми) с «аморфной» безмозглой массой случайных последователей, временных союзников и прочих «сочувствующих». Нужно совершить смелый прыжок через пропасть, чтобы захватить власть, которой одна лишь коммунистическая партия достойна – и способна – распоряжаться.
Приказ «в атаку!», отданный Сталиным в 1932 году своим немецким соратникам, был ими исполнен, что повлекло за собой их гибель и едва не повлекло за собой гибель самого Сталина, – в самом деле, всем нам известно, что, воспоследовало, и мир до сих пор платит за это страшную цену. Но даже чудовищные страдания, последовавшие за исполнением сталинского приказа, не поколебали веру коммунистов в вышеупомянутую формулу. Она остается неизменной и повторяется снова и снова: при возникновении революционной ситуации ликвидируй своих союзников, которые больше тебе не нужны, затем выступай и наноси удар; пока же такая ситуация не возникла, копи свои силы и собирай вокруг себя каких найдешь союзников, создавай народные фронты, рядись в либеральные и правозащитные одежды, и повсеместно цитируй тех из древних, кто указывал на возможность, если не на желательность, мирного сосуществования и взаимного уважения. Последнее особенно сыграет тебе на руку, поскольку, с одной стороны, скомпрометирует твоих потенциальных конкурентов, ибо заставит их зайти дальше, чем они бы хотели, к тому же они этого не заметят, и, с другой стороны, поставит в неудобное положение деятелей из правого крыла, то есть силы реакции, поскольку заставит их восстать против всех самых искренних и лучших защитников прав человека, свободы, прогресса и справедливости.
Вполне вероятно также, что эта формула в известной степени объясняет и колебания советской пропаганды после 1946 года, когда советские идеологи вдруг неожиданно принялись ждать мирового экономического кризиса и, соответственно, стали исключительно жестки и агрессивны в своих высказываниях. За этим последовало постепенное и неохотное смягчение позиции, связанное с пониманием (раньше времени выраженным советским экономистом Варгой, которого – и поделом! – «пожурили» за многознание, проявленное в неподходящий момент) того, что ожидаемый кризис не наступит так уж скоро и может наступить не тогда, когда его ждут, и быть не таким глубоким, как предполагается. В этом можно видеть источник попыток заменить в течение последних двух лет прямолинейную пропаганду (по крайней мере, ту, что идет «на экспорт»), исполненную в допотопном, бескомпромиссном марксистском тоне, поддержкой некоммунистических ценностей, таких, как стремление к миру во всем мире, а также воззваниями к национальной гордости в противовес диктату США и напоминаниями о традиционных дружеских связях между, например, Россией и Францией или, напротив, о традиционной вражде между, например, Францией и Англией. Советская опора на эту схему смены исторических периодов активности и пассивности (у которой добрая и длинная родословная, уходящая в глубь веков) не может, вероятно, служить полным объяснением перипетий идеологической политики СССР, но эту политику невозможно целиком объяснить без обращения к такой гипотезе, ибо иначе придется предполагать у теперешних правителей Советского Союза очевидно несвойственную им – при прочих равных – степень слепоты, глупости и, в конце концов, просто страсти выворачивать вещи наизнанку. И это само по себе есть довольно сильный довод в пользу истинности этой гипотезы.
Однако, каковы бы ни были теории исторического развития, определяющие политику Советского правительства по отношению к своим заграничным союзникам, едва ли они помогут нам объяснить зигзагообразные движения генеральной линии партии внутри Советского Союза. Эта особенность правительственной политики наводит на советских граждан священный ужас, особенно на представителей так называемых «общественных» профессий – писателей, художников, ученых, академиков и других интеллектуалов, – ведь их карьера и даже самая их жизнь зависят от их способности быстро и аккуратно приспосабливаться ко всем многообразным видам этого капризного создания, которое сродни разве что Протею. Принципы изменения линии не всегда, конечно, целиком остаются под покровом тайны. Разумеется, принятая в 20-е годы доктрина о построении социализма «в одной, отдельно взятой стране» не могла не изменить радикально всю политику партии. И ни один разумный наблюдатель не мог слишком сильно удивиться, когда последователи более ранней идеологии, так называемого троцкизма, а также и люди, лично связанные с изгнанным лидером, были подвергнуты чистке или в свою очередь изгнаны из страны. Точно так же не стоило удивляться тому, что после заключения пакта Молотова – Риббентропа в 1939 году последовал запрет на антинемецкие и антифашистские демонстрации. И еще менее – подъему, официально поддерживаемому, националистских и патриотических настроений в период народно-освободительной войны против Германии.
С другой стороны, никто не ожидал и не мог предсказать такие курьезные случаи, как осуждение, которому подвергся главный идеолог партии Г. Александров за то, что назвал Карла Маркса лучшим из западных мыслителей, а не, как должен был бы, человеком, совершенно отличным от них и вообще превосходящим по масштабу интеллекта всех когда-либо живших мыслителей. Высшие чины партии утверждали, что, назвав Маркса философом, Александров был непочтителен к нему, чуть ли не нанес ему оскорбление. Говорили, что назвать Маркса лучшим из философов – то же самое, что назвать Галилея наиболее мудрым из астрологов или человека – наиболее одаренной из обезьян. Точно так же никто не предсказывал и, вероятно, не мог предсказать взрыв ненависти по отношению к старшему поколению интеллектуалов, по большей части писателей и художников еврейского происхождения (и это после массовых убийств и пыток евреев нацистами), которых окрестили безродными космополитами и мелкими приспешниками сионизма, да и последовавший за этим роспуск Еврейского антифашистского комитета. И далее, никому из филологов, кто столько лет подписывался под вычурными (но официально признанными) доктринами академика Марра, нельзя поставить в вину неспособность предсказать его падение. Кому могло прийти в голову, что священному обряду жертвоприношения интеллекта и знания на алтарь долга по отношению к стране и партии уготована столь необычная судьба – личное вмешательство генералиссимуса, который ex cathedra возвестил миру истину о взаимоотношениях языков, диалектов и социального устройства?
Любой, кто имел дело с советскими писателями или журналистами, или даже просто с представителями Советского Союза за рубежом, знает необыкновенную чуткость уха этих людей по отношению к малейшим изменениям в тоне партийной политики. И однако же эта чуткость в итоге не приносит им никакой пользы, ибо ее неизменная спутница – беспомощное незнание того, куда в следующий момент пойдет «генеральная линия». Конечно, по поводу каждого конкретного «изгиба» строятся бесконечные гипотезы, иные фривольного свойства, иные серьезные; в советской России такие гипотезы обычно отдают черным юмором, типично советским юмором висельников, и выражаются в горьких, на весь мир знаменитых афоризмах. Но пока не выдвигалось ни одного общего положения, которое бы объяснило все наличные факты. Поскольку же, в конце концов, маловероятно, что такие холодные и расчетливые люди, как правители Советского Союза, оставляют определение центральной линии своей политики, от которой все зависит и от которой все отсчитывается, на волю случая или наития, мы едва ли скажем, что пытаться выдвинуть гипотезу, которая бы объяснила многое в этой загадочной ситуации, есть пустая трата времени.
Основой нашей теории служит соглашение о том, что существуют две опасности, угрожающие любому режиму, установленному в результате революции.
Первая опасность состоит в том, что процесс может зайти слишком далеко, то есть чо революционеры в пылу борьбы уничтожат слишком многое, и в особенности тех индивидуумов, от таланта которых в конечном счете зависит успех самой революции и удержание ее достижений. Еще ни одна революция не достигала целей, которые ставили перед собой наиболее яростные ее сторонники, ибо самыми лучшими революционерами становятся люди, которые понимают историю чересчур упрощенно. После того как опьянение победой прошло, настроение людей меняется на мрачное, среди победителей начинает преобладать чувство несбывшихся надежд и презрения друг к другу, поскольку самые святые цели оказываются недостигнутыми, зло все еще бродит по земле, и кто-то должен за это ответить, кто-то должен понести наказание за недостаток рвения, за безразличие, за саботаж и даже, возможно, за предательство. И вот начинаются судебные процессы, людям выносят приговоры и потом казнят за то, что они были неспособны совершить нечто, что, по всей вероятности, никогда и никем не могло в реальности быть совершено; люди оказываются за решеткой и на эшафоте за то, что оказались вовлечены в события, за которые никто не несет ответа, которые невозможно было предотвратить, наступления которых наиболее ясно мыслящие и трезвые (как оказывается впоследствии) наблюдатели всегда до той или иной степени ожидали. Но процессы и казни не могут исправить положение. Презрение уступает место гневу, власти прибегают к террору, число казней увеличивается. Нет никаких причин, по которым этот процесс должен закончиться сам по себе, без вмешательства внешних сил, так как никакое число жертв не может искупить преступление, которое никто не совершал; можно пролить реки крови, но это не поможет вывести страну из кризиса, причины которого кроются в общей неспособности – вероятно, неизбежной – понимать ход событий. Но как только страна ступила на путь взаимных подозрений и обвинений, террора и контртеррора, пути назад уже нет – вся структура общества рушится, как карточный домик, в вихре бешеной охоты на ведьм, когда никто не может надеяться на спасение. Каждый школьник знает, как дважды два, чем закончилась Великая французская революция в 1794 году.
Вторая опасность – прямо противоположного свойства и часто является прямым следствием первой. Когда исчерпан изначальный революционный импульс, энтузиазм ослабевает, сил становится меньше, мотивы становятся менее сильными и менее чистыми, появляется отвращение к героизму, мученичеству, уничтожению жизни и собственности, старые привычки возвращаются на свои места, и то, что начиналось как смелый и блестящий эксперимент, разваливается на части и погибает под грузом коррупции и междоусобных дрязг. Именно это и происходило во Франции в период Директории, и такое положение вещей означало конец революционного периода во многих других странах. Именно это положение вещей устанавливается, кажется, с неизбежностью во всех странах Латинской Америки после очередного романтического восстания.
Стало быть, избежать этих противоположных опасностей – то есть проплыть между Сциллой самоуничтожающего якобинского фанатизма и Харибдой постреволюционной апатии и цинизма – главная задача любого революционного лидера, который не хочет видеть ни то, как его режим сгорит в пламени, которое он сам разжег, ни то, как все вернется на круги своя, к привычному ходу событий, который на недолгое время был нарушен революцией. Но именно здесь марксисты оказываются в любопытном затруднительном положении. Ведь согласно той части марксистской доктрины, которая заимствована у Гегеля, мир – все живое и неживое – находится в состоянии перманентного внутреннего конфликта, который безжалостно ведет его от одного кризиса к другому, в результате чего борьба всякий раз переходит на новую, более высокую стадию, на которой имеются новые противоречия. Таким образом, сама диалектика – ибо именно так называется этот процесс – должна, казалось бы, гарантировать жизнеспособность любого истинно революционного движения. Ибо если диалектика «неизбежно присуща самой природе вещей» и нельзя ни остановить ее действие, ни как-то ее перехитрить, то, значит, дорога, которой идут постреволюционные режимы, должна – не может не – подчиняться ее, диалектики, законам. И раз Великая французская революция вспыхнула в силу этих законов, то и в пропасть и упадок Директории она пришла в силу этих же законов, и, что еще хуже, за ней, в соответствии, видимо, все с теми же законами, воспоследовали Империя и Реставрация. Но какая бы степень детерминизма ни содержалась бы, как полагают, в марксистской доктрине исторического материализма – а доктрина эта отнюдь не так прозрачна, как в трудах Гегеля, так и в трудах Маркса, а в последних работах Энгельса она и вовсе становится темной, – Сталин, кажется, решил, что он сумеет избежать мрачной судьбы, согласно теории уготованной его режиму, как она была уготована всем предыдущим революционным режимам. Хотя человек и не может противостоять величественным принципам, на которых основан мир, или отрицать их, все же История (если судить по тому, что происходило) сама по себе не дает гарантии, что те особенности русской революции, в желательности которых более всего уверены Сталин и его партия, являются жизнеспособными. На законы природы, разумеется, в целом можно полагаться, но все же иногда и она неожиданно совершает какой-нибудь кульбит; и, таким образом, вероятно, будет небесполезно несколько подправить ее, чтобы ход событий стал еще более регулярным и предсказуемым. Человек приложит свои усилия, чтобы помочь Вселенной выполнять с еще большей точностью ее собственные «внутренние законы».
Соответственно Сталин использовал оригинальное средство, совершенно в духе нашего изобретательного века, и особенно в духе создания искусственных подобий природных явлений. Как одни производили искусственную резину, а другие – механический мозг, так он создал искусственную диалектику, последствия применения которой экспериментатор может сам в значительной степени предсказывать и контролировать. Вместо того чтобы позволять истории и далее по своей собственной воле накручивать один за другим витки диалектической спирали, Сталин решил взять этот процесс в свои руки. Проблема состояла в том, чтобы найти среднее между «диалектическими противоположностями» апатии и фанатизма[360]. Как только такое среднее найдено, остается только вести политику таким образом, чтобы очень аккуратно и вовремя и в нужной степени применить силу, чтобы передвинуть политический и общественный маятник в любое нужное в данный момент положение.
Давайте посмотрим, как с помощью этой гипотезы можно объяснить ряд особенностей советской политики времен начала Второй мировой войны. В 1941 году, когда судьба советской системы висела на волоске, была дана полная свобода развитию патриотических чувств. Власти как бы открыли предохранительный клапан, через который вырвались наружу подавляемые в течение двух предыдущих десятилетий чаяния. Лидеры партии ясно понимали, что этот национальный подъем есть наиболее сильный и, более того, единственный психологический фактор, способный стимулировать сопротивление врагу. Но этот процесс был, разумеется, несовместим с проведением коммунистической политики давления в том же масштабе, в каком она проводилась до войны; война была выиграна скорее в патриотическом, чем в идеологическом порыве. Стало ощущаться некоторое ослабление политических пут. Писатели писали более свободно; отношение к иностранцам, по крайней мере представителям стран-союзников, стало на некоторое время чуть менее подозрительным. Старомодная, почти забытая великорусская риторика и поклонение национальным героям снова стали популярными. Но потом русские солдаты, вернувшиеся с победой из других стран и наполненные добрыми чувствами по отношению к иностранным обычаям и свободам (как это часто случалось после европейских кампаний), снова стали давать власти поводы для беспокойства, ведь, в конце концов, восстание декабристов в 1825 году произошло при сходных обстоятельствах. Властям стало ясно, что нужно срочно сделать нации мощную прививку коммунистической доктрины – единственного, по большому счету, средства, которое скрепляло воедино этнически разнородные народы СССР. Все вернувшиеся солдаты – как победители, так и освобожденные в Германии и других странах пленные, да и просто люди, которые контактировали с последними на родине, – нуждались в жестком контроле и присмотре, если власти не хотели, чтобы тут и там стали возникать центры сопротивления. Если быстро не произвести такую реиндоктринацию, то все устройство советской жизни, основанное, как во всех тоталитарных государствах, на железной дисциплине и постоянном напряжении, начнет вскоре трещать по швам, и это будет означать начало конца. И вот в конце 1945 года раздался призыв к порядку. Политика поощрения национализма была внезапно отставлена. Всем напомнили об их марксистском долге. О самых ярких представителях различных национальностей стали говорить, что они зашли слишком далеко в прославлении своего местного прошлого; сила, с которой им дали по рукам, развеяла все иллюзии. Создание местной истории было объявлено вне закона. Над страной снова простерла совиные крыла ортодоксальная марксистская идеология. Партии было приказано обличить и изгнать из своих рядов оппортунистов и прочую сволочь, которая прокралась в нее в смутное время войны. Охота на ведьм началась заново (хотя и не в ужасающих масштабах 1937–1938 годов).
Опасность этого хода состоит в том, что власть на время отдается в руки фанатиков, которые своей единственной целью видят неустанное очищение церкви путем отсечения всех противных ей ветвей – то есть на самом деле любых, которые подают какие бы то ни было признаки роста. Деятельность таких людей может быть эффективной лишь тогда, когда в их центре стоят искренние фанатики; но если это оказывается так, то они неизбежно заходят слишком далеко. Расправившись с великими и малыми диссидентами, инквизиторы по необходимости продолжают свой священный поход, пока не вторгаются в конце концов в жизнь и деятельность самих лидеров партии. В этот момент их нужно мгновенно остановить, или вся система взорвется изнутри. Такой шаг, к тому же, еще и выгоден, ведь его поддержат широкие ряды как партийных функционеров, так и обычных бюрократов, не говоря уже о насмерть перепуганных простых гражданах. Могучая рука появляется из поднебесья и останавливает инквизиторов. Кремль услышал крик народа, мольбу своих чад и не позволит более своим чересчур резвым слугам разрывать их на мелкие части. Потенциальные жертвы вздохнут спокойно и будут выражать вполне искреннюю признательность. Вера в праведность, мудрость и всевидящее око лидера, пошатнувшаяся во время бойни, снова восстановится.
Нечто подобное произошло после великой чистки 1937–1939 годов и снова, но в более слабой форме, после 1947-го, когда идеологические преследования несколько ослабли и сменились периодом национального самолюбования и бешеной атакой на всякие проявления иностранного влияния, прошлого и настоящего. Каким бы гротескным этот ультрашовинизм ни виделся из-за границы и каким бы пагубным он ни был для людей с более широкими культурными горизонтами, которые все еще водились в Советском Союзе, народными массами он был принят вполне благосклонно (когда и где националистская пропаганда была непопулярна?); он остановил руку марксистов-инквизиторов и дал возможность дышать национальным традициям. В этом случае маятник качнули в сторону великорусской гордости и самолюбования. Но как прежние идеологические чистки зашли слишком далеко, так и эта реакция, в свою очередь, перешла отведенные ей границы.
Советское правительство всегда хотело сохранять хотя бы минимальную степень психического здоровья по крайней мере у элиты, на которую оно опирается; таким образом, любое резкое движение маятника должно рано или поздно подвергнуться коррекции. В нормальных обществах изменение мнения, спонтанное или специально простимулировнное, не происходит на пустом месте. Оно встречает сопротивление установившихся привычек и традиций и в известной мере проглатывается или выхолащивается в переплетении бесчисленных потоков, возникающих от взаимодействия институциональных воздействий и относительно неконтролируемых тенденций в мыслях и чувствах, которые обычны в свободном обществе. Но в Советском Союзе этот случайный фактор практически отсутствует, именно по той причине, что партия и государство заняты уничтожением малейших проявлений свободомыслия. Таким образом, мы имеем своего рода вакуум, в котором любая искусственно стимулируемая тенденция (а в СССР практически не встречаются другие) доводится до логического конца, достигает абсурдных масштабов и делается в конце концов просто смешной – причем не только в глазах внешнего мира, но и внутри самого Советского Союза. Именно в этот момент маятник нужно качнуть обратно, но применяемые для этого средства оказываются ничуть не менее искусственными. Примером может служить ситуация, сложившаяся, когда националистско-ксенофобская кампания достигла пределов, практически идентичных тем, что были достигнуты еще в царские времена в продвижении политики «русификации». Последние обвинения в адрес «безродных космополитов» исполнены в стиле, практически неотличимом от стиля реакционных, антисемитских и антилиберальных изданий и полиции времен репрессий, последовавших после революции 1905 года. Было необходимо принять какие-то меры, чтобы восстановить единство советских граждан. Однако, партия, ex hypothesi, непогрешима; ошибки могут возникать лишь тогда, когда ее директивы были неверно поняты или неверно применены. И, разумеется, никакое серьезное изменение базиса марксистской теории невозможно в рамках системы, имеющей эту самую теорию в качестве своей главной догмы. Таким образом, в таких центральных и основополагающих областях, как политическая теория или даже философия, невозможна прямая попытка изменить – и тем более отменить – марксистские принципы, ибо слишком велика опасность, что в умах истинно верующих после стольких лет жизни в железном корсаже поселятся беспокойство и смятение. Система, на службе которой стоят несколько сотен тысяч профессиональных агитаторов и которая должна выражать свои положения на языке, доступном даже детям и неграмотным, не может позволить себе, чтобы имелись хоть малейшие сомнения или двусмысленности в интерпретации ее центральных истин. Даже сам Сталин не может поколебать идеологический фундамент без того, чтобы не поставить под удар всю систему в целом.
Это значит, что для идеологических маневров, необходимых в ситуациях, когда что-то выходит из-под контроля, должна выбираться более безопасная почва. Музыка, поэзия, история, даже право суть периферийные области, в рамках которых возможно провозглашать доктрины, изменяющие генеральную линию, не опасаясь того, что будут потревожены центральные, жизненно важные регионы. Тайный смысл этих публичных заявлений мгновенно ухватывается натренированными (сколько уже раз такое было) ушами интеллектуалов, работающих в других, порой очень удаленных областях. Филология довольно-таки далека от центра, и, стало быть, выступать в ней довольно безопасно. Поэтому, вероятно, Сталин и выбрал теорию языка, чтобы объявить, что трубный глас, призывающий к идеологической непорочности, более не будет звучать. Лишь профанам такой выбор мог показаться причудливым. Едва только был отдан приказ об ослаблении линии в лингвистике, как сразу же и другие специалисты в относительно «неполитизированных» областях знания начали в надежде задаваться вопросом, а не может ли и в их беспросветный мир заглянуть ненадолго солнце – пусть хоть на мгновение, ну или хотя бы не станет ли и им в этом мире легче дышать. Индульгенция лингвистам означала, что и музыканты, и акробаты, и клоуны, и математики, и детские писатели, и даже физики и химики могут чуть-чуть расправить плечи. Даже историки подняли головы; некий автор писал летом 1951 года в одном советском историческом журнале, что, поскольку Сталин ничего не сказал об исторической науке, не может ли и она, подобно лингвистике, быть освобождена от марксистской «надстройки» и претендовать на свои собственные «объективность» и внутренние принципы, наличие которых у искусства и юриспруденции Сталин так твердо отрицал? Физики, химики и даже гонимые генетики, чьи изыскания проходят, к несчастью, столь близко от сердца исторической диалектики, могут в настоящее время позволить себе перевести дух; очевидно, объяснение капризного поведения «генеральной линии» их исследований лежит скорее во внутриполитической, чем в метафизической плоскости, и едва ли может быть отнесено на счет неизлечимой склонности к той или иной форме философского или научного «материализма», как склонны считать их наивные западные коллеги в своих бесплодных попытках понять, как устроена советская наука.
Звучащие сейчас мотивы «мирного сосуществования» безошибочно указывают на то, в какую сторону поворачивает идеологическая машина после провала в Корее; и отсюда – слабые патетические намеки ученых, чья любовь к предмету собственных занятий еще не совсем угасла, на «западные» ценности. И если эти исполненные страха выступления не получают резкого отпора, те, кто выступает, могут ожидать наступления периода относительной толерантности. Но более опытные знают, что этот период не может продлиться долго. Уже сейчас есть симптомы, говорящие о том, что вожжи отпустили слишком сильно – слишком сильно для системы, которая в принципе не может работать, если все гайки не закручены намертво. И вот снова звучат призывы к единству, чистоте, ортодоксальности, начинается устранение подозрительных[361]; цикл снова повторяется.
Но все же кое-что зависит от того, с какой силой качают маятник: одно из последствий широкомасштабного террора (такого, какой был в конце 30-х при Ежове) то, что население оказывается настолько запугано, что мнений уже больше не высказывает. Никто ни с кем не желает говорить на темы, хотя бы отдаленно связанные с «опасными», иначе как в стереотипных лояльных по отношению к режиму клише, и даже в этом случае лишь изредка, так как никто не может быть уверен, что ему известен «сегодняшний пароль». Со страху все молчат, и эта тишина таит в себе свои опасности для власти. Во-первых, хотя крупномасштабный террор и приводит к тому, что устанавливается железная дисциплина и все приказы исполняются в точности, все же можно настолько перепугать народ, что, при дальнейшем продолжении репрессий, люди потеряют способность к действию, их разобьет паралич воли, своего рода истощающая депрессия, которая замедляет жизненные процессы и очевидным образом снижает экономическую продуктивность. Во-вторых, если люди молчат, огромная армия агентов внутренней разведки, стоящая на вооружении у правительства, теряет возможность докладывать, а что же собственно происходит у людей в головах и как они будут реагировать на те или иные действия власти. Когда поверхность воды спокойна и непрозрачна, это может означать, что на большой глубине течет мощный поток. Как говорится в известной русской пословице, «в тихом омуте черти водятся». Правительство не может обходиться без пусть скудных, но сведений о том, что думает народ. Хотя и нельзя говорить, что в Советском Союзе существует общественное мнение в обычном смысле слова, правители тем не менее должны знать о настроениях подданных, пусть в наиболее примитивном, бихевиористском смысле, подобно тому, как фермер, разводящий тех или иных животных, не может обойтись без способности предсказывать, в известных пределах, как будут себя вести его подопечные. Таким образом, необходимо делать что-то, что бы стимулировало население к выражению своих настроений; и вот снимаются запреты, начинают говорить о «коммунистической самокритике», «товарищеских дискуссиях», то есть о чем-то очень похожем на публичные диспуты. И вот индивидуумы и группы индивидуумов открывают свои карты – и некоторые неизбежно предают себя, – и тогда власть узнает, кто на чьей стороне и кого ей нужно устранить, если она не хочет столкнуться с ситуацией, когда «генеральная линия» станет неуправляемой. И снова начинает работать гильотина, и те, кто вчера говорил, замолкают. Заключенных этой мрачной тюрьмы, заглядевшихся на мираж более легкой жизни, снова отправляют на каторжные работы и запрещают заниматься чем бы то ни было, что отвлекает их от главного – великих индустриальных подвигов, которые совершаются только при полной концентрации внимания и при полной, без малейшего остатка, самоотдаче. Общение с внешним миром практически прекращается. Прессе напоминают о ее первейшем долге – воспитании духа народа, бесконечном проповедовании ясных и четких способов мыслить и вести себя. Когда же такое положение вещей становится невыносимым даже для советских граждан, «генеральная линия» снова делает «шаг влево», и на очень короткое время (конец которого – самый опасный момент) жизнь снова становится несколько более разнообразной.
Все вышеописанное и есть «искусственная диалектика», наиболее оригинальное изобретение генералиссимуса Сталина, его наибольшее достижение в искусстве властвовать, даже более значимое, чем доктрина «социализма в одной, отдельно взятой стране». Это инструмент, предоставляющий возможность «корректировать» случайности природы и истории и сохранять внутренний импульс – вечное напряжение – состояние постоянной мобилизации, как перед войной, – который только и делает возможным продолжение столь противоестественного существования. Инструмент обеспечивает это тем, что не позволяет системе ни стать слишком слабой и неэффективной, ни перейти дозволенные границы и разрушить саму себя. Это не что иное, как ироническая обработка идеи «перманентной революции» Троцкого или его же формулы «ни мира, ни войны», и именно это заставляет советскую систему двигаться вперед зигзагами и создавать для советских граждан условия постоянного напряжения, которое спасает их на резких поворотах, когда та или иная политика начинает давать недостаточно хорошие или вовсе не желательные результаты.
Естественно, необходимость управлять народом именно таким образом – не единственный фактор, отвечающий за вид, который в тот или иной момент принимает «генеральная линия». Ее определяют и внешнеполитическая ситуация, и вопросы национальной безопасности, и внутриэкономические и социальные нужды, и т. д. – то есть все силы, которые играют важную роль в любом организованном в систему обществе и которые не могут, в частности, не влиять и на советскую политику, хотя и несколько особенным образом. Советский Союз не есть марксистская система, функционирующая в полном вакууме, и она не свободна от действия законов психологии и экономики. Напротив, советская система заявляет, что понимает эти законы яснее и точнее, и строит свою политику более осознанно и в большем соответствии с открытиями естественных наук, чем это делают «реакционные» политики, обреченные на то, чтобы пасть жертвами своих же собственных «внутренних противоречий». Что же в таком случае делает поведение Советского Союза столь загадочным и непредсказуемым для западных наблюдателей, будь это действующие политики или студенты-политологи? Возможно, в этом виновата известная неспособность Запада осознать ту важность следования этому зигзагообразному пути, которое, как полагают создатели Советского Союза, одно обеспечивает их внутреннюю безопасность и сохранение власти у них в руках. Эта техника определения «генеральной линии», лишь в соответствии с которой должны использоваться все средства, доступные Советскому государству и коммунистической партии внутри страны и за ее пределами, есть совершенно новое изобретение, крайне оригинальное и важное. Ее успешное применение невозможно без контроля над всеми природными и человеческими ресурсами и над общественным мнением, способности установить в масштабах всей страны ультражесткую дисциплину; и, в наибольшей степени, без чувства момента, развить которое под силу лишь исключительно умелым людям, возможно даже одним гениям, – и этим чувством в первую голову должен обладать сам верховный диктатор. И поскольку безо всего этого применение указанной техники невозможно – поскольку истинно правильная «генеральная линия» должна аккуратно уклоняться от неизбежных и взаимно противоположных крайностей левого и правого «уклона» (крайностей, из которых она, по правилу гегелевского синтеза, состоит и которые, воплощенные в индивидуумах и их точках зрения, она уничтожает), – то проведение такой политики не может быть механическим. Истинно правильная «генеральная линия» есть искусственная конструкция, и ее функционирование целиком зависит от решений человека, ею управляющего; и по этой причине ее будущее нельзя назвать полностью гарантированным. Пока у руля находится человек, владеющий искусством властвовать в той же мере, что и Сталин, изменения «линии», остающиеся не замеченными многими людьми как в Советском Союзе, так и за его пределами, отнюдь не являются совершенно непредсказуемыми. Можно лишь гадать, какова же будет судьба этой системы, когда Сталин уйдет (независимо от того, ввяжется Советский Союз в крупномасштабную войну или нет), можно смотреть на будущее этой системы со страхом или с надеждой, но предсказать его нельзя. Ибо очевидно, что эта система не самодвижущаяся, не саморегулирующаяся, она ни в каком смысле не может быть названа автоматической. Менее умелый, опытный и уверенный в себе правитель вполне может привести страну к катастрофе таких масштабов, с которыми при обычных формах правления человеческие общества сталкиваются крайне редко. Смогут ли наследники Сталина продемонстрировать, что обладают достаточными способностями пользоваться этим новым инструментом, требующим столь редкой комбинации в одном человеке воображения и практического склада ума? Или они целиком от этого инструмента откажутся, и если да, то сделают ли они это сразу или постепенно? Или они окажутся неспособны контролировать ситуацию и падут жертвами этого механизма, слишком сложно устроенного для не слишком способных людей, – механизма, сама эффективность которого в руках старшего, более способного поколения вырастила таких правителей и подданных, что катастрофа в случае смены руководителя оказывается неизбежной? Этого мы не можем сказать; ясно лишь то, что смерть генералиссимуса Сталина рано или поздно спровоцирует кризис в Советском Союзе – кризис, который может оказаться хуже, чем тот, что разразился после смерти Ленина, ибо к многочисленным проблемам приспособления к новой власти, которые особенно остро стоят при всякой диктатуре, добавятся еще и острейшие проблемы контроля над тонким механизмом управления, разработанным Сталиным, которым могут пользоваться лишь величайшие политические гении[362], но от которого слишком опасно отказываться и который ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.
Так же относительно ясно и следующее: те, кто полагают, что такая безжалостная система подавления слишком жестока, чтобы существовать долго, обманывают себя. Советская система, не являясь самовоспроизводящейся и вечной, не демонстрирует никаких признаков саморазрушительности. Власть может быть жестокой, циничной и совершенно развращенной; но лишь моральный оптимизм, основанный скорее на яростном отвращении и религиозной вере, чем на эмпирическом наблюдении и историческом опыте, может заставлять иных советологов утверждать, что подобная жестокость скоро проест насквозь тех, кто за ней стоит, сделает их неспособными удерживать власть и тем самым разрушит самое себя. Подданные, пассивное, перепуганное стадо, могут быть также глубоко циничны на свой манер и могут позволять терзать себя все сильнее и сильнее, но пока «генеральная линия» продолжает свое зигзагообразное развитие и регулярно чередует периоды, в продолжение которых они могут перевести дух или должны работать как волы, люди будут способны, несмотря на все страдания, находить свою жизнь пусть почти невыносимой, но все же лишь почти, и поэтому продолжать существовать и даже получать от этого удовольствие. Жителям стран Запада трудно себе представить, в каких условиях люди в Восточной Европе и в Советском Союзе (и даже, если на то пошло, в Китае и в Индии) не просто выживают, но, наблюдая своих собратьев в столь же плачевном положении и не зная ничего о других возможных формах жизни, которые скрывает от них Железный Занавес, и тем самым не имея пищи для воображения, даже приспосабливаются к этим условиям, начинают считать их нормальными и строят планы на будущее, как солдаты во время войны, которой не видно конца, или тюремные узники, или моряки, оказавшиеся на необитаемом острове. Все это может казаться невыносимым среднему жителю цивилизованной страны, но по той причине, что общее страдание рождает если не свободу, то равенство и братство, люди могут жить своей жизнью – с моментами веселья и душевного подъема, и даже счастья – в самых ужасающих и тяжелых условиях.
Следует также помнить о том, что искусство управления «генеральной линией» в том и заключается, чтобы не допустить возникновения такой ситуации, когда смерть – через убийство или самоубийство – становится, вследствие постоянных лишений, предпочтительной в масштабах всей нации. Если гражданам Советского Союза и заказана та степень свободы или счастья, которая бы сделала их слишком своенравными личностями и неэффективными работниками, все же их нельзя доводить до состояния отчаяния, паники или безразличия, ибо в результате они бы мало чем отличались от паралитиков. Зигзагообразные движения «генеральной линии» задуманы с целью избежать этих самых крайностей. Поэтому, коль скоро правители Советского Союза сохранят искусство управления своей государственной машиной и свои источники информации о «настроении подданных» – тайную полицию, наступления внутреннего коллапса (или даже атрофии воли и интеллекта у самих правителей вследствие деморализующих эффектов деспотизма и безжалостного манипулирования человеческими существами) едва ли следует ожидать. Немногие государства пали от одного лишь гниения изнутри, в большинстве случаев потребовалось также внешнее вмешательство. Поскольку же в данный момент правители Советского Союза явно находятся в своем уме, мы можем говорить, что эксперимент по созданию перманентно милитаризованной нации отнюдь еще не достиг своей высшей точки и не достигнет еще довольно много лет. Хотя на пути этой машины встречаются и трудности, и опасности, не стоит недооценивать ее способности к успехам и выживанию. Ее будущее может казаться туманным и даже шатким; она может совершать ошибки, ей могут угрожать катастрофы, она может постепенно или внезапно меняться; но пока лучшие человеческие качества не возобладали среди ее граждан, она не обречена. Физическое и нервное напряжение, какого требует от людей эта система – и все лишь ради одной поддержки существования режима, – и износ, которому люди в ней подвергаются, имеют поистине ужасающие масштабы; ни одно западное общество этого не потерпело бы. Но отметим, что те хрупкие и рафинированные существа, которыми Россия до 1917 года была не менее богата, чем Запад, давным-давно уничтожены. Чтобы они снова появились, потребуются десятилетия (хотя они, со всей очевидностью, появятся, но к тому времени этот долгий и темный тоннель будет лишь горьким воспоминанием).
Пока же это ужасное изобретение заслуживает пристальнейшего изучения, хотя бы потому, что это такой сильный и эффективный инструмент управления людьми – инструмент, позволяющий сломить человеческую волю и все же одновременно заставить людей работать на максимуме своих возможностей, – о каком самые жестокие и беспринципные эксплуататоры из капиталистического мира даже мечтать не могли. Ибо лишь душа, презирающая свободу и человеческие идеалы больше, чем сам Великий Инквизитор Достоевского, могла изобрести этот инструмент; и этот инструмент, держащий в подчинении и страхе восемьсот миллионов человек[363], остается по сию пору самым важным, самым бесчеловечным и самым малоизученным феноменом нашего времени.
Литература и искусство в России при Сталине
Советский литературный пейзаж очень своеобразен, и аналогий с Западом, которые помогли бы понять его, найдется немного. По ряду причин Россия всю свою историю жила достаточно изолированно от остального мира и никогда по-настоящему не входила в западную традицию; и ее литература во все времена свидетельствала о своеобразной двойственности отношения к непростой связи между нею самою и Западом – то о страстном неудовлетворенном стремлении войти в европейскую жизнь, стать ее частью, то об обиженном («скифском») презрении к западным ценностям, ни в коей мере не ограничивающемся исповеданием «славянофильства»; но чаще всего то было нерешительное, робкое сочетание этих противоречивых чувств. Смешанное чувство любви и ненависти, пронизывающее творчество практически всякого известного русского автора, иногда достигает высокого накала в протесте против иностранного влияния, в той или иной форме окрашивающем шедевры Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Герцена, Чехова, Блока.
Октябрьская революция еще больше изолировала Россию, обращенность на себя и самолюбование поневоле усилились, в своем развитии она все меньше походила на своих соседей. Я не ставлю целью проследить всю историю этой ситуации, но настоящее [осень 1945] нельзя как следует понять без хотя бы краткого знакомства с предшествовавшими событиями; думаю, было бы удобно и не слишком ошибочно разделить ее недавнее прошлое на три основных этапа – а) 1900–1928; б) 1928–1937; в) 1937 – до настоящего времени; деление искусственное и приблизительное, хотя легко показать, что оно существует.
Первая четверть нашего столетия была эпохой «бури и натиска», в течение которой русская литература, особенно поэзия, равно как театр и балет, главным образом под французским и до некоторой степени немецким влиянием (хотя сейчас об этом не принято говорить), достигла своей наивысшей точки со времен классиков – Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Октябрьская революция с неистовой силой обрушилась на это влияние, но это не перекрыло основного течения. Самая поражающая черта русского искусства, да и мышления в целом, – всепоглощающая и неистощимая увлеченность социальными и нравственными проблемами; возможно, она в значительной мере сформировала революцию, а после ее победы привела к долгой жестокой борьбе между теми бунтарями в искусстве, которые надеялись, что революция осуществит их самые неистовые «антибуржуазные» позиции (и позы), и теми, кто, будучи первично политиками и людьми действия, хотел приспособить любую художественную и интеллектуальную деятельность к целям этой революции.
Жесткая цензура, сквозь которую могли пройти только тщательно отобранные авторы и идеи, и запрещение или подавление многих неполитических видов искусства (особенно таких расхожих жанров, как популярные любовные романы или детективы, равно как и все виды бульварной литературы и прочей литературной макулатуры) автоматически сосредоточили внимание читающей публики на новых и экспериментальных работах, наполненных, как это часто бывало в истории русской литературы, остро переживаемыми и часто причудливыми и фантастическими социальными идеями. Возможно, из-за того, что конфликты в очевидно более опасных водах политики и экономики казались чересчур рискованными, единственным подлинным полем битвы идей стали (как было в германских странах веком раньше при Меттернихе) литература и другие искусства; по этой самой причине даже и теперь литературная периодика представляет более живое чтение, чем однообразно конформистские ежедневные газеты и чисто политическая пресса.
В начале и середине 20-х годов основные бои шли между свободными литературными экспериментаторами несколько анархистского толка и большевистскими зелотами, которых безрезультатно пытались примирить такие фигуры, как Луначарский и Бубнов[366]. Кульминацией борьбы стала победа (1927–1928 гг.), а затем, когда власти сочли его слишком революционным и даже троцкистским, разгром и в 30-е годы – полное уничтожение знаменитого РАППа (революционной ассоциации пролетарских писателей), возглавляемого бескомпромиссным фанатиком коллективистской пролетарской культуры критиком Авербахом. Затем, в период «успокоения» и стабилизации, организованных Сталиным и его прагматичными сподвижниками, сложилась новая ортодоксия, принципиально направленная против любых идей, способных взбудоражить умы и таким образом отвлечь внимание от экономических задач. В результате установилось мертвенное единообразие, которому единственный уцелевший классик великой эпохи Максим Горький дал в конце концов свое благословение – по свидетельству некоторых его друзей, крайне неохотно.
Новая ортодоксия, окончательно утвердившаяся после падения Троцкого в 1928 году, решительно положила конец инкубационному периоду, в течение которого лучшие советские поэты, романисты и драматурги, да и композиторы и кинорежиссеры, создали свои самые оригинальные, памятные всем произведения. Это обозначило конец бурной второй половины 20-х годов, когда гостей с Запада изумляла, а иногда и шокировала вахтанговская сцена[367]; когда Эйзенштейн, тогда еще не работавший в кино, ставил забавные футуристические эксперименты в опустевших особняках московских купцов, а великий режиссер Мейерхольд, чья артистическая жизнь стала своего рода микрокосмом артистической жизни всей страны и чей гений все еще признан только потаенно, ставил свои смелые и незабываемые театральные эксперименты. До 1928 года мысль была в бурлении, все было неподдельно оживлено духом бунтарства, вызова западному искусству; казалось, что идет последний решительный бой с капитализмом, который вот-вот ниспровергнет – на художественном фронте, как и на всех остальных, – сильная, молодая, материалистическая, земная пролетарская культура, гордая своей брутальной простотой и новым жестоким и неистовым образом мира, который в муках рождал торжествующий Советский Союз.
Глашатаем и главной вдохновляющей силой этого нового якобинства был поэт Маяковский, который со своими сторонниками создал знаменитый ЛЕФ[368]. В нем немало претенциозного, фальшивого, грубого, эксгибиционистского, детского, да и просто глупого, но многое все же было по-настоящему полно жизни. Это движение не было ни дидактически коммунистическим, ни антилиберальным, и в этом оно имело много сходства с итальянским футуризмом до 1914 года. Именно тогда создал свои лучшие вещи «народный трибун» Маяковский, который был если и не великим поэтом, то радикальным новатором и эмансипатором в литературе, обладавшим огромной энергией, силой убеждения и прежде всего влиянием; это была эпоха Пастернака, Ахматовой (до 1923 года, когда она умолкла), Сельвинского, Асеева, Багрицкого, Мандельштама; таких писателей, как Алексей Толстой (вернувшийся в 20-е годы из Парижа), Пришвин, Катаев, Зощенко, Пильняк, Бабель, Ильф и Петров; драматурга Булгакова; таких признанных литературных критиков и ученых, как Тынянов, Эйхенбаум, Томашевский, Шкловский, Лернер, Чуковский, Жирмунский, Леонид Гроссман. Голоса писателей-эмигрантов – Бунина, Цветаевой, Ходасевича, Набокова – были едва слышны. Эмиграция и возвращение Горького – другая история.
Государственный контроль охватывал абсолютно все. Единственный период свободы, когда в российской истории не было цензуры, – это время с февраля по октябрь 1917 года. В 1937 году большевистский режим ужесточил старые методы, установив несколько этапов контроля; первым был Союз писателей, затем – назначаемый государством комиссар и, наконец, Центральный комитет Коммунистической партии. Литературный «курс» утверждала партия: сначала был введен пресловутый Пролеткульт, с его требованием советской тематики и коллективной работы пролетарских писателей; затем – поклонение советским или досоветским героям. Тем не менее яркие и оригинальные авторы не всегда были в полном повиновении у всемогущего государства; иногда, если они решались пойти на серьезный риск, им удавалось убедить власти в ценности неортодоксального подхода (как делал драматург Булгаков); иногда неортодоксальности, если только она не была непосредственно направлена против советской веры, давали некоторую свободу выражения – как вполне уместную, временами чрезвычайно острую приправу к монотонной и пресной повседневной советской диете (например, ранние, блестящие, злые сатиры Тынянова, Катаева и прежде всего Зощенко). Конечно, это допускалось до известных пределов и не слишком часто, но такая возможность всегда была; эта ситуация отчасти даже стимулировала писательский талант: чтобы выразить нестандартные идеи, не выходя за рамки ортодоксии или не навлекая на себя категорического осуждения и наказания, требовалась высокая степень мастерства.
Это продолжалось некоторое время после прихода Сталина к власти и воцарения новой ортодоксии. Горький умер только в 1936 году. Пока он был жив, его огромное личное влияние и авторитет до определенной степени защищали кого-то из крупных и интересных писателей от чрезмерного давления и травли со стороны режима; он сознательно играл роль «совести русского народа» и продолжал традицию Луначарского (а также Троцкого), защищая подающих надежды людей искусства от мертвящей руки официальной бюрократии. В официальном марксизме, несомненно, господствовал узкий и нетерпимый «диалектический материализм», но внутрипартийные дискуссии вокруг этого учения все же допускались – например, между сторонниками Бухарина и последователями более педантичных Рязанова или Деборина; между различными толками философского материализма; между теми меньшевиками, которые считали Ленина непосредственным учеником Плеханова, и теми, кто делал акцент на различиях между ними.
Началась охота на ведьм; разоблачения ереси, как правой так и левой, следовали одно за другим; последствия для побежденных еретиков были ужасающими; но самая свирепость таких идеологических споров, невозможность предугадать, какая из сторон будет обречена на уничтожение, придавали какое-то мрачное оживление интеллектуальной атмосфере, в результате чего и творческие, и критические работы этого периода при всей односторонности и гиперболизации редко бывали скучными и свидетельствовали о продолжающемся бурлении во всех сферах мысли и искусства. Благожелательный наблюдатель вполне мог бы предпочесть все это медленному упадку старшего поколения таких русских писателей-эмигрантов во Франции, как Вячеслав Иванов, Бальмонт, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Куприн и другие, хотя своей литературной техникой, как иногда признавалось даже в Москве, они часто превосходили многих пионеров советской литературы.
Затем произошел великий разгром, который для каждого советского писателя и художника стал чем-то вроде Варфоломеевской ночи – темной ночи, о которой, кажется, мало кто способен до конца забыть и о которой и сейчас почти никогда не говорят иначе, как взволнованным шепотом. Правительство, очевидно не чувствуя себя слишком устойчивым или боясь большой войны на Западе, а может быть, и с Западом, нанесло удар по всем предположительно «сомнительным» элементам, а кроме того и по бессчетному количеству невинных и лояльных людей, с жестокостью и основательностью, слабое подобие которых можно найти только в испанской инквизиции и Контрреформации.
Великие чистки и судебные процессы 1937 и 1938 годов изменили литературную и художественную арену до полной неузнаваемости. Тогда, особенно за время ежовского террора[369], было сослано или уничтожено столько писателей и художников, что русскую литературу и мысль в 1939 году можно сравнить с местностью, по которой прошла война, – несколько великолепных зданий остались нетронутыми, но они стоят одиноко среди просторов разрушенной и разоренной страны. Люди гениальные, такие, как режиссер Мейерхольд или поэт Мандельштам, и талантливые, такие, как Бабель, Пильняк, Яшвили, Табидзе, вернувшийся к тому времени из Лондона эмигрант князь Д. Святополк-Мирский, критик Авербах (если брать только известные имена) были «репрессированы», то есть тем или иным способом убиты или удалены. Что было с ними после этого, сейчас, кажется, не знает никто. Никакие сведения о ком-либо из этих писателей и художников не проникают во внешний мир. Ходят слухи, что некоторые из них еще живы, например, Дора Каплан, которая в 1918 году стреляла в Ленина и ранила его, или Мейерхольд, который, как говорят, ставит спектакли в столице Казахстана Алма-Ате; но они, видимо, распространяются советским правительством и, совершенно определенно, от начала и до конца лживы[370]. Один из британских корреспондентов, чьи симпатии были вполне очевидны, пытался убедить меня, что Мирский живет и пишет в Москве инкогнито. Было ясно, что он на самом деле не верит этому. Не поверил и я.
Поэтесса Марина Цветаева, которая вернулась из Парижа в 1939 году и впала в немилость, покончила с собой, кажется, в начале сентября 1942 года[371]. Молодого и многообещающего композитора Шостаковича критиковали в 1937 году за «формализм» и «буржуазный декаданс»; критика была такой грубой и исходила из таких высоких сфер, что в течение двух лет его не исполняли и не упоминали, и затем, пройдя медленный и мучительный процесс покаяния, он усвоил новый стиль, более созвучный сегодняшним требованиям советского правительства. С тех пор его дважды призывали к порядку и к покаянию; то же было и с Прокофьевым. О горстке молодых неизвестных на Западе писателей, которые, как говорят, подавали в то время большие надежды, сейчас ничего не слышно; мало надежды, что они живы, хотя точно ничего нельзя сказать. Еще раньше покончили с собой поэты Есенин и Маяковский. Их разочарование в режиме все еще официально отрицают. Так это и продолжается.
Со смертью Горького интеллектуалы лишились своего единственного сильного защитника; оборвалась последняя связь с прежней традицией относительной свободы революционного искусства. Самые известные из уцелевших писателей этого периода сегодня сидят смирно, в постоянном волнении из-за страха совершить какой-нибудь роковой грех против линии партии, которая никак не была ясной ни в критические годы перед войной, ни после нее. Хуже всего пришлось авторам, бывшим в тесном контакте с Западной Европой, то есть Францией и Англией: с тех пор как Советский Союз отказался от политики коллективной безопасности, проводившейся Литвиновым, и стал склоняться к изоляционизму, что символизировал русско-германский пакт, люди, в которых видели связующее звено со странами Запада, стали жертвой общего недоверия к прозападной политике.
Выражения покорности властям переходили все прежде известные границы. Иногда они были слишком запоздалыми, чтобы спасти еретика, намеченного к уничтожению; в любом случае это оставляло позади себя мучительные и унизительные воспоминания, от которых пережившие террор, похоже, никогда не смогут до конца избавиться. Ежовские обвинительные заключения, послали на смерть многие десятки тысяч интеллектуалов, к 1938 году даже для органов государственной безопасности это было более чем достаточно. Наконец была объявлена остановка – Сталин произнес речь и объявил, что процесс очищения завершен. Наступила передышка. Снова оказалась в почете старая государственная традиция; к классикам опять стали относиться с уважением и революционную номенклатуру кое-где заменили прежние названия улиц. Исповедание веры, начатое Конституцией 1936-го года, было завершено в «Кратком курсе истории Коммунистической партии» (1938 г.). С 1938 по 1940 год Коммунистическая партия добилась еще больших успехов в усилении и централизации своей силы и власти, и до того достаточно крепких; этот период постепенного залечивания ран оставался достаточно бесцветным в том, что касается художественного творчества и критики.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Затем разразилась война, и картина снова изменилась. Все было мобилизовано для войны. Известные писатели, сумевшие пережить «великую чистку» и сохранить свободу, не склоняясь слишком низко перед государством откликнулись на мощную волну подлинного патриотизма чуть ли не более глубоко, чем ортодоксальные советские писатели, но, очевидно, слишком многое испытали, чтобы сделать свое творчество средством прямого выражения национального чувства. Лучшие военные стихотворения Ахматовой и Пастернака, проникнутые самым глубоким чувством, но слишком безупречные в художественном отношении, чтобы обладать непосредственной пропагандистской ценностью, были холодно встречены литературными мандаринами Коммунистической партии, которые распоряжались судьбами официального Союза писателей.
Это неодобрение, с оттенком сомнения в лояльности, в конце концов настолько вышибло Пастернака из колеи, что этот самый неподкупный из художников произвел на свет несколько стишков, граничащих с прямой военной пропагандой, слишком очевидно вымученных, звучащих настолько вяло и неубедительно, что партийные критики осудили их как слабые и не отвечающие требованиям. Такие pice d’occasion[372], как «Пулковский меридиан» Веры Инбер и ее ленинградский блокадный дневник, и наиболее талантливые стихи Ольги Берггольц, были приняты лучше.
Но – возможно, к немалому удивлению и властей, и авторов – оказалось, что среди солдат на передовых необычайно выросла популярность наименее политических и наиболее личных стихотворений Пастернака (поэтический дар которого еще никто не решался отрицать); таких великолепных послереволюционных поэтов, как Ахматова, Блок, Белый и даже Брюсов, Сологуб, Цветаева и Маяковский. Рукописные копии неопубликованных сочинений ходили по рукам среди узкого круга друзей, солдаты на фронте передавали один другому переписанные от руки стихи с таким же трогательным рвением и глубоким чувством, как громкие передовицы Эренбурга из советских газет или популярные конформистские патриотические романы того времени. Уважаемые, но все еще немного подозрительные и одинокие писатели, особенно Пастернак и Ахматова, начали получать с фронта потоки писем с цитатами из своих опубликованных и неопубликованных стихов и просьбами об автографах. Их просили подтвердить подлинность текстов, некоторые из которых существовали только в рукописи, и выразить свое отношение к той или иной проблеме.
Это в конечном счете не могло не произвести впечатления на ответственных партийных руководителей, и официальное отношение к таким писателям стало несколько мягче. Казалось, бюрократы от литературы начали осознавать их значение как фигур, которыми государству когда-нибудь придется гордиться, и их общественное положение и личная безопасность начали укрепляться. Но не похоже, что это надолго: партия и ее литературные комиссары не любят Ахматову и Пастернака. Чтобы не быть пропагандистом и выжить, необходимо быть незаметным; Ахматова и Пастернак слишком популярны, чтобы избежать подозрений.
НАСТОЯЩЕЕ
Более благосклонное, то есть – менее бдительное, отношение официальных государственных цензоров позволило признанным писателям занять некоторые ниши, которые они считали безопасными. Некоторые, с разной степенью убежденности, открыто встали на службу государству, и заявляют, что они преданно служат не за страх, а за совесть (так, Алексей Толстой коренным образом переработал свой знаменитый ранний роман «Хождение по мукам», в котором первоначально был герой англичанин, и пьесу об Иване Грозном, которая фактически оправдывает чистки). Другие высчитывают, сколько они могут уступить требованиям государственной пропаганды и сколько при этом останется личной честности. Третьи же пытаются держать дружественный нейтралитет по отношению к государству, не сталкиваясь с ним и надеясь, что их не втянут; тщательно стараясь не сделать никаких ошибок, они довольны, если им дозволяют жить и работать без наград и признания.
Генеральная линия партии претерпела немало изменений со времени ее основания, и Центральный комитет Коммунистической партии, ответственный за конечную редакцию, по различным каналам извещает поэтов и художников о последних требованиях. Основное идеологическое руководство сейчас официально принадлежит члену Политбюро Михаилу Суслову, который сменил на этом посту Георгия Александрова. Александрова сместили, как говорят, за то, что он написал книгу, в которой назвал Карла Маркса величайшим из философов, а не сказал, что это явление иного порядка, превосходящее по уровню всю философию вообще; по-видимому, это так же оскорбительно, как назвать Галилея величайшим из астрологов. Суслов отвечает перед партией за пропаганду и идеологию; приспосабливают все это к нуждам своих коллег глава и в особенности секретари Союза писателей, выдвигаемые на эту должность непосредственно Центральным исполнительным комитетом партии, которые, как правило, не писатели (так, покойный Щербаков, чисто политическая фигура, могущественный член Политбюро, к моменту своей смерти в 1945 году был и одним из секретарей Союза писателей).
Бывает, что обозреватели, рецензируя книгу, спектакль или другое «явление культуры», допускают ошибку, то есть отклоняются от генеральной линии партии; тогда исправление состоит не просто в том, что данному конкретному критику разъясняют, какие выводы можно сделать из его ошибочных суждений; выходит что-то вроде «контрстатьи», указывающей на его ошибки и разъясняющей официальную «линию» относительно критикуемого произведения. В некоторых случаях принимаются и более сильные меры. Последним главой Союза был старомодный и не особенно деятельный поэт Николай Тихонов. Он был устранен за то, что допускал издание так называемой «чистой» литературы; его сменил политически ревностный Фадеев.
На писателей смотрят обычно как на людей, за которыми нужен основательный надзор, поскольку они торгуют опасным товаром идеи и, следовательно, их надо тщательней ограждать от личного контакта с иностранцами, чем представителей менее интеллектуальных профессий, например актеров, танцоров и музыкантов, которые считаются менее восприимчивыми к силе идей, а значит, более защищенными от разрушительного иностранного влияния. Это различие, проводимое органами безопасности, кажется по существу верным, поскольку только из разговоров с писателями и их друзьями иностранцы (например, автор этого доклада) могли получить сколько-нибудь связное представление (а не беглые и мимолетные впечатления) о том, как воздействует советская система на частную жизнь и на жизнь искусства. Другие художники, как правило, поставлены в такие условия, что им приходится невольно избегать интереса к этим опасным темам, не говоря уже об их обсуждении. Обнаруженный контакт с иностранцами не всегда приводит к немилости или преследованиям (хотя за ним обычно следует подробный допрос в НКВД), но более робкие из писателей, а особенно те, кто не обеспечил себе надежных тылов и не стал рупором партийной линии, избегают открытых личных встреч с иностранцами – даже если это коммунисты и сочувствующие, прибывающие с официальными визитами, финансируемыми Советским Союзом.
Защитив себя в достаточной мере от любых подозрений в желании поклоняться чужим богам, советский писатель или критик всегда должен точно знать, каковы правильные литературные установки в текущий момент. Советское правительство нельзя обвинить в том, что оно оставляет его в неизвестности на этот счет. Западные «ценности», которые, кроме откровенно антисоветских или признанных реакционными, одно время не считали компрометирующими и молча извиняли, теперь снова подверглись нападению. Политической критике не подлежат, кажется, только классики. На ранний период марксистской критики, когда Шекспира или Данте – так же, как Пушкина, Гоголя и, конечно, Достоевского – считали врагами народной культуры или борьбы за свободу, теперь смотрят как на детское заблуждение. Великих русских писателей и даже таких политических реакционеров, как Достоевский и Лесков, по крайней мере к 1945 году, возвратили на пьедесталы, их снова изучают и хвалят. Это в большой степени относится и к зарубежным классикам, хотя такие авторы, как Джек Лондон, Эптон Синклер и Дж. Б. Пристли (как и такие, на мой взгляд, малоизвестные фигуры, как Джеймс Олдридж и Уолтер Гринвуд[373]), вошли в этот пантеон скорее за политические, чем за литературные достоинства.
Основные силы критики сейчас направлены на реабилитацию всего русского, особенно в области абстрактной мысли, которая представлена как почти нием не обязанная Западу, и на прославление русских (а иногда нерусских) новаторов науки и искусства, чья деятельность протекала в исторических границах Российской империи. Однако, по некоторым признакам, в последнее время стали опасаться, что эгалитаристский марксистский подход просто сменится непомерным русским национализмом военного времени, который, распространившись на национализм региональный (как то, кажется, уже происходит), окажется разрушительной силой. В результате таким историкам, как Тарле, в особенности, принадлежащим к татарскому, башкирскому, казахскому и другим историческим меньшинствам, официально инкриминировался немарксистский уклон в национализм и регионализм.
Главной объединяющей силой Союза, не считая исторических связей, по-прежнему остается марксистская или, скорее, «ленинско-сталинская» ортодоксия, но в первую очередь – Коммунистическая партия, исцеляющая раны, нанесенные Россией своим нерусским вассалам в дни царизма. Отсюда настоятельная необходимость снова перенести акцент на эгалитаристское марксистское учение и бороться против любой тенденции к дешевому национализму. Острие атаки было направлено на все немецкое; происхождение Маркса и Энгельса трудно отрицать, но Гегель, к которому ранние марксисты, включая Ленина, естественно, относились с почтением, как своему общему предку, теперь вместе с другими немецкими мыслителями и историками эпохи романтизма подвергается резким нападкам как предтеча фашизма и пангерманист, у кого мало чему можно научиться и чье влияние на русскую мысль, которое едва ли можно совсем сбросить со счетов, либо бесполезно, либо вредно.
Французские и английские мыслители отделались сравнительно легко, и советские авторы – как историки, так и литераторы – все еще могут позволить себе робкое почтение к антиклерикальным и «антимистическим» эмпирикам, материалистам и рационалистам англо-французской философской и научной традиции.
После того, как приняты все меры предосторожности, сделано все возможное, чтобы оградить себя от недовольства властей, самые маститые из старейших писателей все же оказываются в своеобразном положении. Читатели льстят им, власти – терпят, полувосхищенно, полуподозрительно; младшее поколение писателей смотрит на них снизу вверх, но совершенно их не понимает. Маленький и обреченный, но все еще почетный Парнас, странно изолированный, живет памятью о Европе, в особенности – о Франции и Германии, гордится победой над фашизмом, которую одержали победоносные войска его страны, и находит утешение во все большем восхищении и внимании молодежи. Поэт Борис Пастернак говорил мне, что когда он читает стихи перед аудиторией и иногда останавливается, вспоминая слово, всегда находится по меньшей мере дюжина слушателей, которые сразу по памяти подсказывают ему и явно могут продолжать столько, сколько потребуется.
Действительно, нет сомнения в том, что, по какой бы то ни было причине – по врожденной чистоте вкуса или из-за отсутствия дешевых или банальных произведений, которые могли бы его испортить, – пожалуй, нет другой страны, где стихи, старые и новые, хорошие и посредственные, продаются в таких количествах и читаются с такой жадностью, как в Советском Союзе. Это, естественно, служит мощным стимулом и для поэтов, и для критиков. Только в Советском Союзе поэзия реально приносит доход; преуспевающий поэт обеспечивается государством, и часто лучше, чем, например, средний государственный чиновник. Драматурги, как правило, весьма преуспевают. Если количество, как учил Гегель, переходит в качество, литературное будущее Советского Союза обещает стать более ярким, чем в любой другой стране. Для этого предположения есть более веские основания, чем априорное правило немецкого метафизика, потерявшего доверие даже в России, на мысль которой он так разрушительно повлиял.
Политическая неопределенность, конечно, неблагоприятна для творчества старших писателей. Некоторые нарушают изредка молчание ради запоздалой лирики или критической статьи, вообще же прозябают на пенсии, в городских или деревенских домах, которыми государство обеспечивает тех, кто достаточно известен. Некоторые заняли политически безопасную середину, скажем – пишут детские [или абсурдные] стихи; например, детские стихи Чуковского – превосходная поэзия абсурда, выдерживающая сравнение с Эдвардом Лиром. Пришвин продолжает писать великолепные, на мой взгляд, рассказы о животных. Другой путь ухода – перевод, куда сейчас перетекают многие блестящие российские таланты, как всегда и бывало. Странно осознавать, что ни в одной стране эти невинные и аполитичные виды искусства не достигают большего совершенства. В последнее время на них тоже началась охота.
Высокий уровень перевода вызван, конечно, не только тем, что это – почтенный способ уклониться от политически опасных высказываний; традицию переложения с чужих языков Россия, страна, долгое время интеллектуально зависевшая от иностранной литературы, развила еще в XIX веке. В результате люди исключительной чуткости и литературных достоинств перевели великие классические произведения Запада и халтурных переводов (как большинство версий русской литературы на английском) в России практически нет. Такая сосредоточенность на переводе – отчасти следствие повышенного внимания, уделяемого сейчас жизни окраинных регионов Советского Союза; поэтому политически выгодны переводы с таких модных языков, как украинский, грузинский, армянский, узбекский, таджикский. Некоторые из самых одаренных русских писателей делают это блестяще, улучшая тем самым добрососедские отношения между регионами. Возможно, это окажется значительным вкладом Сталина в развитие русской словесности.
Что касается художественной литературы, наиболее общий путь – тот, который выбрали такие устойчивые, безнадежно второсортные беллетристы, как Федин, Катаев, Гладков, Леонов, Сергеев-Ценский, Фадеев, и такие драматурги, как Погодин и ныне покойный Тренев; некоторые из них оглядываются на свое пестрое революционное прошлое[374]. Все они сейчас почтительно кланяются, как предписано их политическими руководителями, и выпускают книги в высшей степени посредственные, построенные по моделям конца девятнадцатого века, написанные профессионально, длинно, серьезно, компетентно, политически bien pensant[375], иногда читабельные, но в целом – ничем не примечательные. Чистки 1937 и 1938 годов затоптали тот яркий огонь современного русского искусства, в который подлила масла революция 1918 года и который недавняя война едва ли смогла бы так быстро угасить, если бы политические судебные процессы не начали делать это раньше.
Над всем пространством русской литературы воздух странно неподвижен, ни одно дуновение ветерка не рябит водной глади. Возможно, это – спокойствие перед новым приливом, но признаков зарождения чего-то нового или оригинального в Советском Союзе пока мало. Нет пресыщенности старым и потребности в новом опыте, которая стимулировала бы угасший интерес. Русская публика менее blas[376], чем любая другая в Европе, а знатоки, если они только там есть, слишком довольны, когда на горизонте нет тревожных политических туч и их оставляют в покое. Эта атмосфера не благоприятствует интеллектуальной или художественной инициативе; власти, которые живо поощрили бы изобретения и открытия в технической области, кажется, совсем не думают о свободе творческой мысли, которую нельзя удерживать в заданных границах. Ее сейчас, видимо, принесли в жертву безопасности; пока это не изменится, Россия едва ли сможет сделать что-то значительное, во всяком случае – в области искусства и гуманитарных наук
.
А что же, спросим мы, младшее поколение писателей? Всякого иностранца, взирающего на русскую литературную сцену, непременно поразит разрыв между старшими писателями, лояльными, но меланхоличными, уже не представляющими опасности для этого, по всей видимости, глубоко стабильного режима, и невероятно плодовитыми младшими, у которых, кажется, перо быстрее мыслей (возможно, за отсутствием таковых). Они повторют одни и те же схемы и формулы так неустанно и с таким рвением, что трудно предположить, что они когда-нибудь могли терзаться сомнениями – как художники или просто как люди.
Возможно, это объясняется недавним прошлым. Чистки опустошили литературную почву, а война предоставила новую тематику и новое настроение. Появилась новая разновидность писателей – поверхностных, наивных и плодовитых, от прямолинейных и топорных ортодоксов до обладающих немалым техническим мастерством, способных иногда на хорошие, по-настоящему эффектные, а то и вполне живые журналистские репортажи. Это относится к прозе и стихам, романам и пьесам. Самая преуспевающая и представительная фигура такого рода – журналист, драматург и поэт Константин Симонов, из которого хлещет поток произведений невысокого качества, но безупречно ортодоксального чувства, провозглашающих новый тип советского героя, храброго, пуританского, простого, благородного, самоотверженного, безусловно преданного своей стране.
Вслед за Симоновым идут другие сочинители того же рода – авторы романов, повествующих о подвигах в колхозах, на фабриках или на фронте; авторы патриотических виршей или пьес, высмеивающих капиталистический мир или старую и дискредитированную либеральную культуру самой России, которой противопоставлены примитивные, стандартные люди – молодой, искренний, здоровый, энергичный, способный, решительный, бесхитростный инженер, или политический комиссар («инженер человеческих душ»), или военачальник; словом, застенчивые и мужественные, скупые на слова, совершители великих деяний, «сталинские соколы», идущие плечом к плечу с пламенно патриотичными, совершенно бесстрашными, морально чистыми, героическими молодыми женщинами. От них, разумеется, зависит успех всех пятилетних планов.
Старшие писатели не скрывают своего мнения об этой добросовестной, но банальной массовой продукции, имеющей такое же отношение к литературе, как плакат к серьезному искусству. Они не были бы так требовательны, если бы помимо неумолимо размножающегося чтива, вдохновляемого государственными нуждами и подчиненного им, среди произведений младших писателей, скажем – тех, кому меньше сорока, было что-то более глубокое и оригинальное. Почему, говорят они, современная советская жизнь не могла бы породить подлинный и серьезный «социалистический реализм» – как-никак, «Тихий Дон» Шолохова, рассказывающий о казаках и крестьянах времен гражданской войны, все признали пусть иногда и скучным, тяжеловесным, но все же подлинным художественным произведением. Старшие писатели твердят (такую «самокритику» дозволено печатать), что примитивный культ стандартного героя никогда не родит подлинного творения; что герои войны заслужили право на более тонкий и менее банальный анализ; что опыт войны – это глубокий национальный опыт, который может адекватно выразить только сильное, умное и добросовестное искусство, а большинство публикуемых военных романов – грубая карикатура и страшное оскорбление для солдат и гражданских людей, чьи суровые испытания они стремятся описывать; наконец (вот об этом никогда не говорят в печати); что внутренний конфликт, который один только создает художника, разрешается слишком легко, упрощенными правилами искусственно приглаженной политической схемы, которая не допускает ни сомнений о конечной цели, ни большого разногласия касательно средств; и что на основании этой схемы – возможно, из-за чисток и их моральных и физических последствий – пока не удалось создать художественных канонов, по которым в сегодняшней России могло бы развиться что-то пусть строго конформистское, но все же не менее искреннее и глубокое, чем религиозное искусство Средневековья. Я тоже не вижу сейчас большой надежды на это. Плач Сельвинского по социалистическому романтизму[377] (если есть социалистический реализм, почему бы не быть и социалистическому романтизму?) был грубо подавлен.






