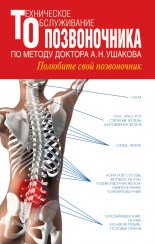Гибель Помпеи (сборник) Аксенов Василий

– Серафима Игнатьевна, наш новый буфетчик, – вполне по-человечески и даже с двумя-тремя калориями произнес директор.
– Очень приятно…
Самым нелепейшим образом Кимчик потянулся к ея руке, но неожиданно получилось вполне естественно и даже мило – простой поцелуй в щеку.
– Вы… вы умеете, конечно, Серафима Игнатьевна, делать коктейль «Бегущая по нулям»?
Кимчик опять же неожиданно для себя уже зажурчал и уже посмотрел исподлобья – фавном.
– Серафима! Игнатьевна! Не бармен! Буфетчик! – вдруг закричал директор Борщов и отвернулся к окну, чуть-чуть дрожа.
– Я все умею, Ким Аполлинарьич, – мягко сказала буфетчик и затянулась из папироски дымом, на минуту удлинив свое лукавое лицо.
– Я подчеркиваю: Серафима Игнатьевна не бармен, и коктейлей у нас на выходе не будет, – с мимолетным и далеким, как полтавская зарница, отчаянием проговорил Борщов.
Вновь воцарилось престранное молчание, которое продолжалось по часам три-четыре минуты.
– Как отпуск провели, Кимчик? – произнесла Шпритц. Она все волновалась.
– Гладил тигрят! – рявкнул Ким и вызывающе склонился к столу Борщова, бывшему своему столу.
Особенный вечер
Временами, когда совсем невмоготу, вспоминаешь и такое – да, гладил тигрят в их обычном жилище! Не всякому доводилось гладить хищных крошек, не у каждого ходит в друзьях дрессировщик тигров Баранов!
Вспоминая свое уходящее время, я стараюсь найти в нем светящиеся ядра, чтобы соединить их в молекулу пусть еле видимым, но все же существующим пунктиром, иначе и время само пропадает. Как спасти мне свое время – десятилетие, год, хотя бы свой отпуск?
Вот вы – ходи, пожалуйста, на пляж с двумя бутылками кефира и с горстью слив. Вот вы – плыви, пожалуйста, бабочкой, сгоняй жир, формуй изящную скульптуру. Все твое время превращается в один день, в приобретение скульптуры, в расплывчатое знойное марево, в облачко мошкары, в неясное воспоминание о покое, о сладкой потуге мышц. Кому не знакомо тревожное ускользание дней?
В знойный вечер под кипарисами выбираешь вариант: 1) мгновенно улететь в Архангельск, потратить все деньги и возвращаться пешком, 2) позвонить в «Интурист» немецкой виолончелистке Беатрисе Шауб, пригласить на шпацирен в тропический дендрарий, 3) отправиться к старику Баранову проведать его котят.
И вот я: входишь в вольер, их гладишь – младенцев, детей, подростков – по шелковым спинам, заглядываешь в их глаза, где не созрела еще застойная тигриная ярость. Коричневые полосы под твоей рукой чередуются с желтыми – таковы тигры. Клычонки подростков щелкают возле твоих рук: неверная, грубая ласка может обернуться трагедией. А по краю вольера кругами бродят взрослые самки, тоже страдают от утечки времени. Конечно, поблизости верный Баранов с пушечкой в кармане, с ласковым словом, с кнутом, но кто поручится – вдруг некая самка захочет поставить себе в биографии галочку ударом лапы по твоему загривку? Остро пахнет Уссурийской тайгой.
Словом, этот вечер особенный, от него можно считать свое идкое время, свой отпуск, в обе стороны: это было до того, как я «гладил тигрят», а то было уже после. А потому он особенный, этот вечер, что далеко не каждому дано гладить тигрят, а я их гладил!
Вернее, почти гладил. Фактически я мог бы их погладить, если бы не карантин. Неужели друг Баранов не позволил бы наперснику детских забав погладить своих питомцев, конечно, если бы он оказался в тот вечер в цирке? Словом, я их гладил!
В глухом таежном сентябре летели птицы в серебре, их вновь к себе звала природа, а Ким Морзицер унывал, он дни прошедшие считал, такая у него порода – глухой сырой лесоповал.
– Ну что, Мокрицер, все сочиняешь себе биографию?
Запущенная, но просторная однокомнатная квартира Морзицера, в которой он сейчас лежал на продавленной тахте, наполнилась гулкими шагами последней трети Ха-Ха. Патинку провинциального сплина прервал огнедышащий Мемозов с легким, как стрекоза, гоночным велосипедом за спиной. Лайковое, замшевое, джинсовое великолепие, грозные пики нафабренных усов, кипень шевелюры Гуляй-Поля, лаконичные жесткие стрелы в глазах, на груди, на запястьях поражали воображение. Киму захотелось спрятать в подушку свое траченное сплином лицо, спрятать заодно и подушку.
– Ну как, мимоза не чахнет от мороза? – со скрипом отпарировал он приветствие авангардиста и тут же получил ежа за пазуху.
– Мимоза видит – ваша поза – какая гибельная проза: спиной вы для клопов угроза, но в то же время ваше пузо клопу приятная обуза.
С этими словами гость плюхнулся в кресло и положил ноги на телевизор.
– Морзицер, я забираю вашу квартиру! – таковы были его следующие слова, после которых хозяин перебросил на пол свои полные нагие ноги и беспомощно рявкнул:
– Этому не бывать!
Мемозов поморщился.
– А вы, мокрицын хвост, вы все понимаете в буквальном, безнадежном смысле. И этот человек еще недавно вел за собой авангард? На свалку вам пора, собирайтесь на свалочку, бывший Командор и Хранитель Очага! Не нужна мне ваша нора, успокойтесь. У меня, между прочим, кооператив в столице на Авеню Парвеню – слыхали? – ну где вам! Увы – а может быть, ура, – здесь, в вашей пресловутой научной фортеции, Мемозов стоит в номере-люкс отеля «Ерофеич», которым вы все здесь так гордитесь, а на самом деле он ничем не лучше дома приезжих в райцентре Чердаки. Я заметил, что вы все здесь очень гордитесь своими сооружениями, вот идиотизм периферийной жизни! Скоро прибудет мое имущество, мои животные и черная бумага. Трепещите! Мемозов откроет кое-кому глаза на истинные ценности трехмерного пространства. Перестаньте хлюпать сапогом, Ким Аполлинариевич! Я имею в виду ваш нос. Принимаю извинения. Как? Предложить Мемозову жезл президента в каком-то фехтовально-танцевальном клубе? Это ваша идея, помесь Митрофанушки с Грушницким? Может быть, вы тоже в курсе моего так называемого бегства из ОДИ? Нет? Ваше счастье! Однако моему меценату, этому винегретному старперу, кто-то уже напел в уши. Милый Букашкин, с такой внешностью выходить на международную арену! Говорят, что его признает Эразм Громсон – сомневаюсь! Громсон – лидер мыслящей молодежи, а ваша кочерыга… Кстати, вы знаете, что у вас со стариком общий предмет – Ритатулька Китоусова? Ах, знаете – это уже мило. Вы вообще, таракаша, пользуетесь успехом у определенного пола. При упоминании вашего благозвучного имени кое-кто начинает вибрировать. Кстати, знаете новый способ объяснения в любви? Же ву зем, ай лав ю – давно на свалке. Ай фил ёр вайбриэйшин! Чувствую вашу вибрацию! Каково? Рекомендую попробовать. Ай, вы хотите знать, кто вибрирует? Зайдите в салон «Угрюм-река» и будьте внимательны не только к экспонатам. Ух, жук-сердцеед, я слышал, здесь давно уже за вами укрепилась слава своеобразного монстра. Ну что вы сразу за брюки? Не стесняйтесь! Запомните, Морзицер, вы мне во враги не годитесь. Все ваши coy коллд «инфернальные» идеи я знаю наперед. Все эти спальные мешки, фальшивые клады, лотереи со сколопендрами, трехгрошовые билеты – все это заканчивается хоровым пением под гитарку. Знаем мы ваши жалкие игры, престарелое молодящееся поколение! На свалочку, на свалочку! Дело не в этом. Мне нужна ваша квартира – вот в чем дело. Здесь я собираюсь после прибытия моего багажа устроить вечер Банка-73, да такой, чтобы до Якутска качнуло, баллов на десять, по восьмибалльной шкале, и чтобы повесть эта поползла по швам!
– Что ж, – сказал Ким, все-таки натягивая штаны. – Здесь может получиться своеобразная камера обскура.
– Браво! А вы все-таки не лишены! – воскликнул Мемозов.
Как мало было нужно потерянному Кимчику. Небрежный комплимент из уст нынешнего авангарда преобразил его. Вдруг появилась суетливая живость, трепетание пальцев над ренессансным пузом, былые огоньки в глазах, и даже волосы взлохматились наподобие рожек.
– А что, в самом деле, старик, давай устроим нечто в своем роде инфернальное! Встряхнем китов! Ведь мы с тобой, старик, если объединимся…
Он осекся и неуверенно взглянул на Мемозова – готов ли тот к объединению? Мемозов стоял у окна, прямой и важный, непроницаемый и серьезный. На левой его ладони лежал миниатюрный стерилизатор.
– Вскипятите! – скомандовал он и протянул стерилизатор Киму.
– Колешься, старик? – со сладким ознобом выдохнул Ким.
– Всего лишь смесь тибетского молочая с почками саксаула. Не pro, a contra галлюцинаций, – с великолепной холодностью протянул авангардист и прикрыл глаза.
Кимчик бежал себе на кухню со стерилизатором и восторженно бормотал:
– Нет-нет, не халтурщик! Вот теперь мы скорешимся, вот пойдет скорешовочка! Саксаулом колется! Подумать страшно!
К полудню тучи похудели, как кошельки к концу недели, их звал в дорогу океан, к полудню сливки убежали, котлеты прогорели в сале, и гарь заволокла диван, где ноги женские лежали…
Теперь дым валил с кухни, сгоревшие сливки жареными пузырями летели в комнату, а потрясенная Маргарита цепочкой, одну за другой, смоля сигареты, дымом отвечала на дым, в пятый раз перечитывала странные клочки перфокарт. Тоже изучила девочка за десятилетие алфавит современной науки.
Европейские подстрочники
- Ты подбегаешь ко мне
- по осенним сумеркам после дождя
- на пустынной улочке готического града
- ты подбегаешь
- а за спиной твоей
- башня и холодное небо
- а между нами лужа
- с этой башней и этим холодным небом
- ты подбегаешь
- и вот уже рядом со мной
- твой золотой мех и бриллиантовые волосы
- и встревоженные глаза
- и мягкие губы
- ты моя девочка
- моя мать
- моя проститутка
- моя Дама
- и ты уже вся разбросалась во мне
- и шепот и кожа и мех
- и запекшиеся оболочки губ
- и влажный язык
- и никотиновый перегар
- все уже на мне
- все успокаивает меня
- и засасывает в воронку твоего чувства
- в холодной Центральной Европе
- в ночной и не ждущей рассвета
- в пустынной просвистанной ветром
- нас только двое
- и автомобиль за углом
- теперь мы поедем по сливовым аллеям
- и будем ехать всю ночь
- и голова твоя будет спать у меня на коленях
- под рулевым колесом
- всю ночь под тихое рекламное радио
- вдвоем под шепот печальной Европы
- сквозь сливовую глухомань вдвоем
- но ты все подбегаешь
- и подбегаешь
- и между нами все лежит
- лужа
- с башней и куском холодного неба
«Тианственная» несравненная Марго задохнулась от совершенно «не-тианственной» ревности, смяла все эти лужи с башнями и судорожно схватила следующее:
- Да, нелегко, должно быть, разыграть Гайдна
- в этом безумном городе в разнузданном
- Средиземноморье. Собраться втроем и
- зажечь над пюпитрами свечи, сесть и
- заиграть с завидным спокойствием и
- даже мужеством
- «Трио соль минор», то есть сообразить на троих.
- В безумном городе,
- где «стрейнджеры в ночи»
- расквасят морду
- в кровь о кирпичи,
- приплыл на уголочек
- с фонарем
- кудрявый ангелочек
- с финкарем.
- В порту была получка…
- Гулял? Не плачь!
- Спрошу при случае
- Хау мач?
- Ты видишь случку
- Луны и мачт?
Мы машинисты, а мы фетишисты, мы с перегона, а мы с перепоя, прокурились, пропились, голоса потеряли, теперь и голоса не продашь за христианских демократов.
Между тем они собрались: Альберт Саксонский – виолончель, Билли Квант – скрипка и Давид Шустер – фортепиано, и начали играть.
И их любимый Гайдн был сух и светел в своем настойчивом смирении.
Как чист, должно быть, был камень вдоль реки, все эти немецкие плиты, вылизанные дождями, как кость языком старательного пса, и подсушенные альпийским ветром, как чист, должно быть, был этот камень, когда по нему прошел Гайдн, стуча чистыми поношенными, но очень крепкими башмаками и медленно мелькая белыми шерстяными чулками:
- А я работала
- по молодежи,
- на «беркли» ботала
- всю ночь до дрожи.
- Агент полиции,
- служанка НАТО!
- Дрожа в прострации
- крыл хиппи матом.
- Опять вы, факкеры,
- вопите – Дэвис!
- А в мире фыркают
- микробы флюис!
- Агента по миру
- пустили босым,
- от смеху померли
- молокососы.
- Искали стычки
- Мари с Хуаном,
- в носы затычки
- с марихуаной…
- Толкнул гидальго
- Герреро в спину
- торговца падалью,
- и героином,
- потом кусочники
- на «Кадиллаке»
- меня запсочили
- в свои клоаки.
И нагулявшись до посинения носа, он, Гайдн, входил в кондитерскую Сан-Суси, чтобы съесть солидный валик торта, запив его жарким глинтвейном, что пахнет корицей и ванилью.
Затем хозяйка, пышная Гертруда, в лиловой кофте прятавшая дыни и в черной юбке кремовую арку ворот немецкого сладчайшего Эдема, за ширмой покровительствовала Гайдну.
А вслед за тем помолодевший Гайдн просил свечу и прямо там за ширмой записывал остатками глинтвейна финал концерта в четырех частях.
И старческий здоровый желтый палец, так гармонично чувствуя природу, уже предвидел нынешнее трио в безумном пьяном горе-городке.
Альберт Саксонский, Билли Квант и Шустер Давид Михайлович играли с вдохновением и с уважением выслушивали поочередные соло и вновь самозабвенно выпиливали и выстукивали концовки печальных, но жизнеутверждающих кварт.
Все четверо были очень пристойны и специально для этого вечера одеты в рыжие от старости фраки и ортопедические ботинки. Никто из четверки не носил модной в то пятилетие растительности за исключением Шустера с его ассирийской пересыпанной нафталином бородой.
Мы говорим «четверо», потому что трио едва не перерастало в квартет, к свече просилась флейта, и временами незримый коллега, тоже вполне приличный и печальный, подсвистывал на флейте. По вольности переводчика вокруг мансарды бродил Вадим, да-да – Вадим Китоусов.
Они ни к кому не обращались своей музыкой, но втайне надеялись, что не звуки, а хотя бы энергия звуков проникнет сквозь бит и пьяный гогот обобранных матросов тралового флота в подземный полусортир-полубар под железным цветком МАГНОЛИЯ, и там одна из девок в лиловой кофте и черной юбке почувствует своими высохшими ноздрями запах Гайдна, глинтвейна с корицей и ванилью, и во дворе притона прополощет рот и примет аспирину и выйдет в слякоть, в тот водоворот, где пьяные испанцы, негры, греки, шестого флота дылды-недоноски, шахтеры, жертвы дикой «дольче виты», растратчики в последних кутежах – все носятся от столба к столбу, от автомата к автомату, торопясь влить в себя что-нибудь и конвульсивно сократиться… и каждый встречный гадок, но каждого можно умыть Гайдном и пожалеть.
О нет, она не будет их жалеть – хватит, нажалелись! – а жалости женской достойны лишь самые храбрые, те трое – Альберт Саксонский, Билли Квант и Шустер – и четвертый невидимый.
- Для того-то они храбреют
- с каждым тактом
- с каждой квартой
- с каждым вечером на чердаке
- и наливаются отвагой,
- как груши
- дунайским соком,
- вот уж третий век
- для жалости.
- Ищи мансарду нашу,
- ведет тебя Вадим,
- там трое варят кашу,
- четвертый – Невидим.
- Задами рестораций,
- скользя по потрохам,
- пройди стену акаций,
- тебя не тронет хам.
- А тронет грязный циник —
- пером пощекочи
- и в занавес глициний
- скользни в ночи.
- Откинь последний шустик
- пахучих мнемосерд…
- …В окне малютка Шустер
- и крошечный Альберт,
- миниатюрный Билли,
- игрушечный рояль…
- Ах, как мы вас любили!
- И как вам нас не жаль?!
Так им хотелось, а на самом деле она давно уже спала на драном канапе, которое много-много лет назад ее дедушка, учитель сольфеджио из Тироля, изысканный и печальный бастард-туберкулезник, привез сюда, в субтропики, называя его семейной (у бастарда-то!) реликвией.
Она спала всем своим блаженным телом, блаженная лоснящаяся выдра, просвечивая гладкими ключицами сквозь лиловую сетчатую шаль и завернув бедра в черное и лоснящееся подобие бархата.
Может быть – пожалеем все-таки музыкантов – может быть, в этом глубоком сне ей казалось, что на краешек канапе присел ее прапрадедушка Гайдн и тихо гладит ее лицо своей большой губой, похожей на средневековый гриб-груздь из Шварцвальда. Во всяком случае, она спала, а Альберт Саксонский, Билли Квант и Дод Шустер
- заканчивали концерт
- с редким мужеством,
- с вдохновением,
- с уважением и благоговением,
- с высокой культурой, без всякого пижонства
- и лишь с самым легким привкусом
- ожесточения в последних тактах.
Вадим Аполлинариевич Китоусов тем временем, не подозревая ничего особенного, то есть нехорошего, сидел за пультом установки «Выхухоль», курил и, изредка поглядывая на приборы, следил за хитрыми перестроениями мю-мезонов.
Загнанные силой человеческого гения во внутренний дворик «Выхухоли», мю-мезоны теперь хитрили, делали вид, что никто их сюда не загонял, а вроде они сами сюда зашли… ну, предположим, для репетиции парада. Они торжественно маршировали колонной «по восемь», расходились двумя колоннами «по четыре», перестраивались, перебегали, формировали каре, расходились веером, концентрировались в овал, и все это движение было направлено к одной цели – скрыть, утаить от пытливого ума наблюдателей нечто единственное в своем роде, неповторимое, загнанное в «Выхухоль» через полые черные шары вместе с ними, но которое не отдадим никогда, ни за что.
По предположениям Великого-Салазкина, Ухары и Бутанаги, а также по выкладкам Эрнеста Морковникова, маршировка мю-мезонов должна была иссякнуть через некоторое время – то ли через полчаса, то ли через полгода, и тогда с вероятностью N = 172000 в глубине кадра мелькнет неуловимая Дабль-фью или хотя бы туфельку свою оставит. Велковески в Австралии выражал сомнение в успехе. Кроллинг почему-то надулся и ушел в себя, Могучий Громсон со скандинавской седловины напутствовал исследователей добродушным, но неприятным смехом.
Контрольный эксперимент проводился на дочерней установке «Барракуда» за много тысяч миль в неприсоединившемся государстве, и потому Великий-Салазкин из своего кабинета держал связь с коллегами, как говорится, «сидел на телефоне». Нетрудно было убедиться в этом, подойдя к его дверям с латунными застежками-пуговицами.
– Ну-ну, – слышался из-за дверей голосок В-С, – а крючок-то какой номер? Кончай-кончай, Велковески, заливать, мы не маленькие… Так… Так… Ну, хорошо… гуд, Велковески – верю… медаль, говоришь, за ркорд?.. конгретьюлейшнз тебе от всего сердца… я-то?.. а я на прошлый вторник судачка взял полета на мормышку… на мормышку… на мормышку… не веришь? обижаешь!
Вот так порой великие умы нашего времени борются со своим постоянным спутником – волнением. Автору не раз приходилось еседовать с великими умами о литературе, но рыбное дело помогает им больше.
Ну хорошо… Вадим Аполлинариевич, как уже было сказано, спокойно дежурил за пультом, не ожидая ничего нового, то есть дурного. Рядом с ним сидел подопечный аспирант Уфуа-Буали, уроженец города Форт-Лами, что в Экваториальной Африке, Китоусов добродушно шутил:
– Что же, Борис, получается? На дворе всего минус пять, а у тебя нос обморожен. Что же дальше-то будет?
Уфуа-Буали пылко парировал:
– Что вы ко мне берете с этим вашим моим носом? Что мне этот ваш мой нос, когда я-таки уже сижу перед этой чудненькой машинкой?
Аспирант говорил с дерибасовским акцентом, ибо окончил Одесский университет, и это было приятно Китоусову, потому что с Одессой его через Маргариту связывали родственные узы.
И вот задергались узы, зазвонило, загудело, замелькало на табло, в контрольный отсек всунулось сразу несколько физиономий:
– Китоусова к телефону! Вадим Аполлинариевич, на выход! Вадик, тебе Ритка звонит!
Такого за десять лет супружества еще не бывало – любимая звонит в разгар рабочего дня. Неужто соскучилась?
Аспиранты и техники следили за летящим доктором, и теплые улыбки освещали суровые лица. Все знали о слабости Китоусова, о его безумной и вдохновенной моногамии.
Ну вот она, трубочка, нежная мембраночка, телефончик мой, милый паучок, передай мне ласковую нотку.
– Оказывается, Китоус, у тебя есть своя собственная внутренняя жизнь?
Вот по таким, безусловно, по таким натянутым и острым нитям шел когда-то на казнь молодой Каварадосси.
– О чем ты, Рита?
– А вот об этом!
С еле сдержанной яростью она показала ему «это», но он не увидел «этого», хоть и старался, даже шею вытянул.
– Что там у тебя, Рита?
– А вот это! Не хитри и не финти! Я тебя, слава богу, знаю, Китоус! Все твои комплексочки у меня на ладони, а теперь и новые вылезли.
– Да о чем ты, Рита?
– Об этих твоих… не вздумай врать, будто я словечек твоих не знаю!.. Эти твои подстрочники… гениальные графоманские опусы… Я давно подозревала!
Уличенный в графомании стоял, опустив голову, в телефонном застенке. Теперь главное – вовремя спиной повернуться к проходящим коллегам, чтобы не видели багровой ряшки.
– И еще, понимаете ли, ев-ро-пей-ские! Это почему же они европейские, маэстро?
– А это я в Австрию ездил в прошлом году. Разве забыла?
– Уп-п-п!
Да она там просто взрывается, взрывается от ярости. Она только делает вид, что насмехается, а сама прямо клокочет, бедная девочка.
– Риток, да это просто так, от нечего делать…
– Когда это тебе было нечего делать? И… и… Китоус, не хитри, давай покончим с этим… Кто это к тебе там бежит по лужам… Что за баба?
Да ведь она ревнует! Маргарита просто ревнует! Она меня ревнует! Боже! Она от ревности бесится! О счастье! О слезы! О милая нагая красавица с разбуженным ревностью лицом! Ты стоишь на каменной лестнице, и волосы твои рассыпались по голым плечам, и груди торчат от ярости, все в тебе вздыбилось, все полыхает… всем страшно ходить мимо твоего крыльца, а ты и не замечаешь своей наготы, потому что ревнуешь любимого, а там, на горизонте, уже все почернело, и дикой ревностью до краев полон вулкан и так сейчас расколется – все статуи полетят! Лишь лист один кружит, летит к тебе на грудь, пожухлый лист каштана, один лишь просит о смирении…
– Да это, Рита, ты бежишь ко мне. Это воображение.
– Неправда! Я себя не узнаю! Это другая бежит!
– Да ладно тебе, Ритка! – ликующий голос Китоусова кружил вокруг трубки отнюдь не как пожухлый лист, а как вооруженный сладострастный жук-кусачка. – Да ладно тебе! Ну, лирическая героиня бежит. Да ну ее совсем! Ну выброси куда-нибудь, ну хоть в форточку! Где нашла-то?
– Мемозов принес!
– Что-о-о-о?
Недолго длилось торжество Вадима Аполлинариевича, и прервалось оно так же внезапно, как и возникло, – щелчок и кончено – майский полдень, жужжание и медосбор мгновенно испарились, и тут же заработали привычные системы. Как? Мемозов? Значит, она встречается с Мемозовым, а я даже не знаю? Что же я знаю?
Она лишь курит, курит и курит на своей тахте, а цвет лица между тем не портится. Да она нарочно разыграла здесь ревность, чтобы прикрыть свой адюльтерчик… свой романчик с этим ужасным сатанинским приезжим, с этим… Да-да, все ясно… какая искусная игра, вот тебе и тианственная Марго! Низость!
Но откуда у проклятого авангардиста мои «Подстрочники»? Да и как вообще все эти годы пропадали со стола мои перфокарты и почему они летали по воздуху там и сям?
Она проговорилась! Она, конечно, дала ему их сама, – но где она их поймала? – чтобы потом уже он дал их ей, или, наоборот, он дал ей их, чтобы она, дав ему их, позвонила мне и сказала, что он их дал ей, но не говоря, что взял у нее, чтобы потом уже ей подсунуть для гадкой мистификации.
О ревность с гладкой кожей, преследующая меня, как тень! О, если бы ты была плоской, как тень, и могла бы сокращаться к полудню и вытягиваться на закате. О нет, ты ложишься рядом со мной в постель и кладешь мне ладонь на живот, как жена. Ты – малярия и продираешь меня ознобом среди шумного бала, и в автобусе, и в кино. Ты ядовитый закат над столицей, ты – целое озеро, отражающее закат и блестящие катышки автомобилей, ты однажды зажала меня в колодец и едва не сомкнула свои тридцатые этажи, ты, облепившая мое тело, как мокрое шерстяное белье, ты – улетай!
Потрясенный, шаткий, бормочущий жалкие заклинания Китоусов спускался вниз, уровень за уровнем, в утробу Железки.
Надо сказать, что все институты и лаборатории Железки под землей были связаны друг с другом системой лифтов, тоннелей и переходов. Таким образом, можно было, не выходя на поверхность, попасть из тихого кабинета, где скромный географ меланхолически крутил глобус, выискивая на нем вмятины от плечей Атласа, в шумную залу, где нанизывали на нитки бусинки хромосом, а оттуда в лабиринты библиотеки, где гулко звучало слово «сапог», умноженное на двунадесять языков, а еще дальше – в микробную флору, в дебри агар-агара и выйти к подножию «Выхухоли» или к гигантскому треку, где шли адские гонки частиц, а дальше – оказаться в стерильном святилище, где с тихими, но многозначительными улыбками удаляют добровольцам червеобразные отростки… и так далее.
Такова была основополагающая мысль «китов» – наука едина!
Вадим Аполлинариевич с застывшей любезностью на лице входил в лифты, опускался по лестницам, вихлялся в тоннелях и сам не знал, куда идет. Коллеги, старые его товарищи, попадавшиеся навстречу, понимали все по его лицу и знали, куда он идет – в ИГЕН Вадюха плетется, к своему корешу Слону плакаться в жилетку, на Ритку стучать.
Великолепная десятиборческая фигура Павла Аполлинариевича стояла в углу кабинета, упираясь правой ногой в батарею отопления, левой ногой в пол, правой рукой в книжную полку, левой рукой себе в бок. Поза была, короче говоря, грустная, и взгляд, устремленный в окно на башенки обсерватории, торчащие из тайги наподобие семейки боровиков, взгляд тоже был невеселый. Что ж, немудрено загрустить после спектрального анализа яйцеклетки южноамериканского зверька ленивца или внедрения в ганглии прусского таракана.
В кабинете профессора Слона было много неожиданных и, казалось бы, не относящихся к генетике предметов: барабанная установка для институтского джаза, вратарская маска, вымпел лейб-гвардии гусарского полка… – но центральное место занимал огромный фотопортрет странной птицы цапли, которая стояла, поджав ногу, среди болотистой Европы, со смущенным и милым выражением своего дурацкого лица.
– Здравствуй, Павел, – вздохнув, сказал Китоусов.
– Садись, Дим, – не оборачиваясь, ответил Слон, все еще витая в разреженном пространстве уныния.
– Что это у тебя? Цапля? – спросил Вадим, лихорадочно соображая, как же подойти к теме, как же поведать обо всем, расколоться ли, поймет ли Пашка? – как будто уже сотни раз не раскалывался он в этом кабинете, не подходил к тебе, как будто не находил дружеской поддержки в трубных репликах Слона.
– Да, цапля! – вдруг сильно и твердо ответил Павел, снял ногу с батареи и повернулся к гостю, уже живой и наполненный чувством.
– Красивая птица, – промямлил Вадим, глядя на тусклосеребристый отлив оперения, на длинную ногу и виновато опущенный клюв болотной примадонны.
– Ага! Я знал, что тебе она понравится! – вскричал Павел и швырнул на стол кипу фотографий: прогулка цапли просто так, прогулка цапли кое за чем, разглядывание кое-чего, охота и поедание кое-кого и, наконец, цапля в полете – крупный план, средний и общий – над низким туманом, из которого поднимаются круглые кроны дерев сытой и влажной Восточной Европы.
– Она изящна! – с горечью сказал Вадим.
– Мало того! – опять же на высокой ноте, на крике подхватил Павел. – Она романтична никак не менее чайки, она, если хочешь, тианственна, как твоя Маргошка, и бабственна, как моя Наталья, но как она, бедная, робка и не уверена в себе, как она стыдится своих ног и клюва, своих лягушек, танцующих данс макабр в ее тесном элегантном желудке.
Цапля
Однажды я жил в Прибалтике, на песчаной косе. Получил койку в так называемом пансионате швейников. Пансионат был крошечный – на 15 мест – и плохой: простыни серые, вода ржавая, – да к тому же еще и фальшивый, ни одного швейника в нем, конечно, не было. Весь первый этаж с относительным комфортом заняло шумное кустистое семейство какого-то короля бытовой химии, и лишь на мансарде, сырой и ржавой, жили посторонние: Леша-сторож, Леша-слесарь и я.
Леша-слесарь отдыхал своеобразно. Открыл окно, сел возле него в трусах и в майке и стал играть на гармонии. Играет и курит сигареты, а спросишь о чем-нибудь – улыбается.
Леша-сторож ваньку валял, почти ничего не говорил, а мычал, притворялся слабоумным, таскал из леса огромные корзины грибов, обрабатывал их прямо в комнате и развешивал на сушку. Потом осенью я его встретил на Терентьевском рынке, в джинсах «Леви Страус» и в замшевой куртке, он там эти грибочки толкал по трешке за вязку. Все верно рассчитал чувак: год-то был негрибной, мирный год сосуществования.
Не знаю уж, как я оказался в этом пансионате, то ли диссертацию собирался закончить, то ли от Наташкиного бабизма сбежал в очередной раз, дело не в этом, а в том, почему я там оставался. Я тогда на подъем был легок, и гроши уже водились, мог в один момент перелететь куда-нибудь в Коктебель, в пещеру, к своим ребятам в Сердоликовую бухту.
Пансионат этот стоял на отшибе на плоском лугу, окаймленном большими деревьями, а за ними сквозил туман и гниль какая-то. Казалось бы, полная и удушающая глухомань, но, странное дело, по ночам меня охватывало волшебное, может быть, даже поэтическое ощущение «всего мира».
По ночам, изнемогая от запаха прелых грибов, я выходил на терраску и слышал крики какой-то птицы, глухие, тревожные и как будто стыдливые, а потом доносился шум больших крыльев, и совсем рядом, в темноте, я чувствовал чей-то тяжелый, неуклюжий, но неудержимый полет. Это была цапля, старик. По ночам она зачем-то летала в Польшу.
Это я узнал позже, а в первые ночи я просто слушал ее крики, ее полет и чувствовал какое-то восторженное волнение, прелесть и сырость жизни, природы, кипень листвы по всей Европе, от Урала до Гибралтара, и все ее спящие города, гулкие ночные улицы и невыразимую – тианственную, – старик, женственность ночи. Мне хотелось куда-то сорваться, помчаться, покатить, чтобы поймать очарование, но я был уже зрелым и битым и знал, что при малейшем движении все исчезнет, и потому стоял и прислушивался к угасающим крикам.
– Цапля-уука уукает, уадла, – однажды прогундосил в комнате Леша-сторож. Он ведь был художником, непризнанным гением, и цапля ему тоже не давала спать.
Рано утром, в тумане, она возвращалась из Польши в наш заливчик, и однажды я вышел ее встречать. Вначале в густом и грязноватом молоке слышался только нарастающий шум крыльев, потом солнце посеребрило водяные капли, туман рассеялся, обозначилась некая даль, и прямо на меня вылетела большущая дурацкая птица. Она увидела меня и попыталась резко свернуть, но это у нее не получилось, она неуклюже ухнулась на нижний этаж и полетела вдоль берега, таща за собой ноги с выпирающими коленками, оттянутые назад с претензией на стремительность. Она пролетала совсем близко и даже глянула на меня своим круглым глазом, который у нее располагается прямо над клювом, а клюв, то есть рот, сложен у нее в глуповатую и застенчивую улыбку, а взгляд ее говорит: ах, я знаю, как ужасны мои ноги, что так нелепо, как тяжелые сучья, тащатся за мной в полете, ах, я несчастна!
С тех пор я встречал ее не раз, может быть, каждый день. Скажу больше, старик, я искал встреч. Я выходил на гребешок дюны над мелкой, проросшей травой заводью, садился и ждал цаплю, и она появлялась из-за мыса и застывала с поднятой ногой при виде загорелого мужчины, то есть меня, останавливалась, как дурнушка-переросток, скованная смущением.
А ночью я ее, к сожалению, не видел, а слышал лишь крики, тревожные, глухие и страстные, и шум крыльев. Может быть, в Польше у нее был друг и она летала на рандеву? Вообрази себе любовь цапли, старик. Разве не продирает тебя по коже озноб жалости, неловкости, восторга?
Однажды, ближе уже к осени, я встретил ее на автобусной остановке. Успокойся, мой друг, это шутка, гипербола, художественное преувеличение.
Была ночь, и лил дождь, и я зашел под навес остановки перекурить. Чиркнул зажигалкой и увидел в углу понурое существо, девочку-цаплю. Вода стекала с ее слипшихся волос и с коротенькой болоньи, и под голенастыми ногами натекла лужица, а в глазах вот все это и было – там жила цапля с ее стыдом, мольбой и надеждой на встречу. Сначала я опешил, а потом заговорил с ней, но она отвечала непонятными междометиями и короткими фразами на местном языке.
Что же получалось? Да ничего, как обычно, ничего не получалось. Она уехала, а вскоре и я уехал. На несколько лет я забыл про эту птицу, а вот сейчас, старик, скоро мне уже сорок, и я все чаще думаю о ней. Мне хотелось бы внедриться в ее генокод, старик, отыскать ту хромосому, которая не давала спать мне и Леше-сторожу и вызывала ощущение «всего мира», этого летучего, мгновенно испаряющегося аромата, который могут поймать только юные ноздри, да и то не всякие…
Павел Слон выглядел несколько смущенным, хотя и похохатывал временами и слегка нажимал ногой педаль барабанной установки. Вадим курил уже третью сигарету и молчал. Вот и поговорили «на тему», и ничего не скажешь, чуткий Пашка мигом уловил «мое» и соединил его со «своим», вот и получилось, что теперь вроде бы и нелепо говорить о каком-то Мемозове.
– Смешно сказать, – тихо проговорил он, – но это вроде бы похоже на нашу «Дабль-фью». Надо бы с В-С поделиться. Не находишь? Знаешь, Паша, я хотел бы тебе дать почитать кое-какие подстрочники… ты бы…
– Конечно, – весело сказал Слон. – Обязательно дай или еще лучше вслух почитай. Я люблю, когда ты читаешь. Купим пива, заберемся куда-нибудь и почитаем. Идет?
– Но этого сейчас нет у меня, – с досадой поморщился Китоусов, и тяжесть подозрений, связанных с «этим», тяжесть предстоящего разговора с женой снова омрачила его дух.
Тут зазвонил телефон. Павел снял трубку.
– Это зоопарк? – услышал со своего места Вадим комариный, злодейски-настырный голос.
– Да, Слон у телефона, – спокойно ответил Павел Аполлинариевич.
Уж к чему к чему, а к этим шуточкам можно привыкнуть за сорок лет с такой фамилией.
– Мемозов звонит, – сказал Павел Вадиму, прикрыв трубку. – Ищет меня и тебя.
– Мемозов! – вскричал Вадим Аполлинариевич, вскакивая и непроизвольно хватая барабанные палочки.
–..-ё-ё, – насмешливо зудел рядом комарик. – Вадик-то вскочил с барабанными палочками! Прямо «Мститель из Эльдорадо»!.. – ё-ё, каков интеллектуал! А где самоконтроль, Вадим Аполлинариевич?
Китоусов выхватил у Слона трубку.
– Вы! Мемозов! Это вы?! Да чао, чао, черт вас побери! Молчите! Где вы взяли мои подстрочники, мои перфокарты для передачи моей жене или почему вы отдали их ей после того, как она их вам передала, сама не зная, откуда они у нее взялись, скорее всего, от вас, а затем изображаете? Почему вы не отвечаете?
– Молчу, – гмыкнул Мемозов. – По вашему приказу.
– Отвечайте!
– Пожалуйста. Это насчет тех листочков, что ли, Вадим, которые выпорхнули из вашей форточки, когда я ночью колдовал на пустыре возле вашего дома и будировал ваше воображение обыкновенным магнитофоном с записью криков цапли, насчет этого, что ли? Да я их тут же подхватил и отдал, не читая, вашей лучшей половинке, а она спать хотела и тоже не стала читать. Это что-то ваше интимное в манере раннего Вознесенского, не так ли? Между прочим, огорчу вас, устарел ваш любимый поэт, на свалочку пора!
– Да вы… да вы… – давно уже продирался Вадим сквозь трескотню авангардиста со своим «да вы». – Да вы, Мемозов, кто такой? Чем вы у нас тут в Пихтах занимаетесь?
– Кто я такой и чем занимаюсь, это выяснится позднее, а вот вы нытик, Аполлинарьич. Свалка по вас тоже тоскует. Не знаю уж, почему это женщины из-за вас с ума сходят.
Китоусов задохнулся от оглушительной ураганной новости.
– Это кто же сходит?
– Да вот подруга вашего друга, который сейчас не иначе как на подоконнике сидит во вратарской маске, прямо, между прочим, задохнулась вчера в «Угрюм-реке», когда речь зашла о вас. Кстати, у мадам Натали сегодня день рождения, вы не забыли? Бальзаковским дамам лучше не напоминать об этих сладостных датах, они никогда не испытывают свойственных мужчинам эмоций гордости своим стажем, пройденным путем, но все-таки мне кажется, многодетная мать-слониха будет рада, если предмет ее грез – о грезы сибирских интеллектуалочек! – явится к ней с букетиком бельгийских скоростных гвоздик без запаха, но с намеком.
– Вы думаете? – опять же неожиданно для себя задумчиво-деловым тоном спросил Вадим. Он чувствовал поразительную новизну жизни, как будто комнату наполнили вместо воздуха каким-то другим, живительным газом. В него влюблены?! Некто влюблен в него? Некая женщина влюблена в Китоусова и даже чуть не задохнулась от волнения в салоне «Угрюм-река»? Наташка, жена моего ближайшего кореша, да что же это такое? Фантастика!
Услужливая романтическая память тут же включила палубу черноморского теплохода, бакланов за кормой, далекий серый горизонт, музыку из динамика, а если, мол, узнаю, что друг влюблен, а я на его пути… О, как распахнуты дали земли, от Констанцы и до Батуми!..
– Чего он там? – с добродушной улыбкой сквозь прорези вратарской маски спросил Слон.
– Да так, трепология… – снова неожиданно для себя скрыл, утаил, припрятал от друга подарочек Вадим.
– Ну и типчика вывез В-С на этот раз из столицы, – вздохнул Слон. – Далеко не самый шикарный экземпляр!
– Передайте трубку Слону! – тут же скомандовал Мемозов и закричал уже Павлу в ухо: – Я, собственно, вам звоню по вопросам культурного роста. Намечаю одно спиритуальное действо под названием Банка-73, но, заметьте, без капли алкоголя. Постараюсь доказать, что я именно тот самый шикарный экземпляр и лучшего в столицах не найти. Короче, продырявлю слоновью шкуру. Эх, горе-олимпийцы! На свалочку! На свалочку! Придете? Не струсите? Кстати, чтоб вас заинтересовать, сообщаю, что известная вам тианственная красавица тоже будет…
– А при чем тут… – Павел хотел сказать: «При чем тут Ритка?» – но поперхнулся и, глянув на друга, добурчал: —…это? При чем тут это?
– Да так, – лукаво замялся Мемозов, – так, между прочим, может быть, и нет ничего, может быть, только показалось.
– А что вам показалось? – железным голосом спросил Слон. Он стоял теперь, отвернувшись от Вадима, выпрямившись и расставив ноги, рыцарская фигура в дурацкой маске. Он видел себя краем глаза в зеркале и не узнавал, казался себе каким-то совершенно новым, несгибаемым и ужасным существом, каким-то нибелунгом.
– Да так, знаете, может быть, у Ритатульки просто запоздалые романтические толчки, – гнусавил Мемозов в трубку. – Знаете, красавицы – сейчас редкие птички… ну, мы беседовали с ней о любви как о творческом акте… ну, и она сказала, но не мне, а как бы на ветер, как бы в форточку… уж если, говорит, любить, то только слона. Может, она и не вас имела в виду…
Мемозов выскочил из телефонной будки, прыгнул в седло своей алюминиевой стрекозочки и покатил вдоль бульвара Резерфорда, всем на удивление, крутя педали кривоватыми ногами, управляя мощным торсом, звеня руками, ртом напевая жестокую импровизацию, горя глазами, полыхая шевелюрой, то ли артист, то ли хиппи, то ли беглый ассириец из Ирана. Милиция города Пихты его не задерживала, думая, что это новый тип научного человека.
Между тем кто же такой Мемозов и распространенный ли, действительный ли это тип? Читатель вправе развести руками и сказать с резоном, что среди его знакомых таких или похожих персонажей нет. И в самом деле – редкость. Вот автор, собиратель разных типов, делился с друзьями сомнениями, спрашивал: не встречался ли им – а они тоже собиратели типов – какой-нибудь второй Мемозов, ведь там, где пара, там уже явление. Нет, отвечали друзья, вторые нам не встречались, а Мемозов – кто ж не знает – не далее как вчера он нам (мне) звонил, приходил со своим орлом, звал пить вытяжку из коренных зубов каспийского морзверя, Мемозова мы (я) знаем.
Что ж добавить? По слухам, когда-то был мальчик не из последних дюжин, но и не выделился в процессе высшего образования во что-то совсем уже необыкновенное. Потом куда-то исчез, что-то передумал, для чего-то созрел и вот появился неузнаваемым, победительным отрицателем шестидесятых и неким альбатросом нарождающихся семидесятых, молодым человеком в зоне первого старения, то есть в самом сочку-с да к тому же обогащенный парапсихическими талантами, ну, то есть сгусток нечеловеческих энергий: телепатия, телекинез, йога, хиромантия, иглоукалывание, черный юмор, древняя магия, лиловое колдовство, а где зарплату получает – никому не известно.
Одно время в ресторане и во всех трех буфетах ОДИ целую неделю только и разговоров было о Мемозове. Звали в гости на Мемозова, соревновались в услугах Мемозову. Он был окончательным судьей в оценке вещи, пьесы, лица, фигуры. И вдруг, говорят, все у него полетело. Говорят, какие-то козни, говорят, паутина неудач, будто бы кто-то салфетками по носу отхлестал и назвал «оценки» сплетнями. И вот канул, ушел на дно. Без всякого сомнения вынырнет, но кем? Мельмотом? Аквалангистом? Кашалотом? Иль фигою мелькнет иной? Пока что канул.
Но куда ж он канул? Это для вас, изысканные комильфоты с Разгуляя, может быть, Мемозов и канул в тартарары, а для нас вот он катит, бренча бубенчиками, звеня бубнами, подвывая импровизацией, не велосипедист, а биокинетическая скульптура, катит к торговому центру «Ледовитый океан».[90]
В торговом центре тем временем проходила аудиенция директора Крафаилова и главного дружелюба Агафона Ананьева.
– Где партия итальянского джерси? – с мучением, с тоской, с невидимыми миру слезами спрашивал директор.
Боже ты мой, здесь, рядом с величественной Железкой, рядом с сокровенной тайной сосуществует древнее затхлое псевдоискусство воровства, мышиные катышки?
– Это остров такой есть – Джерси, – Агафон Ананьев затуманился, как капитан дальнего плавания.
– Что? Что? Что? – Стальные обручи криминального абсурда давили чело Крафаилова.
– Вы же мне сами говорили, Ипполит Аполлинариевич, чтоб я книжки читал, – обиженно заныл Ананьев. – Вот я прочел про остров Джерси в Иракском море.
– В Ирландском! – вскричал Крафаилов и тут же схватил себя левой кистью за правое запястье и толчками пальцев отогнал кровь из опасного органа – кулака, которому порой несвойственна толерантность.
– Где джерси? – тихо, душевно, глубинно повторил он свой вопрос и глазами миссионера заглянул в ананьевские квасные бочаги. – Отвечайте мне, Агафон, по-человечески. Сплавили в Чердаки?
Вот злой «Карфаген» у Ипполита Аполлинариевича под боком – проклятые Чердаки: некогда было большое разбойное село, сейчас обычный райцентр, с обычным, отнюдь не плохим, ничем не хуже пихтинского снабжением. Так нет, почему-то карфагеняне, то бишь чердаковцы, свято верили в то, что «физикам подбрасывают», и каждое утро от автобусной станции двигалась процессия с мешками за дефицитом. Хватали пластмассовых коней, по пять-шесть штук. В чем дело? Зачем? Лукавили: для деток, а сами точно и не знали, зачем им лошади; может, гены жиганские пошаливали?
– Ипполит Аполлинариевич, вы меня знаете, – плакал уксусными слезами Агафон Ананьев и подбрасывал из портфеля на стол начальнику бумагу за бумагой, крупные листья с резолюциями, четвертушки коротких указаний, дактилоскопические шедевры накладных. – Вот вся документация перед вами, и душа моя, как этот портфель, чистая перед вами, за исключением умывальных принадлежностей. Вы, Ипполит Аполлинариевич, помните, как польское мыло у нас пошло? Помните! А за истекший квартал подвоз был по части канцпринадлежностей ниже среднего. Я ему говорю: что же, Бескардонный, вы нас опять на лимит с полотенцами взяли, а он мне анекдот про дирижабль рассказывает, как будто я не знаю, живя в научном центре. Вот получается, Ипполит Аполлинариевич, просишь гвозди – дают мыло, просишь доски – дают чай, но все-таки, врать не буду, автомобильные сиденья у нас не затоварились, и дружелюбием, Ипполит Аполлинариевич, покупатель доволен. Часто выходит со слезьми.
Таким образом, Агафон Ананьев полностью исчерпал вопрос об итальянском джерси и сразу успокоился.
– Эх, Агафон-Агафон, Агафон-Агафон-Агафон, – горько прошептал Крафаилов, растрепал предложенные бумаги и отвернулся в окно. За окном на ветке хвойного растения покачивался ворон Эрнест одна тысяча четыреста семьдесят второго года рождения. Значит, и Августин где-то здесь рыщет, милый друг, все его любят, да и как не любить разумное существо?
Агафон Ананьев снова заплакал:
– Вы меня, Ипполит Аполлинариевич, подняли со дна жизни, вовек не забуду, обучили английскому языку. Да я ради «Ледовитого океана» ни жены, ни тещи не пожалею, а ради вас, Ипполит Аполлинариевич, что хотите… даже вот свой «сок и джем» не пожалею!
– Позвольте, Агафон, но фургончик не ваша собственность! Он принадлежит «Ледовитому», а следовательно, Министерству торговли, а далее – государству, народу!
Крафаилов даже встал и застыл со своей загипсованной рукой. Застыла и левая его рука в середине кругового объясняющего жеста.
Ананьев тоже встал и вытер слезы рукавом, все сразу. Обиженно поджав губы, он удалился в угол, рванул из кармана беломорину, смял в зубах. Не любил дружелюб, когда кололи ему глаза фургончиком, даже друзьям не прощал.
Неизвестно, сколько времени продолжалось бы молчание, если бы вдруг не открылась дверь и в кабинет не въехал бы заморский путешественник на жужжащем велосипеде.
– Невилатронгвакарапхеу, – приветствовал иностранец присутствующих на незнакомом языке «лихи». – Время убегает, господа негоцианты, а человечество ждет наших усилий, как сказал Марко Поло на приеме в Гуанчжоу.
Агафон Ананьев при виде иностранца преобразился, весь задрожал: «May I help you?» – и разлетелся с мокрыми вихрами и беломориной на манер дружелюба-полового из трактира «Тестофф», что на рю де Риволи в самом конце. Иностранец же сел прямо на директорский стол и жестом показал, что в помощи не нуждается.
– Ну как, Мемозов, вы у нас здесь акклиматизируетесь? – с профессиональным дружелюбием, но без чувства спросил Крафаилов.
– Вполне, – ответил гость, полируя ногти директорским пресс-папье. – Вчера, например, по соседству в Чердаках купил себе джерси.
– Так, – твердо сказал Крафаилов и всю ненужную документацию смахнул в ящик, а ящик задвинул с треском.
– В Чердаках? – растерянно прищурился на Мемозова Агафон.
– В Чердаках!
– Джерси?
– Джерси!
– И почем же?
– По рублю!
– Ха-ха, – Ананьев ожил и очень запрезирал фальшивого иностранца. – Вы слышите, Ипполит Аполлинариевич, джерси купил по рублю!
– Чучело музейное, веник! – мягко обратился Мемозов к старшему дружелюбу, и обращением этим просто ошеломил Крафаилова: какое неожиданное и ослепляющее оскорбление – веник!
Войти и прямо с порога так метко оскорбить старшего дружелюба! Крафаилов даже замер, ожидая развития событий, но развития не последовало. Агафон усмехнулся на оскорбление и снова зауважал «иностранца».
– Скоро все будет стоить рубль, – сказал Мемозов Ананьеву. – Готовится реформа. Как так? А вот так – в экспериментальном порядке на месяц вводится система «один рубль». Дача с мансардой – один рубль, спичек коробок – тоже рубль. Понял, веник? Путевка за границу – рубль, стакан воды – рубль. Дошло?