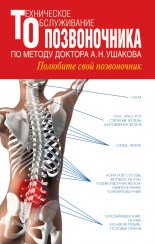Гибель Помпеи (сборник) Аксенов Василий

Молодых романтиков, да причем не карикатурных, не из кафе «Романтика», не тех, у которых «сто дорог и попутный ветерок», а настоящих романтиков с задних скамеек институтских аудиторий, – вот таких Великий-Салазкин изрядно опасался. Возможно, начинали они с «морского боя», с «балды», но потом уже появились и томики Хемингуэя, и собственная записная книжечка, где разрабатывались разные варианты «моей девушки», и наконец выковался тип современного романтика – эдакого мрачноватого паренька, стриженного ежиком, за плечами которого обязательно предполагаются разрушенные мосты и сожженные корабли, «который плюнул на все» и явился сюда, в глухомань, чтобы больше уже не вспоминать «их городов асфальтовые страны». Есть среди них вполне толковые ребята, но ведь кто поручится, что завтра романтик не «махнет на Тихий», не сменит лабораторный стол на палубу китобойца, дрейфующую льдину, заоблачный пик, чтобы сколотить себе в актив настоящую мужскую биографию.
Однажды в прозрачный августовский вечер Великий-Салазкин прогуливался за околицей города, прыгал с кочки на кочку, собирал бруснику для варенья, размышлял о последней выходке старика Громсона, который заявил журналу «Плейбой», что его многолетняя охота за частицей Дабль-фью суть не что иное, как активное выраженье мужского начала.
Тогда и появился первый из племени романтиков, наитипичнейший.
Он спрыгнул на развилке с леспромхозовского грузовика и пошел прямо в Пихты, а В-С из-за куста можжевельника наблюдал его хорошее романтическое лицо, сигарету, приклеенную к нижней губе, толстый свитер, желтые сапоги гиппопотамьей кожи и летящий по ветру шарфик «либерте-эгалите-фратерните». Когда он приблизился, В-С пошел вдоль дороги, как бы по своим ягодным делам, как бы посвистывая «Бродягу».
– Эй, добрый человек, далеко ли здесь Пихты? – спросил приезжий.
– Да тут они, за бугром, куды ж им деваться? – В-С раскорякой перелез через кювет и пошел рядом. – А нет ли у вас, молодой человек, сигареты с фильтром?
– Зачем тебе фильтр? – удивился приезжий.
– Для очищения от яду, – схитрил В-С, а на самом-то деле он хотел по сигарете определить, откуда явился романтик.
– Я, брат, солдатские курю, «Лаки страйк», – усмехнулся приезжий и протянул лесовичку пачку «Примы» фабрики «Дукат».
– Из столицы, значит? – спросил Великий-Салазкин, крутя в пальцах затхлую полухудую сигаретку, словно какую-нибудь заморскую диковинку.
– Из столицы, – усмехнулся приезжий. – Точнее, с Полянки. А ты откуда?
– Мы тоже с полянки, – хихикнул В-С и даже как-то смутился, потому что этот хихик на лесной дороге да в ранних сумерках мог показаться и зловещим.
Однако романтик был отнюдь не из тех, что дрожат перед нечистой силой.
– Вижу, вижу, – сказал он. – По ягодному делу маскируешься, а сам небось в контакте с Вельзевулом?
– Мы в контакте, – кивнул В-С, – на столбах, энергослужба.
– Понятно, понятно, – еще раз усмехнулся романтик, и видно стало, что бывалый. – Электрик, значит, у адских сковородок?
– Подрабатываем, – уточнил Великий-Салазкин. – Где проволочка, где брусничка, где лекарственные травы. На жизнь хватает. А вы, кажись, приехали длинный рублик катать?
– Эх, брат, где я только не катал этот твой рублик, – отвлеченно сказал романтик, и тень атлантической тучки прошла по его лицу.
– А ныне?
– А ныне я физик.
– У, – сказал Великий-Салазкин. – Эти гребут!
– Плевать я хотел на денежные знаки, – вдруг с некоторым ожесточением сказал приезжий.
«Во-во, – подумал В-С. – Приехал с плеванием».
– А чего ж вы тогда к нам в пустыню? – спросил он.
– Эх, друг, – с горьким смехом улыбнулся неулыбчивый субъект. – Эх, кореш лесной, эх ты… если бы ты и вправду был чертом…
– Карточку имеете? – поинтересовался В-С.
– Что? Что? – приезжий даже остановился.
– Карточку любимой, которая непониманием толкнула к удалению, – прошепелявил Великий-Салазкин, а про себя еще добавил: «И к плеванию».
– Да ты и правда агент Мефистофеля!
Молодой человек остановился на гребне бугра и вынул из заднего кармана полукожаных штанов литовский бумажник и выщелкнул из него карточку, словно козырного туза.
Великий-Салазкин даже бороденку вытянул, чтобы разглядеть прекрасное лицо, но пришелец небрежно вертел карточку, потому что взгляд его уже упал на Железку.
– Так вот она какая… Железочка… – с неожиданной для романтика нежностью проговорил он.
– Что, глядится? – осторожно спросил В-С.
– Не то слово, друг… не то слово… – прошептал приезжий, и вдруг резко швырнул карточку в струю налетевшего ветра, а сам, не оглядываясь, побежал вниз.
Академик, конечно, припустил за карточкой, долго гнал ее, отчаянно метался в багряных сумерках, пока не настиг и не повалился с добычей на мягкий дерн, на любимую бруснику.
В наши кибернетические дни воспоминанием об этой встрече с осенних небес на руки Великому-Салазкину слетел обрывок перфокарты. Стоит ли напоминать, что всякий грамотный человек может прочесть в этих «таинственных» дырочках стихи
№ 18
- В брусниках, в лопухах,
- в крапивном аромате,
- в агавах и в шипах
- шиповника и роз,
- в тюльпанах, в табаке,
- в матером молочае,
- в метели матиолл,
- как некогда поэт,
- как некогда в сирень,
- и в желтом фиолете,
- желтофиолей вдрызг,
- как некогда дитя,
- расплакался старик,
- тугой, как конский щавель,
- Кохана, витер, сон
- Их либе, либе дих…
Позднее Великий-Салазкин выяснил, что имя первого в Пихтах романтика – Вадим Китоусов. Несколько раз академик встречал новичка в кафе «Дабль-фью», но тот обычно сидел в углу, курил, пил портвейн «По рупь-сорок», что-то иногда записывал у себя на руке и никогда его не узнавал.
В-С через подставное лицо спустил ему со своего Олимпа тему для диссертации и иногда интересовался, как идет дело. Дело шло недурно, без всякого плевания, видно, все-таки не зря пустил Китоусов по ветру волшебное самовлюбленное лицо. Нет, не собирался, видимо, романтик подаваться «на Тихий», оказался нетипичным, крутил себе роман с Железкой и жил тихо, а тут как раз и Маргаритка появилась, тут уж и состоялось роковое знакомство.
Ах, это лицо, самовлюбленное лицо юной пигалицы из отряда туристов, что бродили весь день по Пихтам и вглядывались во всех встречных, стараясь угадать, кто делал атомную бомбу, кто болен лучевой болезнью, а кто зарабатывает «бешеные деньги». Туристы были из Одессы, и, собственно, даже не туристы, а как бы шефы, как бы благодетели несчастных сибирских «шизиков-физиков», поэтому привезли пластмассовые сувениры и концерт.
Великий-Салазкин, конечно, пошел на этот концерт, потому что пигалица в курточке из голубой лживой кожи поразила его воображение. Ведь если смыть с этого юного лица пленочку самолюбования, этого одесского чудо-кинда, то проявятся таинственные и милые черты, немного даже напоминающие нечто неуловимое… а вдруг? Во всяком случае, должна же быть в городе хоть одна галактическая красавица, так рассуждал старик.
Пигалица малоприятным голоском спела песенку «Чай вдвоем», неверной ручкой взялась за смычок, ударилась в Сарасате. Присутствующие на концерте «киты» шумно восторгались ножками, а Великий-Салазкин с галерки подослал вундер-ребеночку треугольную записку насчет жизненных планов.
На удивление всем пигалица ничуть не смутилась. Она, должно быть, воображала себя звездой «Голубого огонька» и охотно делилась мыслями о личном футуруме.
– Что касается планоу, то прежде всехо подхотоука у УУЗ. Мнохо читаю классикоу и четвертого поколения и, конечно, бэз музыки жизнь – уздор!
– Ура-а! – завопили «киты», а В-С подумал, что южный акцентик интеллигентной карменсите немного не к лицу. С этим делом придется поработать, решил он и тут же подослал еще записочку: «От имени и по поручению молодежи прихлашаю в объединение БУРОЛЯП, хде можно получить стаж и подхотоуку». Дарование прочло записку и лукаво улыбнулось – ну просто Эдита Пьеха.
– Товарищ приглашает меня в БУРОЛЯП, а между прочим, товарищ сделал четыре храмматические ошибки.
Да, видно, ничем не проймешь красавицу, читательницу четвертого поколения и представительницу пятого.
В-С пришел домой, в пустую, продутую сквозняками пятикомнатную квартиру и ну страдать, ну метаться – останется, не останется? Итог этой ночи – десять страниц знаменитой книги «Оранжевый мезон».
В дальнейшем ночи безумные, одинокие, восторг, ощущение всемирности стали слабеть – 8 страниц, пять, одна и, наконец, лишь клочок обертки «Беломора», головная боль, неясные угрызения совести. В таком состоянии В-С явился ночью в 6-й тоннель БУРОЛЯПа и вдруг увидел: за сатуратором сидит чудо-ребенок, сверкающий редкими природными данными и будто бы от подземного пребывания немного помилевший. Дева Ручья! Стакан, еще стакан, еще стакан… и вновь весна без конца и без края, и стеклярусный шорох космических лучей, и буйство платонического восторга, новые страницы. Весь мир удивлялся в те дни плодовитости «сибирского великана», но никто не знал, что источник – рядом и живая вода суть обыкновенная несладкая газировка.
Лишь Маргарита, пожалуй, догадывалась о чувствах академика, о близости лукавой нечистой силы, о возможности оперного варианта по мотивам Гуно «Душа – Маргарита – адские головешки». Женщина, даже несовершенная, конечно, обладает несвойственным другому полу нюхом на любовь.
Ребро
И вновь за столом в стиле «треугольная груша» начал назревать афоризм.
ВАДИМ АПОЛЛИНАРИЕВИЧ КИТОУСОВ: Что есть женщина?
МАРГАРИТА: Вот это уже интересно. Прошу тишины. Китоус размышляет о женщинах. Мемозик, слушайте, не пожалеете – это большой знаток.
МЕМОЗОВ: А я уже вострю карандаш, мой одиннадцатый палец.
КИТОУСОВ: Книга гласит, что Ева сделана из ребра Адамова, но прежде еще была Лилит, рожденная из лунного света. Некоторые утверждают, что женщина суть сосуд богомерзкий. Другие поют, что женщина суть оболочка любви. Человек ли женщина, вот в чем вопрос. Человек или сопутствующее человеку существо? Отнюдь не унижаю, нет. Может быть, существо более сложное, чем человек? Женщина храбрее мужчины в любви. Может быть, это существо более важное, чем человек? Может быть, как раз человек сопутствует женщине? Не будем сравнивать. Главное – это разные существа. Не подходи к женщине с мерками мужчины.
Ошарашенное молчание за столом было взорвано вопросиком.
МЕМОЗОВ: А с чем же прикажете к ней подходить?
В глубине взрыва Китоусов сидел, положив на руки осмеянную голову.
МАРГАРИТА: Бедный Китоус, не злись на Мемозика. Он дитя. А между прочим, на повестке дня – ШАШЛЫК НА РЕБРЫШКАХ!
В далекие дни Маргарита встречала Великого-Салазкина каждый день в своих разных качествах: то скучающая леди, то полнокровная спортсменка, то пылкая поэтесса, то шаловливая нимфа. Искала девушка свой образ и для этого опять же бороздила литературу четвертого поколения – образ современницы!
Великий-Салазкин, спрятавшись за бетонной ногой шестого тоннеля, следил, как шуруют вокруг сатуратора его «киты», как они хохмят с новым сотрудником и как она отвечает. Девушка охотно контактировала с мудрыми лбами, интересовалась мнениями по литературе, шлифовала свои «г» и «в», эту память о Привозе, где папочка заведовал киоском по производству Нефертити. Вскоре Маргарита уже была своей девушкой, своим пихтинским кадром, и в одном только она вставала поперек голубым «китам»-первоборцам – в их любви к Железке.
– Ну, что вы в ней нашли особенного? Допускаю, в ней есть какое-то очарование, но, согласитесь, ведь это всего-навсего обыкновенная научная территория. Ведь не Клеопатра же, не Нефертити, и ничего в ней нет обворожительного, просто милый шарм. Не больше.
Иные «киты» ворчали:
– Ишь ты, шарм… Тоже мне…
Другие смеялись:
– Ревнует Ритуля…
Великий-Салазкин, спрятавшись за бетонной ногой, следил, вздыхая. Увы, он знал, что в одну прекрасную ночь в тоннеле № 6 появится какой-нибудь романтик, и молил небеса, чтобы оказался тот без морского уклона, чтобы только не уволок карменситку куда-нибудь «на Тихий», в сельдяное царство, в бескрайний пьяный рассол. Пусть это будет какой-нибудь Вадим Китоусов, что ли…
Внутренний монолог Великого-Салазкина
А то, что мне самому причиталось по романтической части, все обвисло в конечном счете на моей соединительной черточке, на злополучной этой дефиске, без которой, как уже было сказано, моя персона невозможна.
Когда-то было время, не скрою, расцветал дефис глициниями, резедой, гиацинтом, кудрявился вечнозеленой шелушней, как грудь эллинского лешего из аттических дубрав. Когда-то – помнишь, тетеря, – Студенточка-Заря-Вечерняя ждала и тебя на фокстротном закате, но центрифуга была заряжена на пять часов, и имелись значительные трудности с электроэнергией, и пачка нераспечатанной корреспонденции из Ленинграда и Копенгагена лежала на столе, и ты вдруг в ужасе подумал о задержке, которая произойдет, если ты отправишься сейчас в закатные манящие края, подумал затем о своем любимом ярме, которое никому не отдашь и не обменяешь на фокстрот, на жаркую охоту в лунной Элладе, и дернул гирьку институтских ходиков, и гирька в соответствии с законом великого Исаака пять часов падала на пол и… упала!
Дефиска могла стать бархатным пуфиком, но не стала. Словно коленчатый вал, она крутила все мои годы, темнела и старела, но не ржавела, однако.
Теперь иногда одинокость кажется мне одиночеством, и я минуту за минутой вспоминаю ту ночь и падение чугунной болвашки и жалуюсь Мирозданию, что меня обделили романтикой, и Оно, милосердное, шлет мне свою посланницу, и та глядит на меня сквозь форточку ночами очами вечной черноты и ободряет: старик, мол, не трусь – все впереди! С вами бывает такое, одинокие сверхпожилые мужчины?
Вот так прошли годы, и все устоялось. Научный мир привык к Железке, привык прислушиваться к ее львиному рыку, принюхиваться к ее флюидам, вчитываться в ее труды и вместе с ней играть в тяжелую игру, доступную лишь титанам, передвигавшим горы в пустынные земные времена. Теперь на любой конференции в любой точке мира можно было услышать: «по последним данным Железки»… «как свидетельствует опыт Железки»… «опираясь на эксперименты, проведенные в Железке»… и так далее.
Что и говорить, Железка пульсировала, излучала свечение, пела свою серьезную тему, и местность вокруг на тысячи миль весьма облагораживалась. Что и говорить: в сфере практического применения высочайших достижений Железка наша любезнейшая тоже преуспела – некоторые ее детища вгрызлись в недра, другие вспахали морские луга, третьи взбороздили околоземные пространства.
Что и говорить: в область будущего Железочкой был послан острый лазерный луч познания, и всякий, даже чем-то задавленный, чем-то угнетенный человек становился смелее в ее железных гудящих тоннелях и смело видел в будущем картины привлекательных изменений – парные острова-проплешины в вечной мерзлоте и на островах тех, под ныне еще угрюмыми широтами, вечно веселую фауну и вечно шумящую флору, согретую оком вскоре ожидаемой космической красавицы Дабль-фью.
Прошли, однако, годы, прошла и мода. Схлынули журналисты, киношники и драматурги. Образ Атомного Супермена, пережеванный в репертуарных отделах, пожух, завял, засквозил унылыми прорехами. Кой-какие романтики смывались «на Тихий», переживая различные разочарования.
Разочарование
Вот ты говоришь «разочарование» и сам понимаешь, как это смешно: ведь писал же ты в школе «образы лишних людей», а ты не из них, это тебе говорит Вадим.
Твое разочарование – это поиск новых очарований, это тебе говорит Вадим, он знает.
Вот ты говоришь, разочаровался в работе, а это значит – ты ищешь новую каторгу, где больше башлей, где на тебе меньше ездят, а главное, где ты можешь больше кипятить свой котелок с ушами, это тебе говорит Вадим, а у него опыт.
Вот ты говоришь, разочаровался в бабе. Значит, другую ищешь: или монашку, или потаскушку, или дуреха тебе нужна, или товарищ-баба, едкий критик и сверчок, а может быть, просто тебе пышечку с кремом захотелось, или наоборот – птичку на пуантах, и это тебе говорит Вадим по-дружески.
Вот ты говоришь, разочаровался в друзьях, а это значит, что тебе другие ребята нужны, какие-нибудь смельчаки, или, наоборот, смурные пьянчуги, джазмены, может быть, или гонщики по вертикальной стене, зануды-аналитики или заводные «ходоки» с пороховой начинкой, это тебе говорит Вадим – он видел разное.
А вот если ты говоришь, что разочаровался в жизни, ты не понимаешь своих слов, и это тебе говорит Вадим, а он это знает.
Разочарование в жизни – это отказ от всех очарований, и для того, чтобы понять, поселилось ли оно в тебе, нужно лечь на спину и заснуть, а после проснуться и увидеть перед собой голубое небо. Все остальное, что входит в понятие «голубое небо», – кипящая европейская листва и дорога среди лапландских прозрачных озер, женщина Алиса, что машет тебе из кафе, руль автомобиля, стакан вина и жареное мясо, ветер вокруг флорентийского фонтана, темная улочка Суздаля, Пскова, Таллинна, ночной Ленинград с гулкими шагами и с музыкой из подвала, где сидят твои кореша и жарят «Раунд миднайт», – все это подразумевается, мой маленький принц.
Над тобой голубое небо. Ты только очнулся и смотришь на голубое небо. И вот ты начинаешь видеть в голубом черные пятна. Сначала разрозненные, потом собранные в гроздья, в кристаллы, потом ты видишь черную сетку, и временами для тебя все голубое становится черным, и пропадает все, что связано с голубым, а с черным для тебя ничего не связано. Вот когда ты видишь черную структуру голубого, это и есть разочарование в жизни, и это тебе говорит Вадим, а он понимает.
Итак, мы подводим черту под историческим опусом, без которого, увы, нам не удалось обойтись в силу приверженности к традиционным формам повествования. Итак, вы поняли: существует город Пихты и в нем живут наши герои, а рядом пыхтит, вырабатывая науку, наша любимая, золотая наша Железочка.
Многие читатели, возможно, бывали в Пихтах, кто в командировке, кто из любопытства, а для воображения остальных мы предлагаем следующую лаконичную картину.
Трескучей январской ночью вы прилетели в огромный индустриальный и культурный Зимоярск. Здесь все, как в Москве, только ртуть тяжелее градусов на тридцать. В двухстах километрах на северо-запад, то есть немного в обратную сторону, лежат знаменитые Пихты. Днем туда ходит поезд, летает маленький самолетик по кличке Жучок-абракадабра, но вы-то приехали ночью, и до утра вам ждать не резон. Вы, человек ловкий, бывалый, с характером, вы пускаетесь в путь, вы – «доберешься, старик!».
Вдруг за спиной угасает зимоярское полночное сияние, и над вами, над шоссе нависают лишь огромные ветви, и тьма чернее ночи обрезает, как нож, свет ваших фар. Тридцать километров, сорок и сто вас сопровождают тьма и пустыня, и лишь иногда, очень-очень редко вы видите одинокие малые и сирые огоньки. Вот так вы едете и шутите с водителем, а сами порой думаете: «Вдруг поршня сейчас сгорят или шатун сорвется». И в подошвах от этой мыслишки начинается ледяная щекотка.
И вдруг неожиданно, поверьте мне, всегда неожиданно, вы въезжаете в Пихты и восхищенно ахаете: ах! Перед вами пустынный спящий чудо-городок с аккуратно прорезанными среди гигантских сугробов улицами, с ярко освещенными стеклянными плоскостями почты и торгового центра, с подсвеченными фасадами худсалона «Угрюм-река», кафешки «Дабль-фью», школы юных гениев «Гомункулюс» и всемирно известной гостиницы «Ерофеич» – все это скромные, но запоминающиеся шедевры современной архитектуры. Ручаюсь, какой бы вы ни были выдержанный человек, этой ночью вы будете ахать. И ахайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Учтите, дальше до самого Ледовитого океана таких городков уже (еще) нет.
В заключение исторического дивертисмента мы преподносим читателям приз – святочную историю, за достоверность которой ручается ее автор, шофер единственного в городе такси Владимир Батькович Телескопов.
«Тройной одеколон»
Вот уже метель мела в ту ночь – клянусь, не вру! Иные углы замела – не проберешься, другие так вылизала шершавым языком, хоть выпускай мастеров фигурного катания, вот что страшно. И в морду, в лицо, прямо в физиономию лепила не по-человечески.
– Сюда бы молодежь Симферополя или Ялты, это был бы им хороший урок.
Так думал Володя Телескопов, пробираясь глухой, безлюдной ночью от таксопарка, где уже спала его красавица «Лебедь» М-24, к городской аптеке для срочного приобретения «Тройного одеколона» у дежурного фармацевта, который ему приходился шурином.
И, пробираясь, в глубине души Телескопов Владимир страстно завидовал экспонатам торговой витрины, вдоль которой пробирался.
Стоят настоящие крупные люди за стеклом – лыжник, фигурная фея, просто дамочка-хохотушка, могучий хоккеист – стоят настоящие среднего роста в приличной непродажной одежде, с улыбками смотрят на метель, и им не дует и не требуется одеколона, вот что страшно.
Так все нормально, ночное кино без билета, и вдруг до Володи доносится легкий шум…
Оказалось: три огромных волка гонят зайчишку, простоватого жителя леса, и настигают его для пожирания прямо возле витрин, вот что страшно.
И зайка-гаденыш – всего и меху-то на перчатки, а тоже жить хочет, – трепыханием говорит человечеству последнее прости, потому что серые гангстеры – им тоже по ночам жрать хочется, вот что страшно, – даже не дают ему последнего слова.
Телескопов – человек не робкого эскадрона, все записано в трудовой книжке, однако в данном случае трезво рассуждает, что потеря водителя такси взамен нетоварного зайца в целом для общества вреднее. Точнее, конец пришел губителю морковки.
И вдруг – легкий звон: как будто кто-то флакон уронил или витрина посыпалась. Оказалось, второе: из витрины спрыгнул на панель и поехал с легким свистом тяжелый хоккеист – ни дать ни взять Саня Рагулин, вот что страшно.
В мгновение ока ледовый рыцарь расшугал клюшкой скрежещущих зубами матерых профессионалов леса, а одному из них так заехал сверкающей железякой в пузо, что тому пришлось уползать, догоняя товарищей, и оставлять в снегу дымящуюся кровушку, красную, как таврический портвейн, вот что страшно.
Закончив благородный поступок, хоккеист сопроводил пострадавшее от испуга животное в безопасное место, и на этом вся история закончилась, а шурина в аптеке не оказалось, хотя «тройной» был виден с улицы сквозь мороз, вот что страшно.
История, конечно, вздорная, и рассказана она человеком ненадежным, когда он не за рулем, но вот что страшно: оказался еще один свидетель – Вадим Аполлинариевич Китоусов. Он видел спину удаляющегося по ледяной лунной дорожке хоккеиста и слышал, как тот насвистывает популярный мотив «You are my destiny», что по-русски означает «Ты моя судьба».
Часть третья
Изнутри пихтинского быта
О, если бы я только мог Хотя отчасти, Я написал бы восемь строк О свойствах страсти.
Борис Пастернак
Сон академика Морковникова был глубок по обыкновению и по обыкновению не имел никакого отношения к математике. Маленький герой его снов Эрик Морковка по обыкновению переживал увлекательные приключения в различных плоскостях, в распахнутых пространствах и тесных углах, проникал сквозь яркоокрашенные сферы, ловко, с еле заметным замиранием уворачивался от надвигающихся шаров для того, чтобы стремительно пронестись по внутреннему эллипсу и весело проснуться.
Академик уже предчувствовал этот не лишенный приятности миг возвращения к «объективированному миру», как вдруг на стыке орбитальной реки и зеркальной стены внутреннего куба чей-то совершенно незнакомый голос отчетливо и гулко произнес фразу: ЖИЗНЬ КОРОТКА, А МУЗЫКА ПРЕКРАСНА, – и Эрнест Аполлинариевич проснулся с ощущением, что он давно уже ждал этой фразы, звал ее, но боялся и не хотел. Он выждал несколько секунд, чтобы задвинулись все ящички комода, чтобы ЦНС окончательно переключилась в рабочее состояние, и все ящички, как обычно, плотно задвинулись, за исключением одного, из которого все-таки торчал уголок разлохмаченной ткани, в сущности, тряпочка с хвостиком.
– Хоп! – сказал себе Эрнест и повернул голову.
Все было, как обычно: Эйнштейн на стене набивал свою трубочку, а его сосед, известный фильмовый трюкач Жиль Деламар прыгал в Сену с Нотр-Дам де Пари и замечательный лозунг смельчака «День начинается, пора жить!» косо пересекал фотографию…
– Хоп! – сказал себе Эрнест, вскочил с кровати и встал на голову.
Все было нормально: в глубине квартиры жена разговаривала с сыном, вздыхал и постукивал хвостом по полу любимый сенбернар Селиванов, за окном на ветке пихты уже ждал ворон Эрнест, тезка академика…
Все было нормально: сорокалетний Эрнест стоял на голове и ногами производил в воздухе вращательные движения, кровь наполняла опавшие за ночь капилляры, мышцы вырабатывали из молочной кислоты деятельные кинины, тихо крутилась в углу пластинка сопровождения… все было нормально, а между тем Морковников вдруг мгновенно и безошибочно почувствовал изменение – дикий разгон и безвозвратный вираж судьбы.
Он вдруг покрылся внеурочным потом и сел на ковер: бренчало пианино за тысячи миль и за шестьдесят восемь лет; апрельский рэгтайм наигрывали коричневые пальцы, дымился сумрачный лесопарк…
Потом он бежал по парку – свалявшиеся листья, короста старого льда, полуистлевшие косточки мелких животных… отчетливые, но неуловимые очертания гениальной формулы, формулы его жизни, витали между стволов, и он проникал в это утреннее созвездие, туманность трескучих ягод и думал все тридцать пять минут новозеландского бега: что же произошло в его квартире? Осень сейчас или весна?
Тезка летел за плечом, а верный сенбернар бежал у ноги, фигуры таких же мужчин с собаками у ноги и с любимыми птицами за плечом мелькали в лесопарке, словом, и здесь все было, как обычно, но счетчик пульса показывал сегодня тревожную цифру, и гемоглобин, подлец, не очень-то активно насыщался кислородом.
В квартире от северных окон к южным и обратно гуляла волна пахучей влаги, прелых воспоминаний – неужели все это еще живо?
– Эрка, ты опоздал сегодня на одну минуту сорок восемь секунд, – услышал он веселый голос жены.
Веселый голос жены. Вот чудеса. Таким тоном она говорила с ним много лет назад, в хвойной юности, когда каждый день был продолжением любовной игры и каждая ее фраза, начинающаяся с «Эрка, ты…», означала лукавую западню, приглашение к фехтованию, нежную насмешку. Уж много лет она не говорила так, а «Эрик» в ее устах давно уже звучал как Эрнест Аполлинариевич.
Это какие-то флюиды, догадался академик. Где-то по соседству вываривают в цинковом тигле толченый мрамор с печенью вепря, и зеленый дух философского камня, соединяясь с кристаллами осени-весны, отравляет сердца. Другой бы на моем месте, менее толерантный человек, безусловно заявил бы в домоуправление.
Морковников понуро поплелся в ванную, на ходу стаскивая кеды, джинсы и свитер, и даже не полюбовался мелькнувшей в зеркале стройной своей фигурой. Странное чувство прощания вдруг охватило его на пороге ванной. Жена что-то говорила веселым голосом, кажется, что-то о сыне, которого сегодня удалось спровадить в школу, но он не слушал. Он обвел взглядом «огромность квартиры, наводящей грусть» и вдруг увидел в коридоре за телефонным столиком качающийся контур любви, легкий контур, похожий на «формулу жизни», созвездие винных ягод, просвеченных морозом и соединенных еле видимым пунктиром. Его квартиру посетила любовь!
Ему показалось даже, что протяни палец, и он ткнется в упругое желе, он сделал было шаг, но в следующий миг – о эти следующие чередой миги! – конгломерат исчез, отнюдь не испарился, а проник в другую сферу, кажется, на кухню, ибо оттуда донесся веселый голос жены: «Надежды ма-а-а-ленький оркестрик…» Поет!
Быть может, вся эта чертовщина есть легкий приступ малокровия, короткое пожатие авитаминоза? Морковников вонзил в икроножную мышцу иглу «медикануса» – автономного филиала своих знаменитых часов. Все стрелки колебались в пределах нормы.
Жена поет. Это вызов? Неужели что-нибудь проведала? Аделаида? Моник? Анастасия? Чиеко-сан? Присцилла фон Крузен? Эрнест Аполлинариевич никогда не влюблялся и много лет уже поддерживал с противоположным полом только дружеские, научные и спортивные связи. Главное, не терять самообладания. Во-первых, может быть, жена просто так финтит, прощупывает, а во-вторых, возможно, все это липа, дешевый розыгрыш коллег или, на крайний случай, непредвиденный скачок взнузданного организма.
Жизнь коротка, а музыка прекрасна.
Академик стоя пил кофе, поглощал крекеры с яйцом, весь затянутый, международный, с фальшивой оптикой на глазах и зорко посматривал на жену, а та не обращала на него ни малейшего внимания.
Вновь появился этот дурацкий фантом, студенистая масса, тревожная, как «формула его жизни». Теперь она колыхалась за холодильником. Мисандерстендинг, хотелось крикнуть Эрнесту, чистейшее недоразумение, я ни в кого не влюблен, у меня все в порядке.
– «Чай вдвоем», – вдруг запела жена песенку их молодости и заблестела глазами мечтательно и лукаво, как в то далекое влажное десятилетие.
- Чай вдвоем,
- Селедка,
- Водка…
- Мы с тобой вдвоем, красотка!
- Чай вдвоем,
- Сидим и пьем,
- И жуем!
«Как? – встрепенулся Морковников. – Что это такое?» Да ведь эта песенка, и блеск в глазах, и веселый голос нынче не имеют к нему никакого отношения. И то, что пришло сегодня в его дом, любовь – не любовь, но ИЗМЕНЕНИЕ, касается его, хозяина, лишь косвенно. ОНО ПРИШЛО К НЕЙ – К ЖЕНЕ – вот так история!
Внимательный взгляд на жену потрясенного академика обнаружил пожухлость кожи вокруг глаз и еле заметное, но очевидное отвисание щеки, мешковатость брюк, рваность и заляпанность свитерка. Давно не крашенные волосы жены являли собой пегость, но… вместе с тем пегий этот узел был тяжел и еле держался на трех шпильках, грозя развалиться на романтические пряди, и серую грязную джерсюшку трогательно поднимали маленькие груди, и плечико торчало в немом ожидании, а глаза были далекими и серыми: далекие и шалые глаза. Он ушел.
«Так, значит, это она влюблена? Я чист, научен и строг, а у Луизки-гадины рыльце в пушку. Ай-я-яй, неужели слевачила? Неужели я рогат?»
Морковников вновь покрылся внеурочным потом под всей своей европейской сбруей и тут после короткого мига глухой и пронзительной тоски понял: ничего она не слевачила, ничего он не рогат, все гораздо хуже, все это имеет к нему лишь КОСВЕННОЕ отношение.
В следующий миг – о эти миги, следующие чередой! – еще более неприятная и тяжелая мысль посетила академика: быть может, в этой квартире главная жизнь – не моя, а ЕЕ, вдруг моя лишь подсобная, нужная лишь косвенно, лишь иллюстративно?
Да, фигу, фигу, право же, бред, я – мировой математик, право же, что для меня все эти кухни и кресла и даже постель, все эти ваши запоздалые влюбленности и негритянские романсы, когда в фиолетовой сигме кью еще плавает в полном неведении косая лямбда трехмерного евклидова пространства.
черт побери, а промышленные отходы технической революции продолжают развитие террацида, и, кстати, вы, мальчик, могли бы не швырять на панель обертку мороженого, есть специальные урны – для сбора нечистот и упаковочного материала, а вы, гражданин, моя ваше авто порошком «Кристалл», должны знать, что химические сливы загрязняют реки, нет-нет, я ничего, вы мойте, но только не забы… а вы, мадам, прошу меня простить, вот эти ваши баночки, скляночки, флакончики, стаканчики, пластмассовые патрончики, обломки гребешков, шпильки, фольгу, тампончики и примочки…
– Вам чего, товарищ? Вы чего вяжетесь? – с удивлением, но не враждебно, а скорее с интересом спросила дама, размахнувшаяся на пустыре мусорным ведром.
– …вот эти ваши яичные скорлупки и сметанные, а также жировые сливы с комочками пищи, целлофановую кожицу вареных колбас, и надорванные парафинированные пакеты, и, наконец, клочки коротких, явно не ваших волос, мадам…
– Чего-чего? – темнела дама лицом и оранжевыми волосами, потому что на нее набегала в этот момент злая тучка.
Она стояла повыше Морковникова на горке кирпича, и ветер трепал ее необъятные брюки маскировочного рисунка, лепя мгновениями из них могучие и не лишенные аттрактивности ноги.
«О, Прометей, вот она, Брунгильда, Неринга, мать-атаманша! Отдохнешь ли, кацо, в ее лоне после долгой кровавой дороги?» – подумал Эрнест.
– Я только лишь, мадам, имел в виду трудности концентрации личных отходов для дальнейшего уничтожения, – пролепетал он. – Не затруднит ли вас продвинуться на двадцать метров вон к тем мусорным контейнерам?
– А-а! Я думала, вы по делу, – она разочарованно вздохнула, – а вы не по делу.
– Я, мадам, шестой вице-председатель комитета ЮНЕСКО по террациду, – сказал он.
– А-а, – зевнула и потянулась она. – Вы из ГорСЭСа, товарищ? Тараканщик? – Она засмеялась и пошла к бакам, помахивая ведром, огромная и задастая, но какая-то легкомысленная.
Морковников смотрел ей вслед, и странные воспоминания одолевали его: «Никогда никому не скажу, что в пятом классе получил за контрольную по алгебре пару. Да, у меня есть тайны, но я не считаю себя преступником. Посмотри, Прометей, она зевает и потягивается, а в голове у меня возникают юные прелести гиревого спорта».
Ночная горячая колбаса
(второе письмо к Прометею)
Да, несколько лет назад в ночь со вторника на среду я ел горячий вурстль на Кертнер-штрассе в ста метрах от правой ступени собора Сан-Стефан.
Я ел без всяких особенных причин, а просто потому, что хотел есть, и мазал свой вурстль сладкой горчицей, а на немецкие шутки ночных девушек, собравшихся у палатки, я, клянусь Артемидой, не отвечал.
Да, ты, Прометей, тогда проезжал мимо на велосипеде и долго на меня смотрел своими черными глазами, но я сделал вид, что тебя не заметил, душа лубэзный. Я знал, что ты скрываешься и выдаешь себя за уругвайца и что велосипед у тебя прокатный из Луна-парка, но я не окликнул тебя и не предложил тебе помощь. Напротив, я перевел взгляд на собор Сан-Стефан, покрытый вековой плесенью, которая так чудесно серебрится под луной. Ты знал, что я тебя увидел, и я знал, что ты знаешь, но что я мог поделать, Прометей, ведь в эту ночь мне нужна была помощь Олимпа.
Да, батоно, в ту ночь я ненавидел. Я вспоминал все раз за разом, с каждым кусочком вурстля в меня вливались горькие воспоминания.
Она была зубрилой и училась на факультете славянской филологии. Годдем, цум тойфель, рекутто рекутиссимо, обречь себя на прозябание в затхлом пакгаузе филологии, да еще не просто филологии, а какой-то отдельной, германской, славянской, романской!.. И это вместо того чтобы плыть в бескрайнем серебристом океане чистого Логоса, уповая на свою отвагу, на шест своего интеллекта, уповая…
Извините, говорила она, графин подслушивает, и вешала трубку. Она снимала комнату у графини Эштерхази. Ах, генацвале, это повторялось каждый вечер. Вот они, результаты филологического образования: не знать разницы между графиней и графином и обращаться на «вы» к желанному, ненаглядному «ты».
Я ненавидел графиню Эштерхази с ее папильотками, веерами, с ее родинками и декоративными собачками. Милый друг, вот моя страшная тайна – я ненавидел человеческое существо!
Позволь мне высказаться до конца, ведь я не Раскольников, а она не процентщица, однако… в голове моей теснились мысли о высылке «графина» из города под предлогом борьбы за окружающую среду или о сведении ее к нулю посредством простейшего рассечения бинома Фостера через
Эрнест Аполлинариевич огляделся. По главной улице к Железке торопились его товарищи, бывшие «киты», а ныне доктора и членкоры, торопились и нынешние ребята, их ученики, смурной народец, вдали кто-то ехал на велосипеде, полыхая костром черной шевелюры. Увы, это был не Прометей, явно не он.
Вот так и я буду спешить, умиленно подумал академик, вот сейчас и я так же заспешу вместе с моими товарищами, моими соратниками, единомышленниками, рыцарями нашей родной Железочки, которая нам всем дает… Что она нам дает? Все!
Пойду сейчас и лекцию шарахну в «Гомункулюсе» по проблеме «Северо-западного склонения супергармонической функции». Вот обрадуются ребятишки, они ведь любят наши с тобой встречи, кацо. Пойду потом и сяду в кабинете и всю международную почту смахну в корзину, соберу семинар, почешем зубы, глядишь, до ночи и просидим, а там, глядишь, Великий-Салазкин придет с горшком плазмы или с твердым телом или Павлик притащится для расшифровки генокода какой-нибудь болотной цапли… Так, глядишь, до утра дотяну, а там гимнастика, прием пищи, разное… А домой я вообще не приду, пусть она там поет со своим облаком, пусть пьет с ним чай.
Лабасритиснгуенвуенчи, синьор Морковников, ю эс эс ар сайентист энд споксмен, одним словом – доброе утро, старик!
Дивную эту фразу произнес велосипедист «не-Прометей», временно пропавший из нашего поля зрения, а сейчас стоящий перед академиком, словно огненный черт, одной ногой на тротуаре.
– А, это вы, Мемозов, чао! – вяло поприветствовал авангардиста академик.
– Чао нам и чаю вам! – гоготнул Мемозов.
– Что вы имеете в виду? – насторожился Эрнест.
– Да просто так, случайное созвучие. Сейчас ехал мимо вашего дома и слышу, Лу поет «Чай вдвоем». Неумирающая тема, право! И представьте, ту же тему вчера весь вечер наигрывал в столовой этот самый… ну, вы знаете… этот ваш здешний кумир – унылый саксофонист Самсик Саблер.
Эрнест Аполлинариевич снял очки, подышал на стекла и протер кончиком галстука, хотя никакой нужды ни в протирании, ни в дышании, ни в снимании, ни даже в ношении очков не было. Жест этот, протирание очков, типичный по кинематографу жест придурковатых академиков, когда-то всех смешил, но постепенно стал привычкой, даже своего рода нервным тиком. Что за черт, этот чужак, несимпатичный пришелец, уже называет мою жену «Лу», то есть так, как ее называют пять-шесть людей, не более, – ну Пашка, ну Наташка, ну сын их Кучка, ну В-С… Эрнест надел очки – настоящий, заметьте, «поляроид»! – и немного успокоился: сейчас осажу нахала.
Мемозов, левой рукой борясь с развевающейся гривой, правой держа велосипед, в оба глаза с удвоенной насмешкой всматривался в академика.
– Да, знаете, уже мыли тарелки и стулья переворачивали, а он все ходит со своей дудкой и все импровизирует. Я задержался вчера в столовой, оформлял одну идею, писал, считал, проигрывал в уме и поневоле слышал игру этого Самсона. Знаете, манера покойного Клиффорда Хоккера, но что-то есть свое, физиологическое… Я даже придумал: не рано ли списывать на помойку наш старенький джазик? Вы знаете этого Самсика? Такой весьма-весьма подержанный уже тип, но, должно быть, и не лишенный… вы знаете?
– Да кто ж здесь не знает Самсика? – грубовато буркнул Морковников.
– …не лишенный, конечно, определенного сексапила для дамочек особого сорта. Не находите?
Академик салютнул ладошкой и пошел прочь, но велосипедист некоторое время еще ехал за ним вдоль тротуара, заканчивая рассказ.
– «Ого, – говорю я этому вашему Самсику, – а ты сегодня в ударе, в свинге. Влюблен, что ли?» Вы знаете, Морковников, многие толковые люди не отказывают мне в парапсихических способностях, но в данном случае я спросил вполне простодушно, а попал в точку.
Эрнест, до этого момента маршировавший «равнение направо» – то есть прочь! – теперь сделал «равнение налево», то есть на велосипедиста, и так теперь шел с повернутым к нему, открытым и готовым к удару лицом, а Мемозов ехал, шаря по нему едкими гляделками и обводя его контур легким насвистыванием «Чай вдвоем».
– Ну, дальше, – сказал академик.
– Да ничего особенного. Саблер страшно смутился и тут же перешел на другую тему. Знаете, вот что… «Every day I have blues…» – Мемозов старательно вывел губами начало.
– Знаю, знаю, – торопливо прервал Морковников и немного продолжил тему: – А дальше?
– Потом произошло нечто странное, Морковников. На кухне упал поднос, плашмя на кафель, и звон его долго стоял в этой вашей кислой столовке, а когда он затих, Самсик сказал, глядя в темное и потное окно, в котором не было ни-че-го…
– Жизнь коротка, а музыка прекрасна, – неожиданно произнес Эрнест фразу из своего сна, и Мемозов гулко захохотал, как будто бы оттуда – со стыка орбитальной реки и внутреннего куба.
– Именно эту фразу, дорогой мэтр, именно эту. Я вижу, вы тоже обладаете кое-какими парапсихическими талантами… Кстати, мой бесценный иммортель, я не унижу вас, если приглашу к себе на небольшое действо под названием Банка-73? Обещаю много интересного. Конечно, прихватите милую Лу. Самсик тоже будет. Значит, договорились. Дату сообщу дополнительно. Всего доброго. Искренне ваш. Мемозов.
С этими словами авангардист нажал на педали и сделал резкий разворот, подрезав нос городскому такси «Лебедь», заслужив оглушительное «псих» из уст Телескопова и ответив находчиво «от психа слышу», после чего, наращивая скорость, воображая себя демоном воды с озера Чад, помчался по главной улице в прозрачную современную перспективу.
Что касается Эрнеста Аполлинариевича, то он взял такси и от полной сумятицы в голове попросил отвезти его на Цветной бульвар в «Литературную газету», где у него сидит дружок. Володя Телескопов, привычный ко всему, подвез академика к воротам Железки и получил по счетчику 17 копеек, потому что чаевых не брал. Таким образом, между двумя участниками утреннего диалога, между Мемозовым и Морковниковым, почти мгновенно образовалось огромное пространство, которое тут же пересекли два сиамских кота, а также благороднейший пудель Августин со свежей почтой для своих хозяев и дружелюб Агафон Ананьев на универсале «Сок и джем полезны всем», в кузове которого лежала его теща, возвращающаяся из окрестных сел после закупок яиц.
Стояла ранняя зима, вернее, осень на исходе, прозрачность некая была в архитектуре и в природе, а Ким Морзицер унывал, грустил, как пес при непогоде, и листья желтые считал, как знаки на небесном своде, как знаки будущих похвал.
В отсутствие Кима в Пихтах случилось чудовищное. Древний враг, Трест столовых, нанес неожиданный и сильный удар: «Дабль-фью» было переименовано в «Волну». Произошло, по словам Великого-Салазкина, злое кщунство.
Чудовищное кщунство над детищем! Обилие мерзких, с детства ненавистных новатору «ща» наводило на мысль о близости Щей, и впрямь – чудовищное кощунство над детищем вершилось во имя тощих пищевых щей, ибо первых блюд в музыкально-разговорном кафе не водилось, и из-за этого тоже шла борьба, сыпались жалобы, коптили небо ревизоры; отбивались блистательными контратаками в отдел культуры.
И вот разлетелся. В сумерках, не разглядев новой вывески, размахался дверями, как хозяин, вбежал в свой кабинет, в святая святых, уже блейзер чуть ли не скинул, вдруг видит – сидит!
За столом Кима сидел Буряк Фасолевич Борщов в белом халатике и строго что-то писал. Со стола были удалены: коралл, бригантина в бутылке из-под кубинского рома, все четыре парижских паяца, роза-ловушка, стакан с вечным непроливающимся пивом и прочие любимые меморусы. Со стен исчезли дискуссионные шпаги, банджо, гитара, портрет Тура Хейердала, портрет самого Морзицера работы художника Бонишевского в стиле Буше. Перед столом стояла кассирша Виктория Шпритц и что-то смущенно делала руками, а в глубине комнаты под какой-то дикой диаграммой с неясным названием «Выход блюдов» сидело еще одно новое лицо – огромнейшая молчаливо-веселая дама с папироской.
– Простите, – сказал Ким, уже чувствуя непоправимое, но все-таки в атакующем интеллигентском стиле. – Простите, с кем имею честь?
– Борщов, – ответил захватчик стола в своем стиле, не поднимая головы. – Директор кафе «Волна». Вы?
– Весьма удивлен. При чем здесь волна? – спросил Ким, опираясь на стол ладонями.
– Не надо. Наваливаться, – директор поднял голову, но не к Киму, а к Шпритц. – Кто? Это?
– Это… это… – замялась Виктория, – это наш Кимчик… Ким Аполлинариевич…
– Точ-нее, – попросил директор, открывая ящик, из которого явно было уже удалено все милое, а подчас и интимное содержимое и заменено сетчатой бумагой.
– Это наш… – Шпритц смущенно хихикнула. – Наш Командор и Хранитель Очага.
– Слышал, – директор углубился в бумаги, и наступило полнейшее молчание.
Ким чувствовал жгучий стыд, дичь, нелепость, чувствовал свои большие неуместные руки.
Дама в углу улыбнулась приятными, как карамели, пунцовыми губами.
– Да что же вы, Ким Аполлинарьич, стоите как неродной? Присаживайтесь.
«Вот, черт возьми, живой человек», – с неожиданной благодарностью подумал Ким и бухнулся на стул рядом с крутым ея бедром, похожим на атомную подводную лодку. Ткань маскировочного рисунка лишь усиливала интригующее сходство.