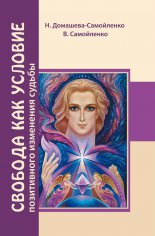Новый сладостный стиль Аксенов Василий

– Ближе к делу, – сухо сказал Арт.
Мел все больше нервничал:
– Я просто хотел сказать, что даже среди этих идиотов Стенли с его благотворительностью безусловно держит первое место. Ну вот, суди сам! – Он положил слегка подрагивающие пальцы на киборд и стал очищать экран компьютера от изображений. Затем, время от времени многозначительно поглядывая на Арта, он приступил к манипуляциям с колонками индексов и цифр. Каждую стадию своих операций он трансформировал в фигурки цветной графики. Экран теперь полыхал супрематическими комбинациями.
У Арта покруживалась голова, пока он наблюдал взаимодействие индикаторов АКББ и NYSE, корреляцию этих данных с данными IMF и Мирового Банка, а потом с данными каких-то неведомых компаний в Индии и России, и засекреченными файлами налогового управления, и результатами текущих операций с наличными в Токио, Йобурге, Гонконге и Лондоне. Все эти информационные юниты[235] вращались вокруг солидных колонок Фонда Корбахов, пока фонд не превратился в шар чисто красного цвета. Увы, произнес Мел почти грустно, почти с проблеском почти человеческой ностальгии и, уж во всяком случае, без злорадства, увы, увы, в темном пространстве вокруг красного шара начинали образовываться внешне невинные цилиндрики, кубики, клинья и ромбоиды, то плавающие отдельно, то хаотически громоздящиеся в углах экрана.
– Теперь ты видишь, друг, что у этого небесного тела больше нет никаких шансов. – Мел вздохнул и полуобернулся к Арту. – Ну что, хочешь, я сделаю финальный «клик-клик»?
Арт молча кивнул. Мел сделал «клик-клик». Все малые части начали вращательное движение вокруг красного шара, периодически атакуя его со своих орбит. Через пару минут шар развалился в бесформенную кашу красных пятен. Смешиваясь с начальными элементами, каша постепенно, но все быстрее и быстрее начала образовывать один калейдоскоп за другим. Сначала нельзя было понять смысла этих превращений, но вскоре стало ясно: изображение теряло изначальные яркие краски, брало верх чисто черное. Наконец все прочие цвета исчезли, и Арт увидел перед собой идеальную форму ярко-черного цвета, тот самый «Черный Квадрат», материя меньше нуля, «ничто» с тенденцией засасывать в себя всякого, кто будет слишком внимательно вглядываться. Таков был конечный результат. Постмодернизм. Поствсе. Деконструкция. Смерть Стенли Корбаха как героя своего поколения. Полное поражение и изгнание байронизма.
– Хотел бы я, чтобы уж и меня засосала чертова штука, – произнес Арт.
Мел расхохотался:
– Брось эту комедию дель арте, Даппертат! Пульчинелла, выше нос! Мы все еще здесь, в нашей виртуальной реальности, в конце концов! – Он сделал еще один «клик-клик» своей «мышкой». «Черный Квадрат» немедленно полетел в тартарары и там, в царстве Тартара, превратился в невидимое пятнышко. Вместо него на экране появился конференц-стол с сидящими вокруг знакомыми лицами.
К этому времени закат над западным гребнем Манхаттана почти завершился, только купол света быстро таял на горизонте, как опустившийся парашют. На одной из стен СИЦ оперативного центра появилась увеличенная проекция компьютерного экрана со всеми этими знакомыми лицами и телами в натуральную величину.
Фактически здесь были только члены клана Корбахов– Бламсдейлов: Норман и Марджори, три дочери Стенли, а именно Сильви Даппертат, Сесили О’Масси и эта знаменитая оперная дива Уокер Росслини с ее антрепренером-мужем, дальше – разведенная жена Нормана Понтессия и их сын, ожиревший добродушный Скотт, по два или три кузена с обеих сторон, их имена не важны, поскольку они совсем не принадлежат к списку наших действующих лиц, и – внимание! – гвоздь сезона, патриарх Дэвид Корбах, который выглядел по меньшей мере на десять лет младше своего девяностошестилетнего возраста.
Мел подкатил свой стул ближе к стене и виртуально, то есть фактически, превратился в одного из участников сборища. Он махнул Арту: «Присоединяйся!» Последний неохотно, но безоговорочно приблизился к стене и обнаружил себя рядом со своей женой, которая улыбнулась ему с обычной нежностью на грани не менее обычной капитуляции.
Потом началось собрание, во время которого все члены так называемой семьи, фак их генеалогическое древо, старались вовсю склонить Арта к предательству. Стенли – конченый человек! Он безумец, одержимый саморазрушительными идеями. Он проматывает миллиарды для своей бессмысленной благотворительной компании, которая не приносит ничего, кроме позора. Его следует раз и навсегда вычистить из руководства великой корпорации и изолировать. И изолировать! В этот момент все присутствующие взглянули на патриарха, и вонючий поц в унисон со всеми показал своим большим пальцем вниз. Все личные счета Стенли должны быть немедленно заморожены!
Арт, ты только что видел более чем убедительные свидетельства, предъявленные неопровержимым экспертом и твоим ближайшим другом Мелвином О’Масси. Наши юристы работают по этому вопросу, они уже близки к финальной резолюции. Вся американская и мировая финансовые общины на нашей стороне. Соответствующие правительственные организации и люди «на Холме» готовы поддержать наше решение. Ради твоей семьи, ради нашей корпорации, ради стабильности, не побоимся этих слов, всей нашей страны и всего цивилизованного мира вы, мистер вице-президент, должны присоединиться к нашему решению, которое, поверь, нелегко нам далось, учитывая личность того, прошлого Стенли, которого мы все нежно любим.
Наименее активным в этом хоре был, как ни странно, председатель Бламсдейл. Он прикидывался более-менее нейтральным финансистом, как будто это не он был недавно захвачен в его крепости на Арубе морскими десантниками Стенли, а потом освобожден в обмен на полковника Бернадетту де Люкс и ее бэби, взятых после кровавой битвы на южном крылышке бабочки-Гваделупы. И только после того, как риторика стала угасать, Норман предложил общему вниманию свое спокойное, можно сказать, спокойное на грани истерики, слово.
– Конечно, мы предпочли бы единодушное решение на сессии Совета, однако при сложившихся сейчас обстоятельствах мы можем обойтись и без этого. Я надеюсь, мистер Даппертат понимает, что это означает для его личной карьеры.
Первой инстинктивной реакцией Арта было желание схватить свою жену за руку и увести ее из этого сборища гадов. Он даже потянулся к ней, но тут сообразил, что она недосягаема. В глазах же Сильви он прочитал тот же вопрос, что волновал и всю аудиторию. Воздержавшись от резких движений, он неожиданно для самого себя деловито спросил:
– Когда вы ждете от меня этого решения, леди и джентльмены?
Все лица вокруг стола осветились радостью. Как чудно, что этот славный парень, этот, entre nous,[236] символ успеха для всей АКББ, кажется, готов пожертвовать своим сомнительным товариществом ради корпорации, ради семьи, ради подрастающего поколения!
– Чем скорее, тем лучше, медок, – прошептала Сильви, и бриз ее секса, проникнув через виртуальную реальность, всколыхнул в нем столь знакомое ощущение счастья. Ведь говоря ему «медок», она не имеет в виду обычное супружеское обращение, принятое в наших краях, она имеет в виду то, что он самый сладкий из всех любовников мира.
Все их любимые «пред-игры» пришли ему на ум, пока он смотрел ей прямо в глаза, и особенно одна из последних. Она – девочка-подросток, впервые надевшая лифчик. Она очень гордится тем, что ее титечки теперь в лифчике, но вдруг она понимает, что не может его никак расстегнуть, а ей нужно переодеться для купания. В отчаянии она ищет помощи, но никого нет под рукой, кроме пожилого (около сорока) джентльмена по соседству. Человек благородной души и светских манер, он не может не прийти на помощь. Кто будет отвечать за последствия? Он старается вовсю, и его попытки так нежны, так медлительны, о, как медлительны они и как нежны! Окончательное снятие лифчика приходит как апофеоз, она визжит и пукает: пук, пук, пук! Ах, мой медок, и они оба засыпают.
Он вскочил и направился к выходу. Ему казалось, что он покинул свое тело в какой-то бессмысленной попытке оторваться от этого глупого иллюзиона, и в то же время он ощущал только единственную свою оставшуюся волевую реакцию – протащить это тело как можно скорее к выходу. В лифте, в закрытом кубе воздуха он передернулся, как саламандра, и пришел в себя. Ублюдки, говноеды, сраки и блевотина, шипел он от ярости. Не собираетесь ли вы сделать из меня электронного зомби? Не собираетесь ли вы заменить мою любимую каким-то вашим фантомом, склизким, как угорь? Черт вас побери, вы шпионите в нашей спальне, но вы недооцениваете мою выдержку, мою отвагу, мою верность моей любви и моим друзьям, да и всему миру, полному чувств, запахов, мотивов, цветочной пыльцы, всему тому, чего нет в вашей ебаной виртуальной реальности!
Как обычно, «Бентли» сразу успокоил его тело и душу. Со своей молчаливой мощью он нес хозяина по Лонг-Айленд-экспресс-уэй в сторону Хэмптонов. Он был, собственно говоря, не так уж и молчалив, Теофил, если ты примешь во внимание бетховенскую «Пятую», которую автомобиль играл, чтобы поднять настроение Арта.
В темном небе один за другим появлялись снижающиеся к аэропорту Кеннеди трансатлантические воздушные суда. Они ярко светили прожекторами, мигалками и иллюминаторами, как будто их главная цель состояла в доставке света. Глядя на лайнеры и слушая бетховенские звуковые расширения и подъемы, Арт плакал. Я слабый, жалкий, слезливый мудак. Я не имею никакого отношения к этим великим воздушным путям, равно как и к шторму медной группы и к взмывающему рою струнных. Как я могу убежать от этих свиней с их виртуальной реальностью? Если бы только она была со мной, моя любимая, мой единственный якорь на этой Земле!
Ночной сторож открыл ворота его приморской усадьбы. Что за гнусная морда у парня. Всякий раз, когда он видит нас с Сильви, он ухмыляется, как будто смотрит пип-шоу. Надо уволить сукина сына! Верхушки кипарисов и можжевельников раскачивались под океанским ветром. Вы мои единственные ангелы, кипарисы и можжевельники! Окошки детей были темны. Вы, кидс, мои крылья, и в то же время вы мои кандалы. Он объехал вокруг дома и заметил Сильви, стоящую на балконе. Вылезая из машины, он услышал ее радостный голос: «Арт, я так счастлива, что ты будешь с нами, со всей семьей! Хватит, в конце концов! Дад просто поехал с тех пор, как он связался с этой кобылой! И хватит тебе играть такую двусмысленную роль в директорате! О, какое облегчение! Я просто по-новому дышу после этой исторической вэ-эр сессии!»
Он бросил пиджак на капот машины и медленно пошел к рокочущему морю. Темнота охватывала его с каждым шагом. Прибой бил в волноломы и вздымался над ними, образуя фигуры пенных львов, удивленных и яростных. Арт сел в песок, что был еще теплым после дневной жарищи. Он ни о чем не думал, кроме этих пенных львищ. «Каковы», – так выглядела его мысль в переводе на русский.
– Сэр, – прошептала Сильви, садясь рядом с ним. Босоногая, в купальном халате. – Я не знаю, что со мной происходит. Меня ждет в светском обществе муж, а я не могу развязать мой халат, не могу стащить бикини. Будьте добры, помогите мне, господин незнакомец.
2. Лавски
Эти съемочные павильоны в Северном Голливуде выглядят, как склады мороженой курятины, ну хорошо, поднимем планку – мороженой страусятины. Вы можете, конечно, сказать, что автор преувеличивает – есть такая странная привычка у некоторой части читателей вечно придираться, – он-де вздувает какие-то надуманные образы, однако вы не можете не согласиться, что эти павильоны выглядят, ну в лучшем случае, как заброшенные швейные фабрики, и только шикарные машины, запаркованные вдоль их стен, наводят на мысль, что это съемочные павильоны.
Так или иначе, меньше всего эти длинные строения, сделанные из огнеупорных материалов, напомнят нам о «новом сладостном стиле», об итальянских поэтах XIII века, о городе Флоренции, где пламя слов и страстей вспыхнуло от Божественной искры. Не имеют они никакого вроде бы отношения и к «Серебряному веку» Петербурга, к этой толпе символистов и авиаторов, балерин и кавалергардов, очарованной медлительными закатами и тяжелой раскачкой северных вод. А какое отношение они имеют к поющим поэтам восставшего Нью-Йорк-сити последней трети XXV столетия с их истерическим свингом, предсказывающим гибель утопии?
Пардон, скажет какой-нибудь из наших читателей, а какое отношение к этим «складам страусятины» имеет ваш Александр Яковлевич, также известный как Саша Корбах, бывший советский бард протеста, которого вы тут иногда подаете под унизительной кличкой Лавски? Он ведь и сам все время вроде отрекается от «фабрики снов», а вы тем не менее упорно засовываете его в эти огнеупорные стены.
Давайте будем объективны. Давайте попробуем посмотреть на всю ситуацию и на нашего АЯ в ней как бы со стороны. Сколько русских киношников, эмигрантов и беглецов семидесятых, и восьмидесятых, и девяностых тянулось к Голливуду! Все они мечтали о «шедевральном кино», о воплощении всегда уникальных кинематографических идей, и все они провалились. Они жили в окрестностях очарованного княжества, брались за любой «джоб», чтобы выжить, горбатились как таксисты, массажисты, хиропрактики, официанты, развозчики пиццы, басбои[237] в отелях, грузчики, и все они использовали любой клочок свободного времени, чтобы писать и переписывать пропозалы, аутлайны,[238] тритменты, наконец, скрипты, и все без конца пожимали плечами: почему нет никакой реакции, никакого интереса к русским потенциям, ко всей нашей «досто-толсто-пушко-гогло-чеховиане»?
Некоторые из них робко приближались к городу волшебников и даже при случае входили в него, надеясь, что интеллигентные манеры и британский акцент, приобретенный от московских частных преподавателей английского, произведут впечатление на голливудскую аристократию. Другие старались взять крепость штурмом, демонстрируя на всю катушку русскую непосредственность, граничащую с хамством. Одного такого, позвольте напомнить, мы с Алексом встречали на приеме у Джефа Краппивва. У таких английский был ломаным до неузнаваемости, а их русский вообще был полной гадостью. Такие наливали себе до краев водки, а потом, демонстрируя русское гусарство, швыряли пластиковые стаканы о стенку. Любой из них был готов отшворить любую голливудскую ветераншу, которая открыла бы им магические ворота. Увы, оба типа полностью провалились. Ни одному русскому не удалось поставить настоящий полнобюджетный голливудский худфильм. В отличие от своих чешских и польских коллег, они от рождения были лишены чего-то такого, что здесь надо было знать.
Ну и вот вам единственное исключение, Алекс Корбах, его особый случай. Кто из миллионов эмигрантов в течение колоссального исхода в Новый Свет не мечтал найти здесь богатых и щедрых родственников? Счастливчиков, однако, можно пересчитать на пальцах одного-единственного пехотного батальона, а среди этих счастливчиков самый «счастливый» – наш АЯ. Ну, просто вообразите, сударь, такую космически редкую удачу – нежданно-негаданно натолкнуться на четвероюродного брата, который не только признает, но навязывает тебе родство вместе с немыслимым количеством денег вплоть до массивных субсидий в кинопроизводство, где ты мечтаешь воплотить свои, мягко говоря, странноватые художественные замыслы. Ну не все же, право, получать Александру Яковлевичу самшитовой палкой по башке, как считаете? Ну не можем же мы отказаться от такого шанса ради какого-то психологического реализма, столь же эфемерного, как и все остальное.
В это утро наш баловень Фортуны собирался провести свою последнюю павильонную съемку. После этого останется только экспедиция в Европу для съемок на натуре: четыре недели во Флоренции и окрестностях и три недели в Санкт-Петербурге. После этого он останется с километрами пленки в монтажной. Недавно он был поражен мыслью, что нечто стоящее может получиться из этого предприятия. Ветерком успеха повеяло сквозь неуклюжесть и общую несусветность производственного периода. Или что-то художественное промелькнуло? Так или иначе, в какой-то момент он был подхвачен штормиком вдохновения. Неужели это возможно? Неужели осуществятся мои старые мечты, рефлексии моей незрелости, мастурбические импульсы моего вечного несовершеннолетия, промельки смутных откровений, иными словами, вся моя жизнь осуществится на экране?
Прежде всего мне нужна классная музыка для этой штуки. Монтаж будет во многом привязан к партитуре. Есть три имени, которые годятся: русский, итальянец и швед, Петр, Пьерро и Пер, три гения, не вознагражденные современным миром. Их телефоны – в моем лэптопе. Хитрая штука сама звонит по телефон у. Начнем с русского, конечно, все-таки соотечественник. Эй, Петя, что ты там делаешь в своем трахнутом Бремене? Дрочишь свой флюгельгорн, вычищаешь похабщину из дневника для потомства? Хочешь заработать двести пятьдесят тысяч баксов? Да, лаконично ответил Петр Гениальный, и дело было сделано. Пьерро и Пер никогда не узнали, как близко они были в тот день к четверти «лимона».
АЯ сидел в классическом директорском стуле возле камеры, установленной на треноге. На голове у него была классическая твидовая восьмиклинка, так называемый «кепарь нью-йоркского таксера», а вокруг шеи обмотан классический шарф из шерсти ламы. В общем, почти классик, индиид!
Народ вокруг него находился в хаотическом движении. Прибыли представители профсоюза, чтобы договориться с администрацией о так называемых пищевых деньгах для осветителей и звукотехников. Они кричали и наступали друг на друга, как тренеры и судьи бейсбола кричат и наступают друг на друга и даже носками сапог как бы бросают пыль, но всякий раз на полдюйма не доходят до настоящего столкновения. Приехала Голди Даржан со своей свитой, включающей текущего дружка, двух телохранителей (по голливудским стандартам она вообще-то тянула только на одного), гримера, пары приживальщиков с ее родной Сардинии и неизбежного сутяги, который намерен был в ответ на претензии администрации по поводу частых опозданий начать встречный хай по поводу постоянной недооценки его клиентки звездного статуса. Между тем сквозь открытые служебные ворота виден был на паркинге «Данте», то есть Квент Лондри, который делал вид, что разговаривает со студийными шоферами о своей «испано-сюизе» тридцать шестого года, а на самом деле просто тянул время, чтобы войти в павильон на пять минут позже своей «Беатриче», этой «чип-чип-чип-кам-ту-мибимбо», как он ее называл между съемками. Что касается «пожилой Беатриче», то есть Риты О’Нийл, то она, показывая свой класс, прибыла точно вовремя и сейчас сидела недалеко от режиссера, читая «Божественную комедию». Ассистенты и помощники ассистентов между тем просто бегали взад-вперед, бросая виноватые взгляды на своего «царя», сидящего неподвижно, как фигура молчаливого упрека.
Теперь мы подошли к моменту действия, а потому нам нужно в конце-то концов рассказать, хотя бы в двух словах, о сюжете фильма. Мы должны признаться, Теофил, что не делали этого прежде только потому, что не могли его еще очертить. Единственное извинение, которое мы можем предъявить взыскательному читателю, состоит в том, что и сам АЯ, несмотря на бесконечные обсуждения и утверждения вариантов сценария, до сих пор оставлял за собой некую поэтическую вольность внести изменения в свой шедевр. Теперь, однако, пора.
Когда-то в конце XIII века во Флоренции жил юноша-рыцарь из семьи белых гвельфов. Он носил нитяные обтягивающие штаны-чулки из тонкой шерсти. Его стройные ноги восхищали скромных девиц и раздражали грубых «рагацци», что любили устраивать шумные свалки в сводчатых проходах города-крепости. Из них самыми гнусными были, конечно, гибеллины. Юноша был отлично тренирован на этот случай, и его владение мечом ничуть не уступало его владению кинжалом. Он, впрочем, не любил убивать и даже на поле боя, облаченный в броню, предпочитал просто сбить всадника копьем наземь, но не добивать его. Лишь кучка людей знала его как поэта, остальные видели в нем просто юного главу некогда грозного рода Алигьери.
Однажды, в час высокого волнения, вызванного вдохновляющей службой в церкви, Данте встретил девушку, которая поразила его непостижимой красотой движений и сиянием, что исходило от ее лица и глаз. Беатриче Портинари тоже не осталась безразличной к личности Данте. С этого момента две юные души вошли в цикл мучительных и сладостных отношений. Данте, который как глава рода давно уже был женат на своей верной Джемме и имел сыновей, сделал из Беатриче культ Божественной Красоты. День за днем он следовал за ней, пока она проходила по улицам, делала покупки у торговцев, молилась на коленях в церкви или вышивала на балконе. Он поклонялся ей как ангелу своих стихов, но ни разу не осмелился подойти и начать разговор. Что касается Беатриче, то она мечтала о нем как о любовнике и муже. Она тоже выслеживала его и пряталась в темноте, когда молодые поэты начинали обсуждать «новый сладостный стиль» в поэзии.
Однажды ночью она увидела его пьяным, пристающим к комедиантке на рыночной площади. Она возгорелась ревностью. В этот момент на площади вспыхнула ссора между гвельфами и гибеллинами, Данте пронесся с мечом и кинжалом, его профиль исполнился вдруг демонической страсти. Она убежала, как невменяемая, и рухнула в рыданиях.
Вскоре после этого Беатриче вышла замуж за доброго состоятельного человека с солидными рекомендациями. Новобрачные уехали из Флоренции в неизвестном направлении. Данте был потрясен и сломан, узнав о том, что его ангел исчез. Он носится на коне по провинциям, пытаясь напасть на ее след. Иногда ему кажется, что он видит странное свечение над крышами маленьких городков или над рощами маслин, и тогда он скачет туда в полной уверенности, что это светится Беатриче. Его старший друг поэт Гвидо Кавальканти уверен, что у Данте любовное безумие.
Между тем синьора Беатриче прекрасно знает о попытках Данте ее найти. Она трепещет перед образом этого бурного романтического поэта с мечом в руке. Она боится, что он бросит вызов ее мужу или наложит на себя руки. Страсть ее к нему становится невыносимой.
Вдруг, словно молния, низвергается на Данте немыслимая новость о смерти Беатриче. Сознание поэта совершает орбиты в некоторой пустоте, пока он не находит новую любовную радость в этой трагедии. Беатриче была столь совершенна, что ее, безусловно, призвали на Небеса, дабы занять некое пустующее место в ангельском чине. Отныне она – его Вечная Невеста, Небесная Дева, Образ Высшей Женственности.
С возрастом он становится суровым молодым мужчиной, одним из лидеров белых гвельфов. Он бросает вызовы властям предержащим, участвует в разных заговорах, пишет стихи («Vita Nuova»), размышляет с друзьями о «Золотом веке», о религии и политике, философствует о «Земле и Воде», кутит в подвалах Флоренции, влюбляется и домогается дам (Фьяметта, донна Пьетра), но никогда не забывает вглядываться в закаты, пытаясь расшифровать их как «Свечение Беатриче».
В самом конце столетия его партия снова понесла поражение в политической борьбе города, и он был выслан в охваченную чумой провинцию. «Черная смерть» и его не обошла стороной. Отрезанный от друзей, лишенный всякой помощи, он агонизирует в заброшенной хижине на склоне холма, с которого видны башни Сан-Джиминиано. Вокруг стоит страшный лес, который впоследствии стал фоном первой песни «Комедии»: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу».
Зритель между тем будет поражен резкой переменой всех декораций. Санкт-Петербург, весна четырнадцатого, пик «Серебряного века». Молодой офицер в кавалерийской шинели – черты его лица напоминают Данте – входит в огромный и почти пустой собор. Стоя в тени колонны, он шепчет не молитву, а «Стихи о Прекрасной Даме» Александра Блока. Молодая женщина в модной одежде проходит мимо и становится на колени перед иконой Богородицы. Нечего и говорить, она похожа на Беатриче. Офицер из своего укрытия наблюдает за ней с трепетом и восхищением. Хороши были тогда защитники родины.
Улицы модернизированной европейской столицы, каким был тогда Петербург. Молодая женщина резво идет по Невскому, у нее теперь задранный нос и высокомерное выражение. Юноша-офицер догоняет ее и умоляет выслушать. Он просто не может без нее жить. Она пожимает плечами. Кажется, вы уже получили от меня то, чего желали. Перестаньте быть таким назойливым, поручик.
Артистическое кабаре «Бродячая собака». Дым, шум, музыка. Группа поэтов в углу говорит о Данте. Почему снова «время Данте» пришло в Европу и Россию? Почему все окрашивается в сиреневый и лиловый? Кто-то говорит о том, что третья часть «Комедии» фактически написана только о непостижимых колебаниях света. Кто-то предполагает, что Данте действительно был там и вернулся, то есть был послан, чтобы попытаться рассказать об этом словами. Ну кто из нас решится совершить такое путешествие, шутит кто-то. А кто из нас решится влюбиться в Беатриче, усмехается еще один. Никто, кроме вас, Александр Александрович. Все повернулись к «королю поэзии» Блоку, о котором говорили, что он является воплощением Данте. Блок раздраженно отворачивается.
По соседству молодой офицер нервно прислушивается к разговору поэтов. Глаза его, затуманенные любовью, между тем смотрят на сцену. Там появляется его пассия. Она босонога и в греческой тунике. К восторгу аудитории она танцует танец гетеры и поет сомнительную песенку. Кто-то посылает ей букет роз. Одну из роз она бросает Блоку. Тот с усмешкой ловит розу, сует ее в бокал с шампанским и отправляет обратно. Офицер пытается сдержать слезы.
Белая ночь, пустые улицы, иллюзорные контуры города. Поэты, женщины и мужчины, медленно бредут к Неве. Среди них Блок, юноша-офицер и танцорка, которую тут шутливо зовут Путаница-Психея. Группа достигает набережной и рассаживается на мраморных ступенях, уходящих в неспокойные воды. Бесконечный закат томительно разворачивает свою драму на западных склонах балтийского свода. Захваченные шифрованными знаками небес, поэты молча медитируют. Офицер пытается дотянуться до руки своей любимой кончиками пальцев. Та сердито пересаживается ближе к Блоку.
Один за другим поэты начинают читать стихи о Вечной Женственности и об Апокалипсисе. Блок молчит и курит. Потом встает, откланивается и подзывает извозчика. Он не говорит ни слова танцорке, но она идет за ним и прыгает в пролетку. Офицер бросается следом, но безуспешно, экипажа уже и след простыл. Кто-то из доброхотов говорит ему название гостиницы, куда обычно Блок возит влюбленных в него девиц.
К концу этой бесконечной белой ночи офицер застрелился в парке перед маленькой гостиницей. Красотка вышла рано, чтобы успеть на работу: она была телефонисткой на Центральной. Увидела мертвого юношу и упала перед ним на колени, как в соборе. Блок смотрит из окна на эту сцену. Ему кажется, что это он сам агонизирует вслед за смертью впервые замеченного им человека.
Данте мечется в бреду. Он не замечает, что он не один в заброшенной лесной сторожке. Женщина в черном одеянии старается облегчить его муки. Она меняет мокрые полотенца на его лбу и пытается напоить его молоком. Но он снова уходит в страшный лес Первой песни. Он всматривается в ужасающее переплетение веток, сучьев, искривленных стволов, как будто старается постичь, что там проглядывает сквозь мрак. Оттуда в конце концов проступает еще одно видение бродячего дантовского духа.
Нью-Йорк XXV века. Город не особенно изменился со времен нашей эпохи. Те же небоскребы вокруг Центрального парка, хотя иные из них несут незнакомые и странные лозунги на фасадах. Танки и броневики медленно проходят по Пятой авеню и Пятьдесят седьмой улице. Иногда то один, то другой бесшумно поднимаются, как будто для того, чтобы заглянуть в окна высокого этажа. Сотни летунов на индивидуальных летающих аппаратиках парят над необозримой толпой, собравшейся в парке и на боковых улицах. Город находится в состоянии мятежа против остальной Америки. Он в осаде. Приближается решающая битва. Ультиматум Всеамериканской армии распространяется по небу с помощью неведомой нам технологии.
На одной из платформ Центрального парка мы видим еще одно воплощение Данте – популярного барда, вызывающего в памяти иных певцов нашего времени, включая Джона Леннона, тем более что платформа находится рядом с печально знаменитым жилым домом «Дакота».
Народ вокруг платформы яростно обсуждает условия капитуляции. Находится довольно много сторонников того, чтобы сложить оружие. Слушайте, ребята, они обещают не наказывать. В конечном счете исторически мы – часть той же самой страны. В наших языках много общих корней. Большинство, однако, опровергает пораженцев. Мы не можем доверять этим «бургерам»,[239] они устроят массовые казни, а оставшихся загонят в лагеря Небраски. Нью-Йорк должен остаться свободным! У нас есть еще шансы! Если Вашингтон присоединится, мы установим «артистократию» по всему континенту.
Наш певец, кумир этого города, обладает властью будоражить огромные толпы своим грубым хриплым голосом. Сегодняшний «гиг»[240] лихорадочно ожидается миллионами защитников города на улицах, на крышах и на бастионах. Ждут его и в рядах Всеамериканской армии. Командование беспокоится, как бы солдаты не подпали под влияние Олти Тьюда; так зовут певца.
Командиры мятежников стараются отговорить певца от выступления на открытой арене. В городе действуют группы всеамериканского спецназа. Нельзя исключить попытки покушения. Олти Тьюд (Alti Tude[241]) отмахивается от предупреждений. Что они будут петь там в Штатах, если меня аннигилируют?
Близко к сцене стоит группа молодежи. Они выглядят, как обычные фанатики музыки «кор», на деле же являются диверсантами. Среди них похожая на Беатриче, но стриженная наголо девушка. Она не может оторвать взгляда от Олти Тьюда, и он не может оторвать взгляда от нее. Пролетающий мимо херувим поражает их сердца любовной стрелой.
Он начинает концерт. Первым номером идет хриплый и страшный гимн восставшего Нью-Йорка. Потом он протягивает руку девушке и помогает ей вспрыгнуть на сцену. Он обнимает ее и начинает петь неизвестно откуда взявшуюся новую чудесную пенсю «Боже, она из Кентакки». На этот раз он звучит, как все теноры мира. И она, тренированная террористка, вдруг начинает вторить ему голосом сущего ангела.
Публика поражена красотой дуэта и охвачена чувством близкой беды. Боевики, имитируя хлопки над головой, поднимают свои крошечные аннигиляторы. В последний момент девушка закрывает Олти Тьюда своим телом и тает в его руках.
Данте, избавившись от этого видения, продолжает бродить в сумрачном лесу. Призраки кошмара, пантера, лев и волчица, кружат вокруг него. Он мечется в ужасе и тут замечает одинокую фигуру Вергилия, его любимого античного автора. Вергилия послала Беатриче, чтобы помочь Данте пройти через круги Ада, через чистилище и предстать перед нею в Раю.
Данте – его лицо пылает от счастья и любви – с полным доверием следует за своим вожатым. Они медленно спускаются по склону холма, пока крутая тропинка не выводит их к мрачному ущелью, которое и впрямь может быть Вратами Ада. Помедлив немного и посмотрев на Данте, который, в отличие от мертвых, все еще отбрасывает тень, Вергилий в его величественной суровости продолжает спуск. Данте следует за ним с надеждой и ожиданием. Они исчезают.
Между тем тело Данте корчится в чумных муках. Женщина, похожая на Беатриче, в черном одеянии сидит возле его кровати. Она плачет: предмет ее мечтаний умирает, гордый поэт, сотворивший из нее культ Божественной Женственности, умирает. Мы могли бы поверить, что это Беатриче, если бы мы ранее не видели ее похорон. Но кто, кроме Беатриче, может так страстно выразить любовь Данте? Когда-то, чтобы убежать от его поклонения, она вышла замуж за ординарного человека Симоне деи Барди. Увы, почтенный гражданин был маловыразителен в супружеской постели, в то время как страсть ее к Данте обострялась изо дня в день. В конце концов она поняла, что выход из этого бесконечного греха только один – смерть. Как ревностная католичка, она не могла наложить на себя руки, поэтому она решила инспирировать собственные похороны, а после исчезнуть и иссушить свою плоть в полном одиночестве, в отдаленной местности, в лесах Урбино. Ее муж как истинный друг был посвящен во все ее страдания, но вскоре после фальшивых похорон он и сам исчез без следа. Долгие годы Беатриче жила одна инкогнито на той же самой горе, где она недавно нашла в заброшенном доме агонизирующее тело Данте.
Пока мы вместе с ней вспоминаем об этих грустных делах, она вдруг замечает, что ее любимый больше не умирает, он просто спит. Кризис миновал, дыхание его выровнялось, краска вернулась к щекам, он улыбается во сне и иногда шепчет строчки стихов. Она понимает, что он может в любую минуту открыть глаза и увидеть ее. Она приходит в ужас от мысли, что он не узнает ее, поскольку ее красота за эти годы увяла. В то же время и возможность быть узнанной кажется ей совершенно немыслимой, так как это может разрушить тайну и лишить ее неразлучной «сладкой муки». За минуту до того, как он приходит в себя, она покидает хижину.
Он просыпается и оглядывается. Он не может узнать мрачное пристанище, где его едва не одолела страшная болезнь. Домишко превратился в уютное теплое жилище: в камине трещат дрова, большой пушистый ковер расстелен на полу, стол щедро накрыт вином, хлебом, сыром, овощами. Качаясь от слабости, он достигает стола, осушает залпом стакан вина и видит приготовленные явно для него чернильницу, гусиное перо и пачку добротной болонской бумаги. Забыв о еде, он начинает записывать в песнях что-то из того, что осталось в его человеческом сознании от встреч с Вергилием и Беатриче за земными пределами.
Проходит еще пятнадцать лет. Ссыльный поэт продолжает бродить по городам Северной Италии. Он живет то в Вероне, то в Пизе, то в Равенне. Подлинные любители и знатоки словесного творчества считают его крупнейшей личностью среди живущих, а может быть, и когда-либо живших. Его родная, любимая и презираемая Флоренция в конце концов дарует ему амнистию, однако он находит условия унизительными и отвергает ее. В ответ на такое высокомерие Флоренция приговаривает одного из своих бывших семи «приоров» к смерти на костре.
Однажды в Сиене Данте, высокий и прямой человек средних лет в длинном темно-лиловом плаще, заходит в лавку редкостей. Хозяин этой лавки, которого он знает как Дона Симоне, обычно предлагает ему книги, доставленные из Милана, Венеции или Лиона. В тот день он застает Дона Симоне в состоянии крайнего волнения. Он спрашивает, что случилось, и хозяин открывает ему невероятный секрет. Он не кто иной, как законный муж Беатриче, Симоне деи Барди. Сегодня утром он получил от нее известие. Она приезжает и может быть здесь в любую минуту. Нет, синьор Данте, не с Небес, а из Урбино. Он рассказывает Данте о фальшивых похоронах и о самоотречении Беатриче. Он не видел ее с тех пор и сейчас так трепещет, как будто она действительно спускается с Небес. Он предлагает Данте встретиться здесь, в лавке, с Беатриче, а он сам, пожалуй, лучше испарится.
Дон Симоне, конечно, не знал, что Беатриче собирается умолить его устроить ей встречу с поэтом. Ее здоровье быстро ухудшается. Она уверена, что это будет их последняя встреча в мире живых. Она бредет по узким улочкам в сторону торгового квартала. Сердце колотится, душа охвачена немыслимой тревогой. Она чувствует, что-то самое важное в ее жизни сейчас произойдет без всяких договоренностей.
Охваченный такой же тревогой, Данте вырывается из лавки. Он старается уйти отсюда как можно быстрее. И вдруг застывает как вкопанный на каменном мостике над каналом, что лежит внизу спокойный, словно мраморная плита. Одинокая женская фигура приближается к мосту по боковой улочке. Старые стихи из «Vita Nuova» звучат в его памяти. Он видит, как на мост поднимается юная светящаяся Беатриче.
И перед ней открывается такое же чудо: монументальная фигура некоего патриция превращается в юношу, трепещущего от ошеломляющей влюбленности и смущения. Тогда, тридцать восемь лет назад, они не осмелились протянуть друг другу руки. Теперь два пожилых человека задохнулись в их первом и последнем поцелуе.
Гигантское свечение поднимается над Сиеной. Горожане ошеломлены сиянием небес. Все флюгеры начинают вращаться, и окна распахиваются, и флаги хлопают на ветру, и странная череда похожих на корабли облачков пересекает небо.
Верный Дон Симоне прибегает запыхавшись. Он готов чем угодно помочь своей законной супруге Беатриче и ее возлюбленному, великому Данте, но их уже нет среди живых.
Таков был в общих чертах «плот»[242] сценария, одобренный в конце концов для производства. В этом виде с ним еще можно работать, ворчливо согласились профессионалы. Все-таки лучше, Алекс, чем ваши предыдущие варианты, ну согласитесь. Дольше всех артачились любители фехтования. Один, молодой да ранний из продюсерской группы, некий Клипертон, одолевал АЯ ночными звонками. Послушайте, Алекс, в 1301 году Карл Валуа прибыл со всей своей армией под стены Флоренции и устроил в городе отличный переворот. А ваш любимый Алигьери был очень здорово запутан в этой свалке, разве нет? Послушайте, как мы можем упустить такую возможность? Представляете, как подтянет весь проект одна пятиминутная батальная сцена?! Ну, кровь, ну конечно, войны без крови не бывает, ну, Алекс, ну не валяйте дурака!
В другой раз этот Клипертон говорил, что уже три ночи не может спать, все продумывает финальную «секвенцию».[243] Какого же черта, Клип, вы не спите, когда все уже давно продумано. Нет, Алекс, вы послушайте! В последнем эпизоде все должно перейти в страстное совокупление. Это будет торжество гуманизма, Алекс, усекли? Да-да, немолодая пара, прямо там, на мосту, в присутствии горожан! Это будет преодолением всех предрассудков, зарей Ренессанса, вы всасываете? Конец Темных Веков, сродни развалу Советского Союза, вы должны в это врубиться, Алекс! АЯ вежливо благодарил знатока и энтузиаста. Это «грозно», Клип, поистине «грозно»! Где вы брали свой курс истории, Клип? Ну, так я и думал – Гарвард!
Так или иначе, все уже подходило к концу. Он не мог поверить, что через пару месяцев, после экспедиции в Сэйнт-Пит (как американцы быстренько переименовали для себя бывший Ленинград), он расстанется с ублюдками бизнеса Квентином и Голди и останется наедине только с их отражениями на пленке.
Все шло гладко в тот день, и тон задавала, конечно, великая Рита О’Нийл. Без всякого сомнения, она отлично подготовилась к съемке, а внешность ее была, пожалуй, даже слишком свежа для пятидесятилетней Беатриче. Только однажды вдруг все едва не пошло вразнос. Голди Даржан, появившись на мосту в ореоле вечной красоты, не нашла там предмета своей страсти Квентина Лондри, который должен был к этому моменту сменить грим величия на свою натуральную юность.
– Долго мне еще ждать этого идиота? – поинтересовалась она, да так громко, что весь павильон услышал.
– Посмотрите на эту блядь! – вскричал тогда Квентин. – Она лишает меня права отлить между сменами грима! Провинциальная дура, ничего не понимает в системе нашего Лавски! Эта женщина – кретинка, братья, никто иная!
К счастью, сообразительный звукооператор, звали его Гильомом, врубил как будто по ошибке музыкальную дорожку и медным ревом приглушил заявление Лондри. Что касается первой фразы этого заявления, мы должны сказать напрямую: Голди никогда не обижалась на слово «блядь». Словом, все было уже готово для продолжения, когда в студию вошел Дик Путни.
Сначала Алекс не заметил начальства. Он только что произнес заветное слово «Экшн!»,[244] камера заработала и начала медленно по своим рельсам двигаться к мосту, когда кто-то из-за его спины мягко, но решительно взял режиссерский микрофон и скомандовал нечто противоположное: «Кат ит!», то есть «Стоп!». Повернувшись, он увидел группу высших чинов компании: Дик Путни, Риджуэй, Эд, Пит, Эд Путни-Кригер, Эдна Кригер-Накатоне. «Что „кат“?» – спросил он и прокашлялся. «Все „кат“!» – сказала Эдна в отличном японском стиле, то есть не оставляя никаких шансов на помилование в последнюю минуту. Произнося это, она протягивала ему утреннюю «Нью-Йорк таймс», то есть ту самую газету, которую он утром отфутболил с крыльца на газон, торопясь к машине.
Первая полоса демонстрировала ошеломляющие заголовки: «Конец эпохи», «Крушение трона Корбахов», «АКББ в революционном вихре». Там же были фотографии, большие и меньших размеров: Стенли Корбах в период расцвета, он же в период упадка с подчеркнутыми деталями этого упадка в виде морщин и пятнистого зоба, Норман Бламсдейл, неумолимый руководитель переворота, три дочери Стенли, ополчившиеся против отца (принадлежность оных к разным матерям не удержала журналистов от упоминания шекспировской драмы), Мел О’Масси, ракетой взлетающее новое имя, Арт Даппертат, первый вицепрезидент, чей уход из лагеря Стенли сыграл решающую роль в перевороте столетия, ну и, конечно, Марджори Корбах, кукольное личико которой не только демонстрировало последние достижения пластической хирургии, но и являлось маской современной финансовой Леди Макбет.
В добавление к заголовкам первой полосы весь раздел бизнеса был полон анализов, калькуляций и предсказаний того, что произойдет на рынке ценных бумаг в свете свержения Стенли с президентского кресла. Обсуждались также вопросы о безусловном крахе невиданной в истории благотворительной организации Фонд Корбахов и о судьбе личных ассетов Стенли, уже взятых под строгий контроль соответствующим федеральным ведомством.
Алекс отбросил газету, извлек свой радиотелефон и набрал номер, известный только кучке людей во всем мире.
– Шалом! – услышал он голос, который устрашил бы любого из вас, не принадлежи он вашему киноагенту.
– Привет, Енох! Это Алекс! Где вы там, ребята, сейчас находитесь в данный момент?
Енох Агасф хмыкнул:
– Кажется, это остров. Или Греция, или Карибы. Стенли только что ушел на пляж. Эрни и Джордж там его ждут, чтобы отправиться на рыбалку.
Алекс не стал спрашивать, что за Эрни и Джордж. Это могли запросто оказаться Хемингуэй и Байрон.
– Он видел сегодняшние газеты?
– Ну конечно. Он перелистал кубический ярд этих газет, потом сказал «мы проиграли» и пошел к морю, там Эрни, Джордж и Чарльз ждут его на рыбалку.
– А что это за Чарльз? – спросил Алекс.
– Шарлеман, – уточнил Вечный Жид и продолжил: – А почему бы и нет? Ребята все еще находят в этом удовольствие.
АЯ знал, что, если Агасфа не остановить, он будет без конца распространяться на свою любимую тему: бесконечная скука всего этого мира с его банальным солнечным светом и дурацким трепетом теней, как это все может надоесть, если даже и кинопредставительство уже обрыдло и ты жаждешь только одного, а чего, вы знаете, сэр. Он поблагодарил Агасфа и повесил трубку.
– Ну, давай поговорим, Алекс, – сказал Дик Путни своим коронным стальным голосом. Видно было, однако, как сильно он огорчен и взбудоражен. Все шестеро, о нет, простите, семеро сели в кресла и образовали некий круг рядом с кусками декораций, которые сейчас казались АЯ просто омерзительными. Ебаное тщеславие, говорил он себе, е-е-ебаное тщеславие, пытался он скрыть неудержимую зевоту.
– К вашим услугам, джентльмены, – проговорил он и сообразил, что обращение не совсем правильное. Тогда сделал легкий поклон в соответствующем направлении. – И ледис, конечно. Прошу прощения за множественное число, но это просто фигура речи.
Все обменялись взглядами, как это делают в присутствии неизлечимого алкоголика.
– Вы, очевидно, уже поняли, что мы должны остановить производство «Свечения», – сказал Дик. У него, кажется, слегка постукивали зубы. – Ты должен знать, что это было нелегким решением для меня, Алекс. Перестаньте зевать, сэр! Ты знаешь, что в традициях нашей компании относиться к своим режиссерам как к членам семьи. Вы знаете, как мы вас любим, как ты сильно был любим нашим почетным президентом, моим отцом Эбрахэмом Путни, не правда ли?
– А что с ним случилось? – спросил Алекс, внезапно сбросив зевоту и как бы засуетившись. – Надеюсь, он в порядке? Он жив?
– Дай мне закончить! – пролаял Дик с необъяснимой свирепостью. Потом продолжил фальшиво-деловым тоном: – Надеюсь, вы понимаете, как сильно мы все огорчены тем, что при сложившихся столь паршивых обстоятельствах нам приходится закрыть ваш восхитительный проект. И дело совсем не в финансовых прибылях или потерях. Безусловно, «Путни» может себе позволить выделить такой бюджет, который помог бы вам завершить вашу работу даже и без инвестиций Стенли. Важны, однако, принципы мировой солидарности. Посмотри вокруг, милейший, и ты увидишь беспрецедентную со времен коллапса Нью-Йоркской биржи в 1930 году лихорадку во всех деловых общинах мира.
Даже такие люди, как ты, Алекс, современные байрониты и исчадия русской литературы, должны понять, что деловое братство было возмущено безумным разбазариванием денег то в России, то в Бангладеш! Нет такой вещи в современном мире, как частные капиталы! Деньги не принадлежат никому – наоборот, мы принадлежим деньгам! Деньгам нужно работать, черт побери, и делать деньги, будь я проклят, если это не так!
Я старался убедить моего дорогого Эйба, моего отца и друга, в том, что мы должны закрыть «Свечение» из-за протеста против Стенлиного обращения с деньгами, просто для того, чтобы отмежеваться от анархиста и банкрота, однако Эйб упорно стоял на своем. «Руки прочь от Сашки!» Так он предпочитал вас называть, Алекс. – Дик Путни шмыгнул носом. – Теперь ты легче поймешь, почему я был вынужден его убить.
В этот момент Алекс заметил крошечную изумрудную башкенцию ящерицы, высунувшуюся из-за манжета Диковой рубашки. Ну, конечно, это тварь Попси, с которой мы имели честь познакомиться совсем недавно.
– Хей, Попси! – сказал он и прощебетал ей немного, как птица, или как ящерица, или кто там еще щебечет в этом мире. – Значит, ты убил Абрашку? – спросил он.
Дик кивнул со сдержанным рыданием.
– Фигурально? – спросил Алекс.
– Буквально, – всхлипнул Дик.
– В самом деле? – спросил Алекс по-светски.
Мадам Кригер-Накатоне прищурилась так, что глаза ее превратились в две горизонтальные морщины.
– Дику пришлось лишить Эйба жизни при помощи японского бамбукового пистолета семнадцатого столетия. Мы все под впечатлением его мужества и того послания, которое он адресовал этим поступком всему деловому миру. Весь наш директорат надеется, что и вы, Алекс, оцените жертву.
Все Путни, Путни-Кригеры и Риджуэй вздохнули: «О да, ведь это же драма библейских масштабов!»
В этот момент Попси проскользнул из внутренней сферы Дика во внутреннюю сферу Алекса, то есть в рукав пиджака и еще глубже, под майку. Удивительно, Алекс даже не вздрогнул. Он сидел без движения, мокрый и вялый, в то время как рептилия молниеносно носилась по его коже. Несколько раз она пересекла его грудь, ужалила малость сначала левый сосок, потом правый, повертухалась слегка в одной из его подмышек и только после этого спикировала через живот вниз, к гениталиям. Резинка трусов не оказалась для нее помехой.
Александр Яковлевич свободно падал в «бездну унижений», как это когда-то назвал поэт. Семья Путни тем временем заказала кофе. Когда их заказ прибыл, он расстегнул «молнию» на штанах и вытащил Попси за хвост. Талисман компании был оскорблен в своих лучших намерениях. Возмущенно стрекоча, он оставил свой хвост в пальцах АЯ и свалил обратно в безупречный рукав нового президента. Только после этого АЯ встал и удалился. Хвост Попси еще долго плясал на его ладони.
3. Стенли
Удивляюсь, почему дарвинская «теория эволюции» и идея Творения считаются такими непримиримыми и даже как бы взаимоотрицающими понятиями. Я бы осмелился сказать, Теофил, что эта непримиримость основана на до смешного простом недоразумении. Позволь мне на эту тему начать с тобой так называемый диалог из-за порога; некоторые считают, что я был довольно силен в этом жанре после кварты скотча. Все паузы между моими сентенциями я буду считать твоим мудрым вкладом в беседу, о Теофил. Или просто твою улыбку, Теофил, спасибо.
Мне кажется, что главное несоответствие в спорах между двумя лагерями оппонентов лежит в диспропорции временного отсчета. В Старом Завете время измеряется тысячелетиями – шесть с чем-то тысяч лет со дня Сотворения Мира по иудаистскому календарю, – в то время как теория эволюции оперирует миллионами и сотнями миллионов лет. Одна вещь при этом почему-то не принимается во внимание: библейские годы являются аллегорическими, то есть поэтическими по своей природе, в то время как эволюционистские строго относятся к физике, к отсчетам вращений Земли вокруг Солнца. Согласившись с этим, мы можем предположить, что библейские тысячи неизмеримо больше, чем физические миллионы.
Говоря «больше», я прибегаю к простейшему из упрощений. Понятие «лет», библейских и физических, было дано нам, живым, для того чтобы мы как-то приспособились к той периферии Непостижимого, в которой нам приходится существовать.
Творение, которое мы стараемся постичь (прости за скобки, Теофил, но, говоря «мы», я чаще всего имею в виду себя и своего четвероюродного брата Сашу Корбаха), произошло в «пространстве» (ну как мы тут можем обойтись без кавычек и скобок?), в пространстве, где не было ни времени, ни воздуха. Изначальный замысел был совершенно иным и совершенно непостижимым для нас, детей воздуха и времени. Этот замысел был оставлен для нас лишь в форме робкого воспоминания, которое мы обозначаем словом «рай».
Мы не можем вообразить Изначальный Замысел, но мы можем представить себе, что где-то на периферии произошло некоторое отклонение, быть может, как результат того, что мы называем «борьбой Добра и Зла». Момент Соблазна – любая аллегория здесь годится: змей, яблоко, нагота (одежда, возможно, была не нужна Адаму и Еве в субстанции иной, чем воздух) – произошел, и за ним последовали Первородный грех и Изгнание из Рая, то есть из Изначального Замысла. Произошло творение «из грязи» или «из праха», то есть из первичного замеса элементов с кислородом и углеродом.
Мы могли бы сказать, что Соблазн и Изгнание произошли в одно и то же время, если бы время существовало, но этого не было. Время и есть Изгнание, оно сотворило этот наш мир, сферу смертных. Время-Изгнание сотворило биологию – или, может быть, vice versa, а скорее всего, они сотворили друг друга, – и таким образом ДНК мы можем считать формулой изгнания из Рая. Разумеется, мир тварей не мог бы существовать, да и не мог бы быть сотворен без субстанции «воздух» и его производных, воды и земли. Воздух, вода и земля сформировали элементы всего живого, а стало быть, смертного. Сразу же пошло время. Пошел отсчет Изгнания.
Надеюсь, ты извинишь нас, Теофил, но к этим соображениям мы с Алексом пришли после бесконечных дискуссий по телефону за счет Фонда Корбахов, который, как русские говорят, приказал долго жить. Итак, есть Творение и есть периферийное отклонение от Изначального Замысла. И здесь, в ходе этого отклонения, миллионы и миллиарды лет эволюции могли пройти от первозданной амебы до человеческого существа, и это никак не может опровергнуть Всемогущего, поскольку в контексте Изначального Замысла продолжительность не означает ничего. Ни «долго», ни «коротко» там не существует, да и глагол «быть» там не в ходу; там какой-то иной глагол в ходу, нам неведомый и непостижимый. В попытке сделать это более понятным мы говорим, что и миллиард лет не может покрыть одного дюйма на пути изгнанного Адама, но даже и эта попытка звучит вздором, поскольку в Изначальном Замысле нет ни миллиарда, ни дюйма. Так что это не важно, произошел ли человек от обезьяны и как долог был этот процесс, поскольку это происходило в рамках Изгнания, а оно еще продолжается. Сейчас оно продолжается в виде человеческой истории и всего, что связано с нею, и будет продолжаться до конца истории, который, очевидно, и станет концом Изгнания.
Все эти Australopithecus Anamencis, Australopithecus Ramidus и другие «хоминады» Высшего Плиоцена и Низшего Плейстоцена, что жили пять с половиной миллионов лет назад, и даже Driopithecus, что жили двадцать пять миллионов лет назад, не могут опровергнуть и дюйма на пути Адама из Рая, а стало быть, обратно в Рай.
Эволюция видов существовала, существует и будет существовать как периферийное отклонение от Изначального Замысла и, очевидно, прекратит существовать только тогда, когда завершится Изгнание и все виды вернутся в непостижимый мир, где нет ни времени, ни воздуха, иными словами, когда биологическая жизнь завершит свой цикл.
Что касается современного человека, то мы немедленно после того, как приняли вертикальное положение, увидели звездное небо и были охвачены каким-то смутным воспоминанием об Изначальном Замысле. Это воспоминание, то есть то, что называется Духом Святым, привело нас к активности, скорее странной для чисто биологического организма, а именно к религии, чувству красоты, творческому воображению и склонности к легкой комической походке.
Шопенгауэр сказал, что чувство сострадания к товарищам по жизни – это единственное качество, которое отличает человека от других участников биологического цикла. Хорошо было бы к этому добавить еще и дар юмора, который чудесным образом живет в нас рядом с ощущением неизбежной смерти. Эти качества, что, возможно, странным образом соотносятся со странной жаждой бессмертия, иной раз, быть может, помогают человеку преодолеть шопенгауэровскую слепую «волю к жизни». Иными словами, смутные воспоминания помогают преодолеть бессмыслицу. Бог не покинул нас ввиду нашего возврата к Изначальному Замыслу. Эволюция видов – это просто временное отклонение от непостижимого Творения, не так ли, Теофил? Святой Дух не покидает нас, и для того чтобы человек не чувствовал себя жертвенным ягненком Вселенной, Господь посылает к нам своего Сына во плоти, показывая, что Он разделяет наши муки рождения, жизни и смерти. Рядом с Христом появляются и иные посланцы Святого Духа, аватары, как Магомет и Будда, чей спутник, нехищный лев, тоже, быть может, является неким промельком Изначального Замысла.
Иные поэты бывают избраны для попыток передать Непостижимое. Мы много говорили о Данте с моим четвероюродным братом. Алекс уверен, что тот побывал в непостижимых сферах. То ли под влиянием какого-нибудь состава, а скорее всего, в результате болезни он преодолел границу между Изгнанием и Изначальным Замыслом. По возвращении из этого «путешествия» он попытался в стихах передать свои ошеломляющие впечатления, но слов для этого недостаточно, какую бы силу ни придавал им его талант. Этот мучительный недостаток выразительной силы, те стены материи, в которых Данте снова был замкнут, быть может, и заставили его назвать свой опус комедией. И все-таки он проводит нас через муки корчащейся плоти в суровую очищающую сферу астрала и далее туда, где среди ослепительной флуктуации света, то есть радости, он встречает свой образ Беатриче и может прикоснуться к смыслу Изначальной Любви.
Послушай, Теофил, однажды Алекс прислал мне «Федеральным экспрессом» пингвиновское издание рассказов Достоевского. Я был тогда в Каире, а он вскоре позвонил мне из Хельсинки. Стен, сказал он, прочти рассказ «Сон смешного человека». Эту штуку обычно считают образцом «утопической сатиры», однако мне кажется, что даже великий Бахтин ошибался в этом определении. К счастью, мы были тогда с Алексом примерно на одном меридиане, так что можно было звонить, не боясь вытащить собеседника из глубокого сна. Несколько вечеров подряд мы обсуждали с ним этот странный рассказ.
Коротко, о чем там идет речь. Некий человек в Санкт-Петербурге решил покончить самоубийством. Он положил перед собой пистолет и заснул. Во сне он увидел, что самоубийство осуществилось. Он видел себя в могиле. Затем после его страстного обращения к Богу могила раскрылась, и некое темное существо повлекло его через Галактику к удаленной звезде.
Звезда эта напоминала Землю, но на ней царила аура какого-то высшего триумфа. Там жили идеальные существа, полные истинной любви ко всему окружающему. Там были мужчины и женщины, вспоминает он, они любили друг друга, но никогда он не замечал там взрывов жестокой чувственности, той, что является едва ли не единственным источником наших грехов. Это место не было осквернено грехопадением, существа эти не прошли через Первородный Грех. Многое там было за пределами его понимания и за пределами рационального научного подхода. Таким образом пред ним, очевидно, предстал Изначальный Замысел; так нам это представилось, о Теофил!
Далее там следует история, как он развратил идеальных людей своими земными пороками, но вот это как раз что-то вроде нравоучительной сатиры. Важнее другое. Когда герой проснулся, он понял, что никакими словами он не выразит того, что с ним на самом деле случилось во сне. И все-таки он чувствовал неотступный позыв хотя бы попытаться передать это словами, потому что, быть может, это был не сон, это было что-то ошеломляюще реальное.
Достоевский, как известно, был эпилептиком. Эта болезнь мучила его с детства в течение всей жизни. Были периоды, когда он изнемогал от бешеных затемнений сознания и конвульсий, и все-таки, как он признавался, иногда он предвкушал очередной приступ, потому что там часто возникал некий ускользающий момент, когда ему казалось, что он с немыслимой остротой понимает все внутри себя и вокруг и постигает причинность происходящего. После припадка, однако, он ничего не помнил – ничего не оставалось, кроме темной прорвы. Не исключено, что однажды «момент причинности» оставил более глубокий отпечаток в его душе и вот тогда он, как и Данте, попытался передать словами свое видение, ту «не-жизнь», что была неизмеримо выше биологического существования. Так или иначе, ему удалось сказать, что в течение ускользающего момента он ощутил некую непостижимую реальность, без времени и воздуха, в которой тлеет и не может не тлеть все живое. Вот к чему мы пришли с Алексом, а также мы решили, что появившиеся к концу образы разврата и самоотрицания были не чем иным, как признаками пробуждения «Смешного человека», его возврата к земному сознанию.
Просим прощения, но мы забыли сказать в начале этой главы, что Стенли Корбах проводил свой «диалог-через-порог», сидя в «Международном Доме Блинов» на углу бульвара Бонавентура и 1056-й стрит в густонаселенной долине Сан-Теофила штата Очичорния. К этому моменту он уже управился с тридцать третьей стопкой овсяных блинов, всякий раз сопровождаемых кувшинчиками кленового сиропа. Вкусно, думал он в несколько шаловливом отступлении от своих философских упражнений. Чертовски аппетитно! Только подумать, не будь я свергнут со своего президентского трона, я бы никогда не попробовал такой славной жратвы, не говоря уже об уникальной международной атмосфере этого блинного рая! Уютно. Пронизывающе уютное местечко. Уютно и тепло. Весь штат Очичорния попал под ледяной циклон, за стеклянными стенами МДБ по небу несутся длиннохвостые тощие хищницы тучи, а здесь тепло, как будто мы действительно в «Солнечной Очичорнии». Народ за стенами, впрочем, тоже не унывает. Толпами шествуют по Бонавентуре в шортах и майках, упорно полагая это место именно тем, за которое было заплачено в туристических агентствах. Все течет на курортный лад: катятся открытые машины и кондиционированные до арктического уже холода автобусы, в толпе царствует беззаботность, без какого-либо дела и направления шествуют и люди и собаки, в частности вот эта парочка, немецкий овчар и золотистый ретривер.
Стенли заметил, что эти «друзья человека» прогуливаются без друга, то есть сами по себе, будучи соединены одним поводком. Похоже было, что они сами себя таким образом прогуливают, вернее, один из них, широкогрудый мощный овчар с несколько сардонической усмешкой в углах убедительной пасти, прогуливает экзальтированного и порывистого блондина, чей хвост без конца колышется над ним, демонстрируя радость жизни и неограниченное дружелюбие. Например, если «блонд» видит на другой стороне улицы какую-нибудь интересную личность, особенно женского пола вне зависимости от ее породы и размера, и немедленно собирается рвануть к ней через улицу, «брюн» упирается всеми лапами в асфальт и таким образом подсекает романтический порыв в самой основе.
Еще некоторое время Стенли Корбах наблюдал перекресток, полный машин, людей, собак, вывесок, флагов, пальм и облаков, пока вдруг чуть не задохнулся от любви. Послушай, Теофил, я понимаю тщетность нашего мира и все-таки не могу не восхищаться его разнообразием. Мой четвероюродный Алекс время от времени, как бы желая проверить самого себя, напоминает мне шопенгауэровский удушающий концепт бесконечного повтора. Признаться, меня этим не убедишь. Я тоскую по Изначальному Замыслу и надеюсь, что когда-нибудь двери к Непостижимому откроются для всех смертных, но, увы, я, грешный, несмотря на мой возраст, все еще так увлечен этим периферийным, усеченным, жалким, развращенным и сластолюбивым миром отклонения со всей его историей и густым пузырящимся варевом, которое я сейчас наблюдаю из «Международного Дома Блинов», что не могу себя представить за его пределами.
Алекс обычно усмехается, когда я ему говорю об этом. Слушай, Стен, шутит он, похоже, ты боишься заскучать в мире Непостижимого. Конечно, это наивно, но я все-таки считаю, что Господу Создателю нужен каждый миг нашего жалкого существования, даже и сорок минут, что я тут убираю горки блинов, сначала с икрой, по-русски, потом с баклажанами, по-мексикански, etc, etc, ну и в заключение тридцать три кувшинчика с кленовым сиропом, на отечественный манер.
Он попросил счет и под столом запустил руку в свой мешок с деньгами. Этот мешок появился у него в одну прекрасную ночь, в тот период, когда все его счета были заморожены, а его самого стали засыпать всякими сабпенами, то есть повестками в суд. Тогда дворецкий Енох Агасф под покровом темноты зазвал его в парк «Галифакс фарм», к тому павильончику, под которым они когда-то прятали бутылки крепленой бузы.
– Засунь-ка туда руку поглубже, сынок, – предложил он. – Нащупал что-то мягкое? А теперь сожми пальцы и тащи! – Извлечен был довольно увесистый мешок довольно замшелой кожи. – Там несколько миллионов, сколько, точно не знаю, – сказал Вечный Жид. – Когда кончатся, скажи, еще где-нибудь поищем.
Больше всего Стенли боялся вытащить из мешка не сотенную, а тысячную или даже десятитысячную банкноту. Недавно такое случилось в драгсторе,[245] и он очень был смущен паникой, которая воцарилась в учреждении вследствие такой простой ошибки.
К счастью, его никто теперь не узнавал в Соединенных Штатах Америки. Удивительно, насколько небрежен наш народ даже в отношении своих любимых знаменитостей. Еще недавно все пачкающие пальцы таблоиды печатали его фотографии на первой полосе под броскими заголовками: «Неожиданное крушение империи Стенли Корбаха», «Финальное исчезновение Большого Стена» и тэдэ. Стоило ему, однако, отрастить белую бороду и прикрыть ею свой знаменитый пеликаний зоб, как все его перестали узнавать в упор.
Он вышел из храма блинов, смешался с толпой и медленно двинулся по бульвару Бонавентура в северном направлении. Он не знал, чем заняться. Фактически он не знал, чем заняться, со времен краха империи, вот разве что мыслить о тайнах бытия. Вообще-то совсем неплохо думать о тайнах бытия, особенно когда ты близок к завершению седьмого десятилетия жизни и тебе нечем больше заняться.
Слабо одетый, частенько подрагивающий от холода, но все еще предпочитающий по-летнему наслаждаться «Солнечной Очичорнией», народ бросал на него любопытные взгляды, хотя никто не узнавал в нем Большого Стена. Просто он был «нечто», гигантский пророк с пушистой белой бородой и, что самое удивительное, облаченный в теплое твидовое пальто.
На углу 1059-й его взгляд привлек странный экипаж, полулимо-полуфургон лазурного цвета. Он стоял на широченном паркинге возле «Сейфвея». Две собаки сидели на его крыше, немецкий овчар и золотистый ретривер, похоже, те самые, что гуляли недавно по бульвару сами по себе. Из фургона вылез и потянулся, как со сна, любопытный малый. У него была достойная описания внешность. Он был высок, хоть и не так высок, как Стенли. Зато его борода была намного длиннее. Что касается его гривы, то она сейчас под холодным ветром трепетала над его головой, как плюмаж неведомой птицы. Он не был таким седым, как Стенли, и походил не столько на пророка, сколько на дервиша в восточном бурнусе. На груди у него висели массивный православный крест, весомая звезда Давида, а также разные языческие амулеты, включая несколько птичьих лапок. Чтобы не забыть: у него был большой и костистый нос, а его пупок, хоть и невидимый под бурнусом, размером и твердостью напоминал шахматную ладью. Ух-ух-у – под резким порывом ветра что-то похожее на крылья поднялось за его плечами.
Он заметил Стенли и сделал приглашающий жест. Стенли приблизился, они пожали друг другу руки.
– Ty tozhe ptitsa? – спросил незнакомец по-русски.
– Не думаю, – ответил Стенли, но, заметив легкое разочарование, мелькнувшее среди щедрой растительности, добавил: – Во всяком случае, еще нет.
– А я птица, – сказал человек с птичьей улыбкой.
– В смысле свободен, как птица? – спросил Стенли.
– Свободен, как птица, силен, как птица, умен, как птица, значит – птица! – Он хохотнул и представился: – Тих.
– Стен, – назвал себя бывший магнат и подмигнул двум псам, что следили за этой сценой с крыши экипажа.
– Это мои друзья, Умник и Дурак, – представил их Тих, то есть, как вы уже, конечно, догадались, Тихомир Буревятников.
Стенли извлек из бездонного кармана плоскую флягу виски.
– Хочешь хлебнуть?
Тих просмаковал напиток, как знаток.
– Люблю «Гленморанжи» больше всех других. Ты знаешь, Стен, я бывший богач.
– Я тоже, – кивнул Стенли и спросил: – Вы куда направляетесь, ребята, собаки с птицей?
– В Свиствил, – сказал Тих. – Там у нас кореша в концлагере. Хочешь с нами, Стен?
– Ну конечно!
И они отправились.
4. Де Люкс
Пора вспомнить моего первого и единственного законного мужа, мистера Люкса, спасибо за это имя, сукин сын; вообразите меня под девичьей фамилией Фиф. Он мне дал это миллионно-долларовое имя, грязный старик, хотя подделал документы. Мне было четырнадцать, когда он захотел на мне жениться, хотя выглядела на двадцать пять, и он подделал ксивы. И все-таки мне нравился этот вонючий хуй.
Ну, это потому что завтракал в постели и жевал свои яйца среди наших роскошных подушек, стонал, причитал, как будто хотел ими отблевать сразу после проглота. Его первая жена Бабелка заходила к нам на обратном пути из синагоги. Она была набожной, потому что ни один мужик не хотел на нее взглянуть дважды, и все-таки этот ебаный Люкс упражнялся в юморе в ее присутствии. Эй, Бабелка, это дитя не знает сексуальной техники, покажи-ка ей свой любимый трюк «желтые пальчики»! Ее собака Экстраквин нюхала «мои меха», как Люкс называл зимнее пальто, что он купил для меня на барахолке. Мы жили тогда в Бостоне, где у людей в сраках вырастают сосульки. Эти французские меха назывались «les sobakis». Только позже я поняла, что это были просто собаки, причем той же породы, что Бабелкина Экстраквин.
А все-таки малышка Фиф очень гордилась своим законным мужем, в постели она старалась его раскочегарить, чтобы он выложил все свои грязные секреты, как это бывает у стариков. Ему было сорок пять, и он казался мне Ноем. Раскочегаренный, он впадал в истерику и лез с поцелуями в мой поддон; он имитировал новый подъем своего либидо, а потом, пф-уф-ф, начинал храпеть прямо на мне, вуаля!
Вообразите, друзья, люди моего поколения, однажды я нашла длинный седой волос у него на кальсонах. А за неделю до этого к нам приехала погостить его как бы тетя, синьорина Джульетта, старая кляча. Она обожала устриц. Ну жри своих слизняков, смотри по ящику свою «Люси», своего «Джонни Керсона», но вдруг ночью просыпаюсь от какого-то повизгивания. Вуаля, мой древний муж шворит свою еще более древнюю «тетю» в собачьей позиции! Какая началась драма, уссаться можно! Я предстала перед ними как юная фурия бунтующего поколения. Ты любишь дрочить свое либидо на бабульках, Люкс, ну что ж, а я вот сейчас пойду на улицу и дам первому встречному; ну хватит о нем.
Я знаю, что мужики чувствуют, глядя на меня. Им хочется видеть меня последней блядью. Один такой богатый доктор, гинеколог, конечно, научил меня такому поцелую, длинному и горячему, прямо до самой матки. Тогда восторг моего люксозного тела и моей робкой девичьей души чуть меня не парализовал, ей-ей. И я кричала то, что он хотел услышать: да, я блядь, я большая лошажья блядища!
Признаюсь Господу во всем, хныча и умоляя: Милостивый, Голубоглазый, прости мне эти дельфиньи конвульсии!
Интересно было побывать в разных клевых местечках вроде «Сенчури-плаза» или «Уолдорф». Ебари в белых блейзерах открывают шампанское бутылку за бутылкой. Что вы так беспокоитесь, могу обслужить всех подряд; вдруг разваливается с диким шумом потолок, как будто конец пришел миру сему. Что там случилось? Да просто хуяка какая-то залетела из космоса и прошила все этажи.
Он говорит: у тебя души нет, одно серое вещество. Как раз наоборот, сказала я ему, как раз напротив. Интересно, где это он у меня серое вещество-то нашел. И кто это был, который сказал? Он был какой-то особенный. Стенли Корбах из них самый особенный, Большой Богатый Богатырь, БББ. Впрочем, они все особенные. Из них один был еще более особенный, чем Стенли. За десять лет до Стенли я сотрудничала с «Розовым Фламинго», которое обеспечивало эскортный сервис приезжающим в штат Очичорния козлам. Тот парень был худенький, чуть повыше моего Пью, такая среднего размера горилла, он ждал меня уже без штанов, но зато с огромной красной штукой, которую я должна была эскортировать в свою дыру. Ей-ей, это был какой-то толстый лом, и, когда он начинал его вгонять в меня, у него на губах была такая злобная усмешка; я все время видела ее в зеркало. Что его заставляло быть таким мерзким со мной и почему я все это брала? А что нам остается еще делать с большой дырой в самой серединке? Никогда больше не позволю себе быть их дырой, думала я. Сама их буду драть. Завладею их штуками, вот и все. У них бывает иногда так много джизмы, что кажется, будто вытягиваешь из него все его секреты. Ну-ка, вытаскивай и кончай на меня. Один разбрызгивал по всему моему телу и по простыням. А один с самым экзотическим членом из всех, что я видела, похожим на какого-то малайца с вихром волос, все заставлял глотать. Такие гады, всегда хотят доминировать. Стенли особенный; когда я ему сказала, что, кажется, от него влопалась, он был так счастлив, что танцевал со мной всю ночь, как будто я была какая-нибудь звезда из старых фильмов. Я ему сказала, что будет мальчик, а он сказал, тогда я на тебе женюсь, будешь миссис Корбах. Ну что вы от них хотите? Они не успокаиваются, пока не влупят вам так, что вы распухаете, как слон или как не знаю что.
Джизус-джек, ребенок оказался черный, огромнейший негритянский мальчишка, Клеменс, к вашим услугам! СК, конечно, был за границей, в этой грязной России, где же еще. Когда он через месяц вернулся, он первым делом трахнул меня под лестницей тридцать три раза во всех шубах по очереди, потом мы еще поругались из-за политики, ну, опять эта «Раша-Раша», потом он мне сделал подарок, сборник поэм мистера Байрона и тридцать три набора драгоценностей из Кремля, ну а потом он заорал: где мой мальчик, где Клеменс? Он поцеловал невинного негритенка и сказал не по-нашему: Que grand tu as![246] Ты посмотри, Берни, он кричит, это же вылитый я! Это мой первый сын! У меня было четыре дочери, Берни, – как будто я не знала всех этих сук! – и никогда еще не было сына! Да ты посмотри на него ближе, говорю я, неужели не видишь, какого он цвета? А мне все равно, какого цвета человек, говорит он. Твой негритянский ген, Берни, оказался сильным. Обчемты, я спрашиваю. Оказывается, его Фухс со своими бездельниками вычислили, что во мне 1/32 часть негритянской крови. Тут уж у меня, как в литературе говорят, все шпильки посыпались.
В прежние годы у меня было не больше шести негров, ну, скажем, восемь. Один был фабрикант обуви, он любил обувь. Я любила раздеваться догола и иметь этого негра во всем костюме и в техасских сапогах с инкрустациями. А еще один был музыкальный виртуоз. Он играл на своем кларнете, как ангел, а я играла на его втором кларнете, как демон. Я иногда даже начинала зевать из-за нервов. Ну пожалуйста, Винт, перестань играть, ведь ты же все-таки с женщиной. Не помню, это он или другой кто-то принес мне книжку одного Франсуа. Там женщина родила ребенка из уха, потому что у нее вся требуха вывалилась. Нет, это Лавски мне принес. Вау, память, скажи мне о том, что это Лавски пил из моей туфли шампанское! Память вместо этого подсовывает соски. Кто был так нежен с ними, если не Мел? Он заставлял их торчать и урчал над ними, как кот с львиной гривой.
Вот говорят «большой, большой», а мой крошка-генерал в меня как пламя какое-то вдувал сзади. Правда, снизу еще мой Матт трудился, пока этот азиатский дьявол скакал на моей заднице, ф-фу, кончаю каждые пять минут, а тут еще венгерский бродяга ждет своей очереди. Лавски, а ты где, чего же не присоединяешься к компании? Гад высокомерный!
А мистер Люкс, что дал мне мое классное имя, тем временем помре. Его последняя супруга, пожилой гомик, принес мне кассету с его умирающим голосом. Там перечислялось наследство, что он оставлял мне, которую он называл «сорванный мной цветок»: серебряный кофейный сервиз, буфет красного дерева и крошечный кобелек чихуахуа, который в первую же ночь забрался под одеяло и начал лизать мой клитор.
В конечном счете я уже в пятнадцать лет знала о мужиках то, чего большинство дам не знают и к пятидесяти. И мужики это чувствовали сразу, при первом же взгляде на меня.
Когда я была маленькой девочкой, я прям умирала от бланманже с черносмородиновым вареньем. Мамка моя, миссис Фиф, довольно часто себя этим ублажала, и мне перепадало. Философски говоря, наглоталась я сластей за свою жизнь! Тут Джокзи-Кок к моей мамке повадился. Иной раз скребется по ночам в дверь, как нищий за корочкой хлеба. Сержант Фиф с фонарем в одной руке и с кочергой в другой пошел шугануть крысу, а вытащил такого «неформала» из штата Очичорния: железные очки и цилиндр на башке, такой критик режима, а впереди его штука устроила настоящую палатку из его штанов. Я как глянула на это дело, сразу поняла, что в мире есть вещи послаще бланманже с черносмородиновым вареньем.
Боже, милостивый и любимый, надеюсь, хоть в могиле, когда протянусь, придет ко мне покой!
Через пару лет этот хиппи пришел уже в безупречном костюме не к мамке, а ко мне и давай меня пахать, ну пашет и пашет, а я так притворяюсь, как будто не меня, а какую-то другую девочку пашут, а он тем временем смотрит на меня вниз через очки и толкует о Спинозе.
Как-то раз меня посетила идея, прям такая пронизывающая. Почему бы женщинам не управлять этим миром? Могучим и щедрым бабам? В России, говорят, весь XVIII век правили женщины. Они выбирали себе гвардию, выстраивая все войско в обтягивающих штанах. Скажут, что я просто взбесившаяся нимфоманка, а я отвечу, что, если императрицу трахают двадцать раз в день, от этого выигрывает весь народ.
Верьте не верьте, всю жизнь мечтала о принце, который удовлетворил бы мои потребности. И вот он явился, Стенли Франклин Корбах, сановабич[247] и мазерфакер. У него язык семь миль длиной, а жеребцовский пенис еще длиннее, во всяком случае, со мной, и чеки он мне выписывал соответствующих размеров. С такими чеками я приходила в модный бутик, и никто уже не хихикал у меня за спиной. Вот так у меня развились утонченные вкусы. Однажды он меня приглашает на прием в бразильянское, что ли, посольство. Хей, Стен, спрашиваю я, а что, если я вот сюда пришпилю белую розу? Ну конечно, отвечает он, кому же еще, если не тебе, носить символ чистоты? Знаешь, говорю я, мне бы хотелось, чтобы все это место, ну, жизнь, плыло бы в белых розах. Ну и пусть оно плывет себе в белых розах так, как ты хочешь, говорит он. Может быть, ты, Берни де Люкс, действительно самая большущая тут блядь на этом приеме, однако никто из приличной публики не имеет права бросить в тебя камень: я знаю их всех по финансовой деятельности. Все они боятся попасть в ад из-за нечистой совести, а твоя совесть, Берни, это белая роза, хоть она и расположена немного в стороне от твоего тела.
Однажды мы лежали с ним на краю гигантской пропасти среди рододендронов. Это было на острове Крым, в Индийском, что ли, океане. Рассветы и закаты там сменяли друг друга каждые пять минут. И фиговые деревья были все в цвету, и маленькие городишки с розовыми, голубыми и желтыми домами стояли среди жасмина и герани, и белые розы катились вниз, как бурная река. Я прижала свои титьки и венерин холм к его груди и гениталиям и прошептала: да, да, я буду, да, я есть, я твоя вторая половина, но я не хочу умирать преждевременно. И он сказал: гоу вперед, белая роза, рожай его, да, да, гоу!
5. Нора
Никогда я не была ближе к отцу, чем в январе восемьдесят седьмого, когда он, словно Одиссей, странствовал среди своего онтологического архипелага. В отличие от Одиссея, однако, он, похоже, был одновременно и моряком, и морем. Я приходила в его палату и подолгу сидела возле кровати, бездумно прислушиваясь к шепоту его фармакологического бреда.
Испепеляющая мысль время от времени приходила ко мне. Мне казалось, что в своем таинственном путешествии мой всемогущий дадди может в любую минуту перешагнуть тот порог, из-за которого не возвращаются. Это было похоже на мгновенное приближение к безвоздушному и безвременному, то, что после я испытала на орбите. Я никому ничего не говорила, даже Сашке. Я просто старалась не пропусить ни одной возможности посетить отца в урологическом отделении.
Из той комнаты открывался вид на крыши и кроны деревьев района Фоксхолл-Палисады. За ними перехватывающие дыхание вирджинские закаты меняли цвета и формы освещенных облаков. О эти вирджинские закаты, сказал бы Сашкин кумир Николай Гоголь. Какая птица не упадет замертво от восхищения перед ними?! Можно было предположить, что они простираются над неисследованным океаном, над неоткрытыми островами, но уж никак не над бесконечными кварталами американской жилой застройки с ее законопослушными обитателями, этими тетками и дядьками, как называл их ядовитый московский шут.
Католическая сестра Элизабет время от времени заглядывала в комнату и нежно мне улыбалась. Я стала прислушиваться к еле слышному шепоту и бормотанию отца, пытаясь уловить в них хоть какой-нибудь смысл. Я даже принесла крошечный диктофончик и дома много раз прокручивала запись, пока вдруг не осознала, что он путешествует далеко от своей жизни. Он говорил о человеке по имени Кор-Бейт, это означает «Холодный Дом» на иврите.
В прежние времена Стенли несколько раз без большого успеха пытался овладеть языком наших прародителей. Сейчас я была ошеломлена тем, что из его подсознания исходил настоящий беглый иврит. Я пыталась расшифровать эти записи сама, но потом поняла, что это мне не под силу, и отнесла пленку близкой подруге Клер Розентал с кафедры еврейской истории в «Пинкертоне». Так или иначе, я все-таки поняла, что человек по имени Кор-Бейт был своего рода скорняком в маленьком приморском городе. Он владел предприятием с дубильней, складом и лавкой кожаных изделий. Мороз по спине пробегал, когда Стенли деловито начинал перечислять шкуры и кожи различных типов, размеров и качеств и подсчитывать деньги в древних израильских номинациях, все эти ассарии, драхмы, дидрахмы, секили, статиры, динарии и таланты. Эти перечисления и подсчеты занимали самую большую часть моих записей, но иногда звучали и клочки фраз, обращенных к другим людям: то ли к членам семьи, то ли к слугам, а однажды мелькнуло что-то вроде увещевания сборщика податей.
Временами в это древнее бормотание влеплялось беглое описание какого-то пейзажа по-английски, там были и «слепящее море», и «дикие розы на крепостных стенах», и «извилистая тропа».
Однажды Нора застала отца не в горизонтальном положении, как обычно, а сидящим в постели, с кучей подушек за спиною. «Хей, дадди! – она воскликнула. – Сегодня ты, кажется, в порядке?!» Сказать по правде, она была немного разочарована тем, что экскурсии в прошлое прекратятся. Он ничего не ответил, и она поняла, что он ее не видит и не слышит ее слов. В этот момент какая-то согбенная фигурка проявилась в углу палаты, не кто иной, как дворецкий Енох Агасф. «Вы тут все время были?» – спросила она его.
Он кивнул и указал своим длинным пальцем: садись и молчи!
Ненадолго появилась сестра Элизабет. Она поднесла чайник с длинным носиком к сухим губам Стенли. Он вежливо отверг напиток и поднял ладонь, как бы скромно запрашивая внимания. Монашка, перекрестившись на распятие, покинула помещение.
Стенли был еще с Кор-Бейтом, но теперь он перешел от подсчета шкур к важному историческому событию, а именно к разрушению Первого Храма. На этот раз он видел улицы Иерусалима и своего скорняка в толпе пленных, гонимых в рабство вавилонскими бичами. Оглушающие хлопки этих огромных кнутов. Вдруг я услышала «клик-клик», это папа включил дистанционное управление телевизором. В глазах его замелькали майамские «Дельфины» и вашингтонские «Редскины».[248] «Не изменив линию защиты, им нечего рассчитывать на успех. Менни Браун и Бенни Филдс должны быть категорически заменены», – сказал он авторитетным тоном. Мой неисправимый папочка!
В последующие дни я просто вывихнула себе мозги, думая о своих записях. Что это было: просто бред, вызванный интоксикацией? Тогда откуда там взялся древний иврит? Я позвонила Лайонелу Фухсу в его генеалогическую группу и спросила, были ли в роду Корбахов еще какие-нибудь скорняки, кроме общеизвестного Гедали из Варшавы, моего прапрапрадеда? Что там говорят ваши компьютеры, Лайонел? Некоторое время он молчал, только как бы стонал, как будто какая-то мука тянула его за душу. У меня есть скорняк, наконец проговорил он, но он так далеко, Нора, что я просто не могу об этом говорить и не скажу вам, Нора, ни слова об этом человеке. Да почему же, Бога ради, вскричала я. Потому что я все-таки марксист, а следовательно, материалист в десятом поколении!
Как-то раз позвонила Клер Розентал. Оказалось, что она в упор занялась моими текстами и жаждет продолжить «исследование». Она принадлежала к тому типу университетских женщин, что делят все человеческие дела на две категории: проект и исследование. Я думаю, что даже любовное свидание они классифицируют как проект, а траханье для них это уже исследование. Я предложила, чтобы мы встретились у меня для небольшого исследования. Великолепный проект, воскликнула она. Она явно была возбуждена приглашением от «этой нашей Норы Мансур».
Ну, что ж, старуха, сказала она, разложив кассеты и транскрипты. Прежде всего мы должны отделить чепуху от реальной штуки. Все или почти все, что было сказано тут по-английски, является чепухой, отражением популярных книг, вроде «Троп еврейской истории» Руфи Сэмюэл. Не могу исключить, что все эти сцены с горящим Первым Храмом, царем Навуходоносором, пытками Зидкии и толпами евреев, гонимых в вавилонское рабство, как раз из этой книги сюда и явились. Все это, очевидно, возникло уже на обратном пути из той бездны, в которую погрузился твой отец.
Реальные штуки, если мы можем назвать такие штуки реальными, возникали на иврите. Вряд ли мистер Корбах мог почерпнуть из книг какие-то смутные коммерческие расчеты своего предка. Этот феномен находится за пределами науки, и мы никак не можем его объяснить. Одно только ясно: скорняк Кор-Бейт жил намного позже крушения Первого Храма, ну, скажем, на пятьсот лет, если судить по номинации денег, там упомянутых. Как археолог ты это знаешь лучше меня. По всей вероятности, мы можем считать это эпохой Иудейской войны.
Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, Нора, что ты как профессионал думаешь сейчас больше об археологической гипотезе, чем о своей родословной. Шлиман построил свой план раскопок по поэтическим строчкам, а ты можешь бросить вызов здравому смыслу и попытаться создать диспозицию места двухтысячелетней давности на основе наркозной галлюцинации. В этих бормотаниях рассыпано много деталей, которые могут помочь. Там упоминается глубокий подвал и ступени наверх. Иерусалим должен быть исключен, потому что где-то совсем рядом присутствует море. Не побоюсь сказать, что это был какой-то склад, расположенный в городе-крепости на берегу моря. Стены и башня, а дальше берег с дикими розами и ярко-желтым кустарником. Потом он делится с кем-то, а может быть, и с самим собой, каким-то странным, я бы сказала поэтическим, наблюдением. Он видит стайку маленьких птиц. Они летят так синхронно, как будто являются одним цельным существом. Стайка поворачивает внезапно туда и сюда, все вдруг, словно она связана таинственными законами совершенства. Это похоже на выражение какого-то высшего птичьего счастья. Как они счастливы, шепчет твой отец, каждая из них и все вместе как одно. Конечно, можно было бы подумать, что он видел такую стайку и в своей жизни, если бы он не шептал этого на древнем иврите, которого не знает.
Нора улыбалась, вспоминая места раскопок вдоль берегов Израиля, в Акко, Кесарии и Ашкелоне. Там была масса диких роз и кустарников с густым желтым цветением на обрывах к морю. Мягко говоря, информации, добытой из подсознательных глубин урологического больного, было недостаточно для начала научного цикла, который по правилам должен состоять из трех элементов: формирование гипотезы, соединение аргументации и уточнение. Смысл науки состоит в спирально восходящем накоплении знаний. Здесь мы попадаем в сумерки мистицизма. Боже, что нас ждет за пределами воздушного мира, думала она. За пределами научных циклов?
Тем временем по завершении полевых работ на хазарских курганах в Сальских степях и целого ряда конференций в Афинах, Париже, Москве и Чикаго она направилась к тем самым берегам Израиля, чтобы присоединиться к знаменитой экспедиции Фолкеруге, что разбросала свои лагери между Тель-Авивом и Ашкелоном.
Экспедиция эта была организована двадцать семь лет назад. Ее до сих пор называли именем Фолкеруге, хотя Ганс Фолкеруге скончался десять лет назад в восьмидесятишестилетнем возрасте. Он называл себя самым счастливым гробокопателем в мире – еще бы, шестьдесят шесть лет археологической практики, не слишком прерванной и войнами. Даже легендарный генерал Моше Даян работал археологом sous les drapeаux[249] вдохновенного эльзасца, но тому приходилось чаще прерываться.
В этот раз Нора решила провести весь осенний семестр в Тель-Авиве, чтобы потом уже вернуться в «Пинкертон» к своей преподавательской работе. Университетское руководство недавно дало ей понять, что академическая общественность основательно разочарована ее бесконечными «творческими отпусками». Университет, конечно, очень рад иметь в своем составе такого блестящего ученого с большим именем, «космического археолога», автора научно-популярного бестселлера «Гигиена древних», выдающегося представителя высокообразованного и передового отряда американских женщин, да к тому же и члена «корбаховского клана», о котором бесконечно пишут в газетах, однако общественность хотела бы почаще видеть ее на кампусе как участника образовательного процесса и внутриуниверситетского развития. Тогда она клятвенно пообещала вернуться уже к весне, и надолго. Осенние месяцы были ей нужны для того, чтобы завершить цикл полевых работ и отбор найденных материалов для каталогов, которые будут включены в ее фундаментальный труд по караванным путям Полумесяца Плодородия. Трудно было найти лучшее место для этой цели, чем экспедиция Фолкеруге, под эгидой которой раскопки велись одновременно в разных местах на разных уровнях от 2000 лет до Р.Х. и завершались эпохой крестоносцев.