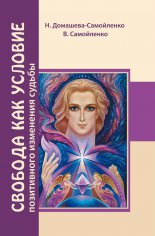Новый сладостный стиль Аксенов Василий

В соответствии с современными методами «предсказания прошлого» группы ученых из разных стран выискивали в своих траншеях не только артефакты вроде наконечников стрел, бус, керамики, артизанских резцов, игральных кубиков, чучел, фетишей, жерновов, дубленых шкур, выделанных раковин, талисманов из бирюзы, декоративных статуэток, амфор, доспехов, оружия, окаменевших флаконов с духами и ароматными маслами, зубочисток, бронзовых кувшинов для простых умываний и ритуальных омовений, но также так называемые экофакты вроде зерен, цветочной пыльцы, косточек от съеденного мяса, початков кукурузы, кедровых орехов, перьев, испражнений, рогов, насекомых, кварцевых кристаллов, змеиных шкур, тростника, семян, жил, улиток, всякого рода костей – иными словами, всего, что могло быть пропущено через радиоуглеродную технику определения возраста для воссоздания палеонтологических картин, то есть для подтверждения или опровержения научных гипотез.
Наш творческий читатель, конечно, понимает, что все это было сказано для того, чтобы еще раз подчеркнуть – по мере того, как мы приближаемся к завершению наших хроник, – что Нора Корбах-Мансур никоим образом не была какой-то искательницей приключений со склонностью к поверхностным бруха-ха «пленэрам»; она всегда была и остается глубоким археологом, трудоголиком и зачинателем интересных проектов. Под эгидой экспедиции Фолкеруге она сколотила свою собственную команду преданных ей мужчин и женщин, а руководство ЭФ всегда относилось к ней с почтением, тем более что она приносила с собой щедрые гранты.
Довольно, сказала она себе после столкновения с Алексом в каком-то жутком московском капище. Я выглядела там еще более несуразно с тем молодым хуйком, «белокурой бестией», чем Сашка со своей бэби баскетбольного роста. Глупо, старомодно и истерично. У каждого возраста должна быть своя партитура. В сорок шесть ты должна быть прежде всего деловой женщиной, и потом ты должна помнить о материнских обязанностях.
Отступив от своих «полевых» привычек, она на этот раз сняла в Тель-Авиве трехкомнатную квартиру в двух кварталах от Эспланады. В сопровождении своей ирландской няни прибыл четырехлетний Филипп Джаз Корбах. Первым делом он поинтересовался, есть ли тут поблизости «оздоровительные учреждения», имея в виду, очевидно, площадку для игр. Нора повела его на запад и, когда через два квартала перед ними открылись Эспланада, большой песчаный пляж и довольно необозримый простор Средиземного моря, спросила: «Этого типа оздоровительные учреждения тебя удовлетворяют, Джаз?» – «Квайт»,[250] – ответило дитя в ирландской манере.
Однажды Нора отправилась за рулем на юг, к Ашкелону. На Земле Обетованной стояло нежное утро. Ничто, кроме метеосводок, не предвещало приближения злого ветра хамсин. В своем открытом «фольксвагене» она наслаждалась каждой частичкой этой израильской увертюры: бризом, что трепал ее гривку, улыбающимися лицами многонациональной еврейской толпы, легким раскачиванием пальм, гулом джамбо-джетов, завершающих свои трансокеанские рейсы. Хотела бы я всегда так ехать вдоль большой воды, которой не нужно археологических раскопок для осознания своей связи с тысячелетней историей: миллионы лет она тут качается и пенится. Спасибо тебе, море, за то, что вечно ты омываешь мое либидо и бьешь в скалы у подножья Яффы, где Андромеда была прикована и отдана на ежедневное изнасилование морскому чудовищу. Если это была не я, то кто еще? Если не я, то кто еще ждал Персея, копьем своим пронзившего чудовище и мечом своим разрубившего мои цепи?
Израиль при всем его удивительном разнообразии страна небольшая: меньше часа езды, и ты уже въезжаешь в заповедный парк Ашкелона. Трепещут под ветром эвкалипты, пальмы и кедры, запахи бензина и дизельного топлива растаяли без следа, твое собственное табачное дыхание не считается. Она проехала мимо разрушенных стен Ричарда Корлеона, мимо восстановленного античного амфитеатра с афишами недавнего рок-концерта, мимо разрозненных колонн греческой агоры и скульптур римских бань. Все это стало теперь туристическими объектами, но она помнила неслыханное возбуждение, охватившее ее и ее друзей, когда в одной из раскопок очистилась почти нетронутая временем скульптура Ники.
С той поры археологи экспедиции Фолкеруге продвинулись ближе к морю, где, согласно последним гипотезам, еще в период царя Давида лежал еврейский город-порт, конечная точка большого караванного маршрута. Именно там она оставила свою группу два месяца назад. Под руководством ее заместителя Дэйва Рекса ребята должны были прорыть шахту глубиной сорок футов и, если ничего там не будет найдено, двинуться еще ближе к морю и снова рыть.
Она не нашла своих там, где предполагала. На ее пути попадались какие-то обнесенные заборами шахты и траншеи и грубо сколоченные крыши над наиболее ценными объектами, но почему-то не видно было ни единой живой души: никто в этот час не работал в раскопках, никто и не спал в тени. Не менее получаса она петляла по сухим немощеным дорогам, один вид которых всегда приводил ее в волнение, ибо они не очень-то изменились за последние три тысячи лет. С вершины одного из холмов она увидела палатки и решила подойти к ним пешком. Море на мгновение ослепило ее, когда она вышла из своего VW. Порыв сухого ветра вздул ее волосы по направлению к морю. Здесь, в шестидесяти километрах к югу от Тель-Авива, уже чувствовалось дыхание пустыни. Она пошла по тропинке, что карабкалась к подножию руин крепости крестоносцев.
Возле стены тропинка стала то уходить вниз, то подниматься на заросшие дюны. В одном месте она увидела облепившие какую-то грубую кладку дикие розы и густой кустарник с ярко-желтым цветением. Здесь ее пронзило то, что называется в современном обиходе по-французски, чувство dejа vu.[251] Тысячи подобных мест раскиданы по ханаанскому приморью, но именно здесь она остановилась как вкопанная. Она видела неподалеку квадратный вход в какую-то археологическую шахту, очевидно заброшенную одной из прошлых экспедиций из-за недостатка данных, подтверждающих чью-то гипотезу. Но она не думала об этом, она даже не вспомнила магнитофонные записи, сделанные ею у постели отца, над которыми они ломали голову с Клер Розентал. Она просто вдруг в ошеломлении почувствовала, что этот момент остановился. И в этом остановившемся моменте появилась стая птиц, молча пролетела над ней и сделала резкий поворот, все вдруг – сотня скворцов. Они вернулись, все как один, и снова повернули над ней, чтобы улететь, и снова вернулись, и снова улетели, и снова вернулись, и так продолжалось до тех пор, пока сам момент не улетел прочь, пока Нора не поняла, что она все еще жива, что она сидит на камне, что глаза ее сощурены под солнцем, что она на поверхности Земли, над культурными «стратами», что покрывают Кор-Бейт, дом ее древних предков.
6. Омар Мансур
Приближаясь к концу большой работы, фактически завершая предпоследнюю часть, новеллист неизбежно уподобляется наседке, старающейся собрать весь свой выводок, включая и «гадких утят». В сказках предполагается, что «гадкие утята» вырастают в неотразимых лебедей, в романах, увы, иной раз происходит как раз наоборот. Иные персонажи, задуманные как яркие литературные виды, могут съеживаться до полной незначительности, ковыляющей на кривых лапках. К счастью, ничего подобного не угрожает бывшему мужу Норы, который встречает завершающую фазу наших хроник в прекрасной форме сорока-с-чем-то-летнего и уверенного в себе главного редактора влиятельного либерального журнала в столице одной из прозападных арабских стран.
Омар Мансур – впрочем, все служащие его журнала, равно как и вся политическая и культурная элита столицы называли его теперь Анваром Шаабани – появляется в этой, посвященной лично ему, главке, сидя в своем просторном кабинете, расположенном на большой высоте в одном из небоскребов центра, и имея перед собой восхитительный вид на исторические постройки, включая стройные минареты, купола древних мечетей и огромный уродливый монумент правящему президенту. Его светло-серый костюм, сшитый его личным кутюрье с улицы Виктора Гюго (Париж, 16-й аррондисман), превосходно учитывает малейшие нюансы атлетической фигуры. То же самое можно сказать о его носках и туфлях: они точно соответствуют его щиколоткам и всем двенадцати пальцам его классных ног.
Как бы много я ни работал, никогда не смогу позволить себе такую сбрую, думает Анри-Клод Метц, журналист из ведущей французской газеты, который сейчас сидит со своим диктофоном перед нашим несколько затененным, несмотря на столь очевидный блеск, персонажем. Полированный кофейный столик между ними похож на окаменелость какой-то мифической саранчи. Журналист прибыл сюда со специальным заданием. Этот журнал, «Аль-Пассавар», и его редактор были предметами многочисленных толков в центрах мировой прессы. В отличие от большинства других – проще сказать, всех остальных – средств массовой информации этой страны, находящихся под полным контролем жесткого, хоть и прозападного, правительства, «Аль-Пассавар» демонстрировал основательную независимость, более либеральный подход к западной культуре и даже некоторый нюанс по самому щекотливому предмету, то есть по Израилю. Эту своеобразную позицию связывали с личностью главного редактора, его в Париже считали «комильфо».
Анри-Клод Метц был асом политического интервью. Он знал настоящее имя Анвара Шаабани. Он знал и его экс-супругу. Лет десять—двенадцать назад он якшался с элитной богемой Левого Берега и теперь был абсолютно уверен, что на многих сборищах тех времен стоял неподалеку от этого красивого араба, говорившего по-французски без акцента. Он даже помнил, как некоторые люди обменивались многозначительными взглядами и знающими улыбками за его спиной. Было ясно, что и Шаабани его помнит.
– Простите, Метц, – сказал он, опуская «месье» в манере тех дней. – Ваше лицо напоминает мне одну личность, которую я знал довольно близко несколько лет назад.
Анри-Клод улыбнулся:
– Держу пари, что это был Алекс Корбах. – Он слегка потер свою превосходно лысую макушку.
Они пристально посмотрели друг другу в глаза и одновременно улыбнулись, молчаливо согласившись не развивать дальше эту тему.
В этот момент два молодых жирных помощника вошли в кабинет со свежими гранками в руках. Шаабани извинился перед Метцем. У нас тут срочная работа, пятеро парней работают над этим текстом в соседнем кабинете. Он быстро сделал несколько поправок и обменялся парой-другой гортанных арабских фраз со своими подручными.
– Могу я спросить, отчего такая спешка? – поинтересовался Метц.
– Конечно-конечно, – ответил главный редактор. – Мы готовим отпор «Джерузалем пост», которая бестактно атаковала нашего президента за его высказывания по ядерным вопросам.
– А какого рода поправки вы внесли, месье Шаабани? – спросил француз.
Редактор тут же сделал ксерокс с гранок и перекинул Метцу. Потом он отпустил своих подручных. Метц смотрел на арабскую вязь. Он был не силен в арабском, но все-таки увидел, что слово «свиньи» зачеркнуто.
Омар взирал на гостя с вежливой готовностью объяснить все что угодно. Эти бляди, думал он, они никогда не относились ко мне всерьез. Никогда серьезно не принимали меня в свою тусовку. Бляди, они всегда обменивались взглядами за нашими с Норой спинами, как те бляди, придворные Николая Первого в Санкт-Петербурге, обменивались взглядами за спиной Пушкина и его жены. Посмотрите-ка на нее, они молча говорили, эти либералы и марксисты, – она спит с арабом. Женщина из нашей среды живет с этим хорошеньким богатым арабским засранцем. Как будто я был одним из тех обожравшихся саудовских шейхов! Бляди, склизкие еврейские писаки!
– Я хочу, чтобы мои люди научились новому языку, – сказал он. – Они постоянно применяют слишком сильные выражения по поводу израильтян. Братья, говорю я им, бросьте вы эту лихорадку! Вы только придаете им незаслуженное величие. Израиль, в конце концов, всего лишь одна из маленьких стран Ближнего Востока. Он не стоит того, чтобы противопоставлять его ведущим силам арабской цивилизации. Научитесь говорить о них снисходительно.
– Снисходительно? – проверил Метц.
– Вот именно. Снисходительность – первый шаг к лучшему взаимопониманию. Например. – Двумя пальцами он поднял гранки и встряхнул, как будто хотел слить с них какую-то жидкость. – Вы читаете по-арабски, Метц?
– Не в такой степени, чтобы судить о чем-то без перевода, – сказал журналист.
– Вы в этом уверены? – Омар (Анвар) разразился исключительно дружелюбным хохотом.
– Перестаньте, Шаабани, вы же меня знаете, – сказал журналист сухо. И добавил: – И я вас знаю, шер месье.
Анвар (Омар) прекратил смеяться:
– О’кей, давайте играть по правилам. Я просто хочу дать вам хороший материал для вашей статьи. Вы видите, мои ребята подготовили черновик для открытого письма редактору еврейской газеты в связи с его ядовитыми атаками на нашего президента. Вот они пишут: «У этой газеты те же качества, что и у свиноподобных израильских лидеров с их вонючей, как фаршированная рыба, наглостью». Слушайте, ребята, говорю я им, вы можете отрицать англо-американскую культуру, но вот что вы у нее должны взять – это принцип недосказанности. Одно слово, сказанное по делу, может принести больше пользы, чем все ваши бешеные залпы. Поэтому мы вычеркиваем «свиней» и «фаршированную рыбу». Оголенное слово «наглость» лучше сработает. Дальше они пишут: «Редактором „Поста“ является тупой, наглый, агрессивный и грязный сионист». Перестаньте, ребята, говорю я, неужели вы не слышали, что избыток прилагательных может убить фразу?
Всю эту дидактику Омар произносил так, будто именно француз был ответственен за текст этой важной статьи. Что-то гипнотизирующее было в его голосе и в щедрой демонстрации несколько томных жестов, даже в его длинной левой ноге, которая использовала правое колено как точку опоры в своем убедительном покачивании. Анри-Клод злился на самого себя. Что это я все киваю этому говоруну? Конечно, журналистские кивки должны как бы подбадривать говорящего, как бы приглашать его расслабить тормоза, допустить как можно больше оговорок, но в данном случае что-то непонятно, кто кого тут подкарауливает.
Редактор продолжал:
– Черновой текст гласит: «с грязными сионистами случится то же самое, что случилось с кровожадными крестоносцами, они убегут с нашей земли. Они вернутся в свои вонючие гетто, в Варшаву, Будапешт и Одессу» и тэдэ. Я удаляю раздражающие эпитеты и превращаю этот манифест непримиримости в обычную фразеологию либеральной газеты.
– Либеральной? – проверил Метц.
– Ну конечно, – подтвердил Шаабани (Мансур). – Вот вам еще один пример. Молодой воспаленный ум называет нашего оппонента еврейской сракой, после моей правки это становится сионистской задницей. Улавливаете разницу?
– Нет, не улавливаю, – пожал плечами Метц.
Несколько секунд они молча взирали друг на друга. Интересно, думал Омар, спал ли этот жид с Норой, как все те жиды, которых я тогда знал на Левом Берегу Сены? Ты прекрасно знаешь, что нет, думал в ответ Анри-Клод. Ты прекрасно знаешь, что я просто обожал ее, как и все, кого ты называешь в уме жидами. Она спала лишь с меньшинством из нас, Шаабани, и давай, сильвупле, руки прочь от женщины нашей мечты!
– Давайте-ка, Метц, я вам зачитаю весь текст нашей редакционной реплики на ваш диктофончик. Уверен, что вы это правильно поймете с присущей вам тонкостью.
Он начал переводить с листа на английский, из чего Метц заключил, что «реплика» предназначена для международного распространения.
– «Эта сионистская задница предупреждает нашего президента против повторения ошибок Абдель Насера в 1967 году.
Сионистскому эффенди кажется, что арабы потерпели поражение в 1967 году. Однако это было не поражение, дорогой злополучный редактор, а множественный заговор, в котором участвовал и сам американский президент Джонсон. Заговор нанес нам поражение, а не израильская армия, и доказательством этого является 1973 год, когда арабские армии с меньшим личным составом и с худшей экипировкой нанесли поражение Израилю. Так что я говорю израильскому журналисту: немного смирения, вот что вам нужно вместо беспочвенного хвастовства, и помните, что, если Америка покинет вас хотя бы на один день, поплывете вы вместе с сотнями тысяч таких же, как вы, беженцев через Средиземное море назад, в ссылку.
А Америка, к вашему сведению, в один прекрасный день развалится на куски подобно другим империям в ходе истории. Мы только хотим, чтобы это случилось при нашей жизни. А пока что мы бы вам предложили говорить вежливо о нашей стране и о нашем Президенте, поскольку вы не кто иной, как просто вашингтонский агент на арабской территории, а ваша армия – не что иное, как передовой отряд американской армии.
Прошу прощения, мой сионист, если я произнесу в вашу честь «Мал’ун Абук», но ваш премьер-министр – это не что иное, как представитель Белого дома в Тель-Авиве. Что касается нашего Президента, то он является великим вождем великой арабской цивилизации, и вы недостойны даже упоминать его имя!»
Он кончил читать и посмотрел на своего собеседника пристально и серьезно, словно действительно хотел узнать его мнение о прочитанном. Анри-Клода слегка подташнивало. Он промямлил:
– «Мал’ун Абук», кажется, означает «будь проклят твой отец», верно?
– Это просто фигура речи, – сказал Омар. – Традиционная присказка, что-то вроде опровержения. Надеюсь, вы понимаете подтекст нашего послания израильским коллегам. Они должны быть менее высокомерными в отношении великой арабской цивилизации. Большая часть всей проблемы, между прочим, состоит в высокомерии. Так или иначе, но со времен прародителя Абрахама они приходили и уходили, а мы оставались на нашей земле. В принципе мы были здесь даже до Абрахама, а Измаил был принят нами, потому что его мать была из нашего рода.
Метц пожал плечами и предложил переменить тему:
– Могу я вас спросить, Мансур, ой, простите, Шаабани, как вы относитесь к «фатве»?
Редактор ответил не сразу, сначала он предложил французу пива из своего холодильника.
– Я знаю, Метц, что этот сукин сын Рушди стал лакмусовой бумажкой для проверки на либерализм. Но вы же видите, вы же знаете, что я не такой уж рьяный мусульманин. Мне отвратны его богохульные писания, но я вообще-то предпочел бы оставить все это дело Богу на день Страшного Суда. В этом смысле любопытно отметить его столкновение с говночисткой во время путешествия по Австралии. По мне, так «фатва» уже свершилась.
Он расхохотался, он явно был доволен такой внезапно найденной метафорой, и Анри-Клод легким смешком признал его находчивость. Он готов был признать что угодно, лишь бы только поскорее выбраться из этого журнала. Поставив еще несколько довольно вялых вопросов, он начал откланиваться. Шаабани удивился. Как же так, Метц, ведь я собирался вам сегодня показать пару приятных местечек западного стиля в этой суровой столице. Спасибо, Шаабани, но я не очень-то хорошо себя чувствую: последствия «флю»,[252] и потом я вечером улетаю. Flying back to flu, Metz? Bravo, Sha’abani, it’s almost a pun![253] Дайте мне слово, Шаабани, позвонить, когда следующий раз будете в Париже. Да я там во вторник буду, Метц. Дакор,[254] Шаабани, мы поужинаем в симпатичном месте, согласны? Договорились, Метц, спасибо. Это очень приятный еврейский ресторанчик, Шаабани. Еврейский, Метц? Ну да, еврейский, Шаабани. Нет проблем, пептобисмол всегда со мной.
Не успел журналист уйти, как в кабинете появились два молодых толстяка с окончательным текстом. Они осторожно указали шефу на фразу, которую они посчитали возможным добавить. Омар не верил своим глазам: это было как раз то, что и у него самого было на уме. «И я клянусь именем Всемогущего, что, если я вас встречу, господин сионистский редактор, я туго скатаю Вашу газету и засуну ее в Вашу корму, и ничто тогда уже Вам не поможет!» Он хохотал в свое удовольствие, а потом взял перо и добавил: «Надеюсь, что Вы еще не потеряли чувства юмора, дорогой сэр».
Несколько часов спустя факс прибыл из Парижа в пустой темный кабинет либерального редактора. Месье Метц слал ему свои извинения: во вторник его не будет в городе.
XI. «Цитата – это цикада»
- Мандельштам – это монгольфье
- Цикада – это цикута
- А Сократ, стало быть, крем-суфле
- Пути рифмовки неисповедимы.
- Как по кочкам, тащишься по слогам
- И воздвигаешь Колонну Вандома
- У входа в мишурный балаган.
- В форточку видишь ночную площадь,
- Блики и промельки клоунских морд.
- Там голубая, в яблоках, лошадь
- Медленно ввозит твой «Амаркорд».
- Выпьешь винишка, Апокалипсис
- Высчитать выйдешь на старый балкон.
- Вместо ответа ворохи листьев
- В шорохе грянут с небесных Балкан.
Часть XII
1. Серебро Очичорнии
Ну, вот и докатились до штата Очичорния, что вклинился своими обширными угодьями в карту Америки, потеснив Калифорнию, Орегон и Неваду. Начинается разгул авторского произвола, скажет утомленный читатель, и ошибется. Тут у нас полифония вовсю гуляет, персонажи дуют всяк в свою дуду, какие уж тут авторские произволы. Даже сам штат Очичорния появился у нас совсем случайно – в связи с прокручиванием старой пластинки Луиса Армстронга в джук-боксе[255] «Международного Дома Блинов»: старый «Сачмо» упорно рифмовал «Очи чорные» с Калифорнией. Мы и опомниться не успели, а новая земля уже претендует на полноправное участие в союзе штатов, уже, видите ли, гордится своими просторами и столицей Лас-Пегасом; в общем, нравится – не нравится, стала литературной реальностью в данный закатный час под потрясающими небесами пустыни с контурами деревьев-джошуа и пробегающими силуэтами страусов.
Что за странное существо этот страус, не сравнишь его ни с орлом, ни с лошадью, да и откуда он тут взялся в таком количестве? Впрочем, об этом позднее. Пока что скажем лишь, что мощные, хоть и бессмысленные, марш-аллюры этих существ придавали закатной пустыне какой-то древний вид, хоть и видны были на горизонте стеклянные верхи города Лас-Пегас.
А вот и еще одна странность, диковинный экипаж, что сворачивает с обычной американской столбовой дороги на узкую проселочную, ведущую к призрачному Свиствилу, городу заброшенных серебряных рудников. Некогда бурлил этот Свиствил, но потом заглох, поскольку серебро иссякло. Сотню лет пролежал в забвении, а потом опять забурлил туристами и снова заглох, поскольку иссяк туристический интерес к такого рода курьезам. Массовая утонченность ныне распространилась среди публики, ей теперь Вермеера или Вивальди подавай, бородатые полубандиты с пистолетами приелись. Странный экипаж, однако, упорно катил к пустому городку. Был он сварен из двух мало похожих друг на друга автомобилей. Передняя часть представляла собой лимузин «кадиллак», а задняя – кузовок «форда-эксплорера» с террасой вместо крыши. Странная колымага, ей-ей, остается только гадать, по заказу так сделали или по ошибке.
Теперь об экипаже данного экипажа. За рулем сидел Тихомир Буревятников. Без ритуального головного убора и с отцепленными крыльями он выглядел в этот час как обыкновенный американский гражданин, лишь немного уклоняющийся от уголовной ответственности. Рядом с ним на широком сиденье рядком располагались два его друга, Умник и Дурак. У одного уши были, как всегда, на макушке, у другого висели лопухами. Как он хорош, этот Буревятников, думал Дурак. Только ему отдам пальму первенства среди людей и птиц! Жаль, что не всегда благоразумен наш красавец, думал Умник. Вчерашний взрыв ворот страусовой фермы мог стоить нам с Дураком наших хвостов, а сам Тих мог лишиться всего, что закопал в разных местах.
В задней части экипажа, то есть на террасе, еще два пассажира играли в шахматы. Здесь было довольно уютно. Среди слегка подгнившего буревятниковского скарба светился большой телевизор. Своими мелькающими красками он как бы отражал закат, если тут не было обратного эффекта. Время от времени по экрану, словно Тамерланы, проносились бритоголовые баскетболисты NBA.
Шахматисты были не похожи друг на друга, хоть и состояли в родстве. Один был сверхчеловеческого размера, другой – в самый раз. Один нес на голове преогромнейшую растительность библейского пророка, другой по части макушки был полностью гол, но не на тамерлановский манер, а скорее на вольтеровский. Ну что там словоблудничать: это были Стенли и Алекс Корбахи.
– Ну, сдавайся, кузен, – сказал Стенли.
– Не могу, – ответил Алекс. – Хотел бы, да не могу. У нас, у русских, разваливается страна, но остается психология победителей. Вот тебе история из эмигрантской жизни. Приехал один дантист, не из тех, что, как я, по Данте, а нормальный, по зубам. Ему захотелось получить Нобелевскую премию по стоматологии. Позвольте, ему говорят, такой пока что нет в природе. А он, знаешь, из тех евреев, о которых родственники всю жизнь говорят: «Наш Моня – гениал!» Не может парень примириться с отсутствием приза, лезет по зубам все выше и выше, добрался до королей.
– Не удивлюсь, если получил, – сказал Стенли.
– Нет, не получил, но каков русско-еврейский характер!
Когда они прибыли в Свиствил, закат уже почти погас. По ночам здесь, несмотря на отсутствие в горе серебра, в небе разливается странноватое серебристое свечение. Над чепухой городка царит черная дыра шахты, в которую когда-то возили туристов. Поставив экипаж возле заколоченной почты, наши герои пошли по улице в поисках дома, где можно было бы заночевать. Ни души не было вокруг, даже кошки давно разбежались. На заброшенной бензоколонке «Ситгоу» единственным слегка живым предметом казался таксофон. По непонятной ему самому причине Алекс замедлил шаги перед этим аппаратом. Сколько лет уже в эту щель не падало ни одной монеты, подумал он. Смешно будет, если он сейчас зазвонит. Он зазвонил. Порывы пустынного ветра поднимали вокруг самумчики мусора. Алекс снял трубку.
– Простите, пожалуйста, – произнес женский голос. – Это звонок из Израиля. Мне почему-то пришел в голову этот номер с кодом района, о котором я, признаться, ничего раньше не слышала. Скажите, нет ли там поблизости человека по имени Алекс Корбах?
– Нора, – прошептал он. – Значит, это о тебе пела тут несколько часов подряд пустыня. Ты все та же? Все так же под ветром летят твои еврейские волосы, все так же подрагивают твои шведские губы?
– Дело не в этом, Саша, – сказала она. – Дело в том, что я нашла в раскопке нашего общего пращура. Он был запечатан в естественном саркофаге из окаменевшего меда. Тебе и Стенли необходимо его увидеть, пока на него не наложил лапу государственный музей.
– Завтра мы вылетаем, – пообещал он. – Мне так хочется увидеть тебя и нашего сына!
Она, звонившая из таксофона на тель-авивской набережной, в смятении чувств повесила трубку. Он в смятении чувств быстро пошел по призрачной улице мимо пустого банка, в котором чучела ковбоев-бандитов имитировали для туристов еще недавно столь любимый миллионами акт «холд-апа».[256]
Стенли с Умником и Дураком сидели вместе на плоской поверхности скалы. На краю между тем Тих расправлял крылья и топорщил плюмаж.
– Я император птиц! – восклицал он. – Князь Алконост, хан Гамаюн, непокоренный Буревятник! – Под скалой топталась его аудитория, десятка три африканских страусов. Еще столько же неслось на сходку с разных сторон по твердой поверхности солончакового озера.
Теперь пришло время рассказать, откуда взялись могученогие нелетающие птицы на территории штата Очичорния, фауна которого никогда подобных существ не видала. Иной нерадивый читатель отмахнется: все это-де вымыслы автора, изрядно уже обалдевшего к концу своей истории о двух кузенах. И снова ошибется такой читатель: страусиные загадка и отгадка кроются, как всегда, в том, в чем кроются все загадки и отгадки нашего общества, – в деньгах. В конце прошлого десятилетия нашлись предприниматели, что решили превратить африканского обитателя зоопарков в солидную часть американского домашнего скота. По последнему слову техники оборудованы были фермы с инкубаторами, и начался большой бизнес.
– Эти сволочи перерабатывают гордую птицу до последнего кубика внутренностей и квадратика поверхностей, – горячился Тих Буревятников над полугаллоном «Смирновской». – Перья, кости, роговидные части – все идет в дело! Даже кишки на что-то натягиваются. Все жидкости страуса сгущаются в таблетки. Как для чего? Афродизиаки для ебли! А самое главное, конечно, мясо на гамбургеры. Нечто среднее, говорят, между курятиной и телятиной. Таким образом, мальчики, даю честное комсомольское слово, вся птица до нуля технологически перерабатывается на доллары. Да ведь это же Освенцим, братва! Это же ГУЛАГ нашей демократии!
Еще в самом начале своей трансформации в птицу Тих зарегистрировал у клерка графства Бердлэнд штата Очичорния общество под название «Свободные Птицы Запада» (Free Birds of the Occident). Учитывая особенности английского языка, первое слово могло считаться и глаголом и прилагательным, то есть могло нести и гордую заявку на существование, и горячий призыв к освобождению пернатых. Вторым членом СПЗ стал Стенли Франклин Корбах, о котором теперь всегда можно было сказать фразу из классического кино: «Он знал лучшие времена». Третьим членом вскорости оказался наш любезнейший Александр Яковлевич, решивший после крушения всех своих начинаний, что лучшего Фортуна ему не могла подкинуть.
Вы, конечно, еще не птицы, братва, сказал им как-то Тих. Ну хоть на этом спасибо, сказал Саша, забрасывая на крышу фургона свой некогда элегантный чемодан. Любопытно отметить, что после провала начинаний все его великолепные вещи очень быстро деградировали до уровня обычного бродяжьего скарба. Спешу все-таки вас обнадежить, сказал Тих. У вас у обоих, судя по всему, есть шансы присоединиться к нашему сословию. Настанет день, когда я вам подарю по комплекту крыльев, посвящу в птицы и мы улетим. К берегам Изначального Замысла? – поинтересовался Стенли. Как ты догадался, Стен, изумился Тих. Вот именно туда, к тем блаженным берегам. Но прежде мы должны освободить наших братьев и сестер из концлагерей штата Очичорния.
Как и все борцы за свободу, они не знали лучшего средства, чем взрывчатка. В течение семи серебристых ночей семь взрывов проделали семь дыр в ограждениях семи страусовых ферм. Страусы, увидев неогражденные пространства пустыни Кулихунари, устремились на волю. В ход пошла метафизика свободы, господа. Уже несколько поколений этих созданий были до последнего кубика переработаны штатом Очичорния, нынешнее поколение выказывало все признаки домашнего скота, то есть бессмысленно топталось на огороженных плацах, совокуплялось, выгружало из внутренностей созревшие яйца, охотно двигалось к загонам на бойню, и вдруг вся традиция рухнула в одночасье; население лагерей ринулось в открывшиеся дыры, и привычки рабства были мигом забыты. Страусы понеслись, мощно работая далеко еще не атрофированными конечностями, бессмысленные, как всегда, но вдохновленные пространством.
Тих Буревятников каждую ночь собирал освобожденный народ на свои выступления. Многих бегунов привлекали его трубные призывы, клекоты и пересвисты. Иной раз собиралось не менее сотни существ. Он называл их представителями с мест. Так и сейчас он обратился к страусам с речью: «Птицы, вольные дети эфира! – Он как-то упустил, что такое обращение не очень-то уместно по отношению к нелетающим пернатым. – Никогда больше не позволим жадным гуманоидам перерабывать нас на утилитарные субстанции! Да здравствует воздушный океан!» С этими словами он расправил крылья и сиганул в этот самый океан.
– Ты его давно знаешь? – спросил Стенли.
– Дюжину лет, не меньше, – ответил Александр. – Он, правда, утверждает, что еще раньше курировал наш театр по линии ЦК ВЛКСМ, но этого я не помню.
– А он неплохо планирует, – заметил Стенли. – Не удивлюсь, если в конце концов научится и взлетать.
– Есть новости, – сказал АЯ и поведал кузену о звонке Норы.
– Цикл, кажется, замыкается, – такова была реакция короля в изгнании.
– Во всяком случае, если считать этот роман лирическим циклом, – согласился АЯ.
Разговаривая, они следили за Тихом, который, сложив теперь крылья, ходил среди страусов и в чем-то их убеждал со страстью комсомольского вожака. Птицы толпились вокруг него, качали головами, взвихривали перья. В их позах, казалось, сквозило еле сдерживаемое негодование.
– Я сказал ей, что мы завтра прилетим. – АЯ почесал ту часть своего затылка, откуда вследствие бродячего образа жизни стал уже свисать полуседой хвост. – Однако как мы зарезервируем международный рейс без того, чтобы попасть в газеты?
– Друг мой Панург, Пантагрюэль и в изгнании остается Пантагрюэлем. – Стенли вытащил из мешка свой портативный телефон, которым не пользовался уже, почитай, три месяца. Он потыкал в него узловатым, как корень женьшеня, пальцем, и вдруг на скале послышался отчетливый голос Эрни Роттердама, командира воздушного корабля «Галакси-Корбах»:
– Стенли, неужели это ты? Роджер!
– Эрни-Перни! – радостно заржал гигант. – Где ты сейчас находишься?
– Над Саудовской Аравией, сто пятьдесят миль к северу от Риада, – ответил командир. – Выполняю рейс по заказу общества «Черные дети Моисея». Я тебе нужен? Роджер.
– Ты нам с Сашей нужен. Ну, конечно, он рядом. Сашка, скажи пару слов Эрни!
– Фак-твою-в-расфаковку, Херазм Роттердамский! – крикнул сбоку Саша и получил в ответ хорошую дозу дружеской матерщины.
– Мы в пустыне Кулихунари, – сказал Стенли. – На окраине бывшего города Свиствил. Ты можешь здесь сесть на дно соляного озера. Нам нужно в Израиль.
– Вас понял, – четко ответил Роттердам. – Сейчас я проверю на компьютере, когда смогу прибыть. Держи трубку, босс!
Пока где-то там, над Саудовской Аравией, капитан «Галакси-Корбах» делал выкладки на своем компьютере, под скалой вымершего города Свиствил стали происходить неожиданные события. Страусы заталкивали Императора Птиц в свою кучу. Его Величество, похоже, получал клювами по башке и лапами под задницу. Чтобы спастись, ему ничего не оставалось, как расправить крылья и взмыть над представителями с мест, что он и сделал. Страусы тут же бросились врассыпную в ночь Очичорнии. Приземлившись на краю скалы, Тих обласкал своих собак и приблизился к Корбахам.
– Ну их на хуй, – сказал он попросту. – Недостоин называться птицами этот мясокомбинат. Хотят обратно на фермы. О нас, говорят, там заботились. Да ведь вас же там перерабатывали без остатка, говорю я им. Каждый биообъект будет когда-нибудь переработан без остатка, отвечают. Философы хуевы.
В это время заговорил радиотелефон: «Стенли и Алекс, я приземлюсь у вас через двадцать часов восемнадцать минут. Друг из Лас-Пегаса доставит цистерну с горючим. Экипаж надеется на обед, но не в очень экзотическом стиле. Яичница из страусиного яйца сойдет. Подготовьтесь к отлету».
Три пары потрясенных глаз смотрели теперь на кузенов.
– Стен, Сашка, неужели вы нас бросите, гады нехорошие?! – проревел только что развенчанный император. Умник, подняв морду, трагически взвыл. Дурак залился истерическим дискантом.
– Нам, ребята, нужно в Израиль, – смущенно пробормотали кузены. – Там археологи откопали нашего предка.
– Да там, наверное, и моих предков под землей полно, – горячо возразил Тихомир.
– Да ведь ты же не еврей, Тих!
– Позвольте, позвольте, – запротестовал Тих в хорошей манере московской толкучки. – Если я не еврей, то кто тогда еврей? Буревятниковы сто лет уже евреи, только скрывали.
Нужно ли говорить о том, чем закончился этот разговор? Тихомир, разумеется, получил место в «Галакси». В свою очередь, не оставаясь в долгу, он деловым комсомольским тоном пообещал обеспечить всей компании бесплатный ночлег в Яффе. Там у него, оказывается, друг Аполлоша Столповоротников работает сторожем в армянском монастыре.
Пока что переночевали бывшие птицелюбы в заброшенном мотеле «Серебряная пуля». АЯ как натура сравнительно утонченная был единственным, кто не храпел. Чтобы сразу тут снизить образ нашего фаворита, добавим: не храпел, потому что не спал. Четверо других особей заливались кто во что горазд. Стенли к тому же путешествовал во времени и пространстве, выкрикивая грубые ивритские пререкания и не очень-то изящные римские команды. Что касается Тихомира, он, естественно, то ударялся в орлиный клекот, то впадал в сущую хлебниковщину, подражая пеночкам и трясогузкам.
Ну что ж, если то, что прошло перед нами и с нашим участием, это роман, значит, он приближается к концу: так думал Александр Яковлевич. Если, конечно, существует такая вещь, как конец романа. В театре я опускаю занавес или зажигаю свет: вот вам конец, уважаемые зрители, извольте расходиться по домам. В романе никто не расходится по домам, все сочиняют эпилоги.
Кем же становится персонаж, который в течение всех этих страниц упорно сопротивляется намерениям автора, оборачиваясь неожиданно для него то безнадежным неудачником, то нагловатым фаворитом Фортуны, то циником, то идеалистом, то Мельмотом, то кашалотом? Реален ли я, Александр Корбах, четырнадцать лет из жизни которого прошли перед тобой, о Теофил? Сочувствуешь ли ты мне или считаешь холодным фантомом? Можешь ли ты поверить моему горю, когда на пятьдесят шестом году жизни, выжатый этим романом, я оказываюсь в одиночестве посреди рухнувших идей, на пустыре души, по краям которого скользят тени тех, кто был мне дорог и кого я так бесславно порастерял в перипетиях непредсказуемого жанра?
Все потеряно, включая и родину, не найден и новый дом. Был ли у меня мой народ, кроме той одной сотой процента, которую так точно высчитали большевики? Три августовские ночи стремительно улетели в глубину кадра, и бесовщина теперь старательно забрасывает кадр говном. Получайте назад вашу циничную сволочь. Высший цинизм демонстрирует не братва в «мерседесах», а народные массы. После всего, что было раскрыто из истории коммунизма, они голосуют за коммунизм!
Я лежу на голом матрасе в «Серебряной пуле» посреди несуществующего штата, на моей не-родине, среди людей и животных, не принадлежащих ни к какому народу, кроме толпы персонажей. Эта страна не предлагает чужакам отечества, но она все-таки предлагает им The Homeland. Страна твоего дома, вашего, нашего, моего, твоего, их дома. Но вместо того чтобы стать законопослушным квартиросъемщиком, слугой ли на паркинге, профессором ли театральной школы, я упорно остаюсь персонажем романа с его анархичным сюжетом. На счастливую любовь, стало быть, не рассчитывай, в романе она завершается пороком, не так ли? Успех в этой ебаной полифонии дурманит, как наркотик, прежде чем развалиться на куски. Одна лишь душевная выгода остается, но немалая: тема стольких лет жизни, Дант и его любовь, не осуществилась; уцелела!
И вот то, что осталось от моего «нового сладостного стиля»: мотель с прорехами в крыше, Скорпио в темном небе и скорпионы на полу, обнюхивающие наших псов, и там, за морями, на нашей прародине, извлеченная из камней мумия Кор-Бейта, то ли фикция, то ли символ, то ли реальность воссоединения. «Господь Бог! Не смотри на упрямство народа этого, и на преступления его, и на грехи его!» (Дварим 9—10 экев.)
Утром, когда они вышли на волю, «Галакси-Корбах» уже ждал на идеальном естественном тармаке высохшего озера Охос. В дверях самолета сидел, свесив босые ноги, какой-то арапчонок.
– Наш новый стюард Менгистаб Невроз, – представил его капитан корабля. – Ветеран освободительной борьбы эритрейского народа.
В салоне все было по-прежнему, если не считать прожо-гов на обивке диванов, запаха прокисшего молока да кое-где рассыпанных твердых кругленьких какашек. «Черным сынам Моисея» при эвакуации на историческую (если не онтологическую) родину нередко удавалось протащить внутрь самолета любимых коз.
Через пару часов, заправив танки ворованным бензином, они взлетели в бескрайнее небо штата Очичорния, чтобы оттуда, преодолев беллетристический барьер, войти в воздушное пространство Соединенных Штатов. При наборе высоты на мгновение мелькнули под ними ворота одной из освобожденных страусовых ферм. Видна была очередь возвращающихся восвояси гигантских кур. Ну что ж, пожали плечами птицелюбы, мы хотели как лучше, а получилось как всегда. И сели играть в карты.
2. Марш теперь в Израиль
, и вот мы в Израиле. С неменьшей скоростью, наверное, летал и пророк Магомет, который так жаждал мира, но всех перессорил. Смеем ли мы, однако, хоть в чем-то упрекать пророков?
Сами во всем виноваты, биологические мутанты. Так думал Стенли Корбах, неся свою собственную, почти пророческую, хоть и насыщенную алкоголем, голову над толпой тель-авивского приморского Променада.
Вся компания, пятеро мужчин (Стенли, Алекс, Тихомир, Эрни Роттердам и его бессменный штурман Пол Массальский), один мальчик-ветеран Менгистаб Невроз и две собаки, Умник и Дурак, медлительно и блаженно шествовали от отеля «Дан» в сторону Яффы, чей холмистый профиль с собором Святого Петра на вершине был еще несколько размыт утренней дымкой, хотя крест на колокольне уже зажегся под солнечным лучом еще до того, как мы завершили фразу. Умник, как обычно, вел Дурака на поводке и был особенно осторожен в новом месте. Дурак же необузданно восхищался гремучей доблестью Средиземного океана (не оговорка), отчего прошел добрых две трети пути на задних лапах.
Если бы эта страна была побольше хоть бы раз в десять, я бы бродяжил здесь весь остаток дней, думал АЯ. Увы, страна слишком мала для бродяжничества, а границы враждебны. С этим умозаключением Саши Корбаха, быть может, не согласилась бы компания бродяг, вольно расположившаяся под пучком потрескивающих на ветру пальм посреди хорошо подстриженного газона в десяти метрах от скалистого обрыва к темно-зеленой и гривастой поверхности моря. Кто-то из них чистил зубы, укромно поливая зубную щетку экономной струйкой воды из мягкой бутылки. Иной стоял в позе восточной медитации, хоть и почесывал ненароком вывернутую в сторону подушечного перышка утренней луны ступню. Основная группа завтракала из пакетов с буквами иврита, который так подходит для рекламы молочно-сырных продуктов. Проходя мимо, наши путники уловили отрывок разговора завтракающих россиян.
«…Никто не играл на контрабасе так сильно, как Лаврик Брянский. Он чувствовал этот звук. Я работал с ним в команде Лукьянова, а потом у Козлова в „Складе оружия“. Лавр был врожденный басист, но слишком бухал».
Все три названных имени были знакомы Александру. Он притормозил и вгляделся в бородатые лица типичных джазистов. «Слиха, адони?» – спросил один и откусил от большого багета. АЯ в широкополой шляпе был неузнаваем.
Свернув с набережной и пройдя по грязноватой улице с темными кавернами винных лавок, группа Стенли вышла на другую набережную; это была уже Яффа, древняя Иоппа, что была на пару тысчонок лет старше самого Иерусалима. Здесь стояло множество еврейских и арабских стариков рыболовов. Один из них дернул длинную удочку и застыл с изумленным и, пожалуй, даже оскорбленным выражением лица. На крючке вместо рыбы болтался какой-то черный отросток, который выглядел бы как преувеличенный трепанг, если бы не был похож на размочаленную галошу. Нет, я не этого от вас ожидал, господин Океан, казалось, говорило лицо старика. Позвольте, позвольте, я совсем не того от вас ждал!
Стенли Корбах был в приподнятом настроении: «Послушайте, братцы, ведь, может быть, именно вон к той скале под нами была прикована Андромеда, и уж наверняка именно из этих круговертий воды выплывал каждое утро морской монстр, чтобы садистски насладиться красавицей. И вот именно сюда, перекрыв пространство и время, явился спаситель Персей!»
Один из рыболовов при этих словах слегка повернулся и одобрительно подмигнул всей компании. АЯ был готов поклясться, что это не кто иной, как Енох Агасф.
В кружении вод вокруг заброшенного маяка Старой Яффы чувствовался какой-то иной, не нашенский, отсчет времени, если там вообще шел какой-то отсчет.
«Стен, ты мне напомнил картину Пьеро ди Косима, живописца пятнадцатого века, – сказал АЯ. – Однажды я долго смотрел на нее в галерее Уфицци. „Освобождение Андромеды“, так она и называлась. Морзверь на ней был так уродлив, что даже вызывал сочувствие. Несусветные бивни и спирально закрученный хвост. Из его присосков, кстати, в разные стороны били струи, как из своего рода брандвахты. Измученное, но все еще прекрасное тело Андромеды классно выделялось на фоне скал Иоппы, похоже, тех самых, что мы лицезреем в данный момент. Маленькая фигурка Персея стояла у морзверя на загривке, меч в резком гусарском замахе; один из немногих мировых примеров торжествующей справедливости.
Самое удивительное состояло в том, что берега на картине были усыпаны публикой. В детстве мне всегда казалось, что роковой треугольник был разрублен без свидетелей, просто среди бунтующей стихии. По версии ди Косима, однако, там было полно народу в красивых одеждах, и на лицах у них был написан скорее экстаз, чем сострадание».
Рыбаки на набережной давно уже прислушивались к этой беседе. Дед Агасф покашлял, желая привлечь к себе внимание. «Ваш художник прав, молодой человек! Эти дела монстра с Андромедой давно уже привлекали внимание местных жителей. Вопли девушки во время сеансов насилия, равно как и оглушительное хрюканье монстра, поражали воображение. Я тут сам был в то утро, когда из туч выпрыгнул Персей. Восхитительное зрелище – карающий герой человеческого размера!» – с этими словами дед Агасф расшаркался и удалился, неся ведерко, из которого торчали три рыбьих хвоста. «Он что, нас не узнал?» – удивился Александр. Стенли пожал плечами: «Может быть, просто сделал вид, что не узнал. История завершается, он ищет для себя какое-нибудь другое поприще. А может быть, это и не наш: на ханаанских берегах полно Вечных Жидов».
На подходе к порту и за воротами по левую руку высились стены и громоздились террасы Старой Яффы. Бетон здесь непринужденно перемешался с базальтом. Узенькие лестницы в стенах с веющими над головами символами средиземноморских цивилизаций – сохнущими подштанниками вели на вершину холма, в туристическую зону, и в Абраша-парк. На разных уровнях висели разноликие балконы; то страждущие иноки были видны на них, то ловцы кайфа в гавайских шортах.
С одной из яффских террас, а вернее, с плоской крыши армянского монастыря, прилепившегося к обрыву среди бетонных и базальтовых сводов, взирал на подходящих сторож религиозного заведения Аполлон Столповоротникер. Внешность: бритая голова с буденновскими усами под крупным носом, мелкие глаза, полный набор плечевой мускулатуры, выпирающей из безрукавной майки, полное отсутствие брюшной, если не считать таковой свисающего, как кот в мешке, пуза. В советском искусстве Аполлон принадлежал к поколению сторожей, что пряталось от соцреализма в дворницких, бойлерных и подсобках разного рода. В израильском искусстве он остался в рядах того же поколения, хоть и сменил окончание «ов» на окончание «ер», только теперь он уже обитал не в низах, а на верхотуре, где башка его постоянно шелушилась от средиземноморского солнца. Гостям он был всегда рад и нередко выкатывал на свой бастион оцинкованный бочонок пива «Маккаби»; на этот раз выкатил два.
Тихомир Буревятников с удовольствием оглядывался. Он гордился тем, что у него и в этой отдаленной земле оказался такой красивый друг, которому он давно, еще со времен разгона комсомольскими дружинами подпольных московских выставок, прочил великое будущее. Вдруг внимание его привлекла странная фигура на соседней крыше.
– А это что такое, Аполлоха?
– Изваяние, – сказал Столповоротников и пояснил: – Изваяние орла.
Изваяние было наляпано из остатков цемента строительными рабочими, сооружавшими пристройку к монастырю. Орел стоял в вертикальной позиции, раскинув то ли крылья, то ли рукава обширного лапсердака. Ноги его были как бы в брюках, но из-под штанин все-таки торчали подобия когтей. Горбоносый лик выражал оскорбленное изумление, подобное тому, что появилось у давешнего старика, выудившего из моря совсем не то, что ожидалось.
Тихомир ахнул. Антиорнитологический зарок его развеялся. Орлы все-таки живы и дело их живет, подумал он. Как бы невзначай он развел руки и вскинул голову, отвергая подсунутую вместо ожидаемой рыбы галошу.
Между тем Стенли Корбах, расположившись в непосредственной близости к бочонку «Маккаби», размышлял вслух о природе мифологии: «Все наши Андромеды, Персеи и чудовища были, есть и будут, пока стоит мир и отражает страх, надежду на блаженство и юмористический жест. Человек из божественного смысла творил карнавал богов и героев по своему подобию. Аристотель, господа бродяги, был не так прост, хоть он и не отрекался от язычества. Он знал, что Бог непостижим, и понимал, что Олимпийский сонм – это посильные человеческие воплощения непостижимости.
Иудаизм героически отказался от многобожества, но и он не мог держаться чистой Непостижимости, ибо она невыносима человеку. Пророки-посредники – Авраам, Иаков, Моисей, пророк Иона в чреве китовом – это человеческие образы Божества.
Именно на стыке постижимого и непостижимого возникает христианство. Монотеизм для иных умов предстает пустотой. Бренная биология кажется ловушкой. Человек видит себя во вселенском одиночестве агнцем для какого-то, с его точки зрения бессмысленного, заклания. Именно тогда Бог посылает нам своего Сына, то есть самого себя во плоти. Лик Богочеловека максимально приближен к нашим возможностям постижения. Плоть его говорит о том, что Бог разделяет нашу участь, наши страдания. Мы не одиноки, мы просто на обратном пути из Изгнания к Истинному Творению. Вслед за Христом возникает сонм очеловеченных святых образов: апостолы, Богородица, Магдалина, Георгий Победоносец и другие мученики. Поэты присоединяют к ним свои идеалы, как Данте это сделал со своей Беатриче.
Иными словами, все это всегда с нами, бродяги, повсюду, и даже в этом бочонке. Сквозь воздух и сквозь пиво в нас вливается Святой Дух, и, если начнете дурачиться, не забывайте об этом и тогда не докатитесь до свинства».
Вскоре на террасе появились русские бродячие музыканты. Засвистели на флейте, забренчали на гитаре, ладонями застучали на бедуинских барабанах. Армянские монахи отрывались от святых книг, высовывались из окон и улыбались. Настоятель улетел в Эчмиадзин, объяснил Аполлон, значит, можно немного побузить. Но без баб, добавил он. Увы, без баб.
– Послушай, Аполлон, где тут работает археологическая экспедиция? – спросил Саша Корбах.
– Здесь их много, – ответил Столповоротников. – Вся свободная земля поделена между солдатами и археологами.
– Дело в том, что тут найден древний предок всего нашего рода, – вздохнул Саша Корбах.
– Это здесь бывает, – кивнул художник. Он стал выносить и расставлять на крыше свои холсты на подрамниках, а также куски приваренных друг к дружке труб, то есть скульптуры. Похоже, что тут не только птица Тихомир сумасшедший, думал он. Может быть, купят что-нибудь из работ. И кстати, не ошибся: после этого сборища на крыше он стал состоятель-ным человеком.
Как же мне найти Нору, думал Саша Корбах. Она назначила встречу в Израиле, но ведь Израиль ой как велик. Придется отбросить логику и позвонить наугад по законам этого романешти, то есть так же, как это сделала и она, задребезжав в Свиствиле. Ну что ж, попробуем, пока все еще не пьяны.
Он сбежал по лестнице, на которой когда-то один иудейский копейщик мог сдерживать двух римских «тяжеловооруженных», потому что третьему было уже не просунуться. Трущобные улицы старого порта были полны гуляющих. Народ рассиживал за столиками на фоне качающихся мачт. Прямо с суденышек торговали отменным марлином, кальмаром, осьминогом, галошеобразной каракатицей. В огромных обшарпанных ангарах, где когда-то Бог весть что лежало у турок и англичан, теперь торжествовало искусство: маслом и акрилом бесконечные вариации на сюжет Андромеды, а также просто скалы и просто волны, прочее айвазовскианство, россыпи ювелирного дребодана, включая крошечные звезды Давида, крестики и полумесяцы, сошедшиеся мирно в туристском бизнесе. Меж этих пакгаузов на растопырках стояли в нелепых для плавсредств позициях ржавые катера и кораблики. Меж ними пылал на солнце всей мощью своего металла израильский таксофон. АЯ потыкал в него шесть раз своим грешным указательным, даже не вникая в комбинацию цифр.
– Сашка! – воскликнула Нора. – Ну вот и ты наконец! А мы уже выезжаем!
– Куда вы можете выезжать? – спросил АЯ с еврейской интонацией. – Откуда ты знаешь, где мы?
– Все уже знают, – ответствовала она с юношеской оживленностью. – Вчера здешняя газета «Неттехнам» сообщила: крупнейший в истории банкрот Стенли Корбах, чудом спасшийся от преследования агентов Нормана Бламсдейла, прибывает в Израиль. Вместе со своим окружением, среди которого находится известный режиссер Алекс Корбах, провалившийся со своим грандиозным кинопроектом в Голливуде, он остановится на крыше армянского монастыря в порту Старой Яффы, где сторожем Аполлон Столповоротникер, восходящая звезда нового израильского визуального искусства. Итак, я выезжаю, и не одна!
– С кем же? – спросил он на этот раз в водевильном стиле.
– Догадайся! – крикнула она со странной игривостью.
– С Омаром Мансуром, – предположил он.
– Идиот! – сказала она и повесила трубку. Перезвонить он уже не мог: во-первых, не помнил номера, а во-вторых, понимал, что нелепо перезванивать в последней части.
Он сел на солнцепеке и привалился к стене армянского монастыря. Ящерка порскнула из-под его задницы и села напротив, уставившись рубиновыми крошками; вылитый Попси Путни! Он протянул ей руку. Хочешь жить у меня под рубашкой? Хочешь стать талисманом неудачника? Пока она раздумывала, подъехала Нора на белом, как бы мраморном, джипе. Рядом с ней сидел маленький мальчик, вылитый Александр Яковлевич: такой же свободно растягивающийся шутовской рот, несколько оттопыренные ушки, большие глазищи, смеющиеся тем же огоньком, каким они когда-то смеялись и у Александра Яковлевича.
– Джаз, помнишь, ты у меня недавно спрашивал, кто твой папа? – спросила Нора и ладонью показала на сидящего у стены монастыря немолодого мужчину в сандалиях на босу ногу. Мальчик спрыгнул с машины и подбежал к отцу.
– Ты, кажется, тоже не любишь стричь ногти на ногах, дадди?! – торжествующе вскричал он.
Саша Корбах прослезился. Отчего ты плачешь, дадди? А фиг его знает отчего, сынок. Месье, ваш сын не приучен к подобным выражениям. Он плакал все пуще, изливался и подмышками, и плечами, и межлопаточными пространствами. Да ты весь мокрый, папочка, хохотал сын, посаженный на загривок. Как будто купался! Они поднимались по узкой, вырубленной в скальной стене лестнице на крышу монастыря. Впереди бодро прыгала милая, затянутая в белые ливайсы, то есть тоже почти мраморная. Я весь мокрый от счастья, мой Джаз. Ты довольно тяжеленький, а я все еще слаб после жизненных неудач и огорчений. Неудач, папа? И огорчений, сынок. Сашка, не хнычь, у тебя впереди еще встреча с пращуром, ты должен быть бодр!
Они вышли на крышу. Там высился старый гигант, облачившийся по случаю праздника в голубой туарегский бурнус. Он что-то вещал густо собравшейся вокруг шпане, обводя руками средиземноморский окоем и тель-авивское лукоморье. Глаза не изменяют мне?! Так вскричал с восторгом малыш Филипп Джаз Корбах. Это, кажется, мой дедушка?! Джаз, мой мальчик, наследник рухнувшей империи! Дед в складках бурнуса, слегка спотыкаясь под русские синкопы, устремился к внуку. Мать и отец малыша отошли к краю крыши. Над головами толпы к ним подплывал свежий бочонок пива.
– Когда мы того увидим? – спросил АЯ.
– Завтра, – ответила она. – Состоится государственная церемония. Нас, конечно, всех ждут.
Над Яффой с соловьиноразбойничьим свистом пролетел сверхсекретный бронированный вертолет израильских ВВС. Демонстрируя что-то свое, сокровенное, он свечкой взмыл в поднебесье, откуда сразу спикировал к морю. Едва не зачерпнув воды винтом, он снова взмыл, чтобы снова упасть, и так развлекался до конца супружеского диалога. Акция устрашения: «Хамаз» был в городе.
– Мне немного страшно, – призналась она.
– Отчего? – спросил он.
– Не знаю, но так или иначе все подходит к концу. Почти все страницы уже перевернуты.
Он раздосадовался:
– В конце концов, лишь чернила иссякнут, но не жизнь. И потом, знаешь ли, это ведь моя история. Она закончится, но вы все пойдете дальше, вот и все.
– А ты?! – вскричала она и повисла у него на груди.
– А может быть, и я, – сказал он. – Это от меня и от тебя зависит, а не от романных прихотей.
– Ну наконец-то мы, кажется, подходим к настоящей любви, – вздохнула она.
– Расскажи мне о Кор-Бейте, – попросил он.
Она поведала ему о своем магнитофончике с записью отцовского послеоперационного бреда и о «сдвиге времени», который она испытала при виде стайки скворцов в Ашкелоне. Сразу после этого ее группа начала раскопки, которые своим темпом скорее напоминали спасательную операцию. В том месте уже копали, и не раз, и никогда ничего не находили. Знающие люди ее отговаривали, но она стояла на своем. Они применили самую передовую технику – геофизическую дифракционную томографию, – и неожиданно с потрясающим успехом. Под землю с помощью специальных устройств запускаются звуковые волны. «Геофоны» фиксируют вибрацию поверхности по мере прохождения этих волн. Компьютер завершает дело, создавая карту пустот в трех измерениях. Так мы обнаружили нечто невероятное на глубине, до которой прежние экспедиции не доходили. Мы открыли всю эту скалу и нашли там остатки стен, полы на двух уровнях, каменный и деревянный, склад выделанных кож и множество артефактов, в частности скорняжные инструменты, сундучки с римскими, иудейскими и сирийскими монетами, целые амфоры с мукой, оливковым маслом и вином, куски мебели и домашней утвари, римское оружие, меноры, украшения, остатки колодца и хорошо устроенного водопровода. Там было также несколько скелетов, мужских и женских, в позах, говорящих, что этих людей, возможно, застала внезапная гибель. Скелеты животных, а именно лошади, собаки и двух кошек, как бы подтверждали эту гипотезу. Главная сенсация, однако, ждала впереди. В одном месте, где, по идее, должно было быть очередное расширение объема, звуковые волны упирались в подобие монолита. Мы прошли к этому месту и обнаружили грубую каменную кладку. В конце концов мы нашли своего рода естественный саркофаг, который, очевидно, образовался в результате мощного земного толчка с подвижкой скальных пород. В течение веков туда не поступали ни воздух, ни вода, вот почему так идеально сохранилось найденное там тело человека, погибшего почти две тысячи лет назад. Вдобавок к каменной защите он был покрыт толстым слоем окаменевшего меда, очевидно пролившегося на него из расколотой огромной амфоры. Иными словами, он был похож на миллионолетнюю окаменелость, сохранившуюся внутри янтаря. По всей вероятности, его завалило уже мертвым, поскольку меж ребер у него был уходящий в сердце наконечник большого римского копья, типичного оружия легионера. Мы нашли в этом поместье также пергаментные свитки с торговыми записями на иврите и по-гречески, из которых нам и стало доподлинно известно, что сохранившееся тело принадлежало богатому торговцу Зееву Кор-Бейту, примерно сорока лет, родом из Иерусалима, который за два года до катастрофы открыл прибрежную торговлю своим товаром прямо за западной стеной Ашкелонской крепости, возле городских ворот. Лавка его, очевидно, стала одной из первых добыч высадившихся с моря римлян.
Здесь, в Израиле, археологи сейчас стараются как можно дольше держать свои открытия в секрете. Фанатики недавно окружили одно из открытых захоронений Хасмонеев. Они считают археологию святотатством. Раскопки нарушают покой мертвых, что вызовет массу затруднений, когда придет Машиах. Слава Богу, государство пока так не считает.
Нам пришлось сразу обратиться за помощью в израильскую академию наук, хотя мы еще и не сообщили в печати о своем открытии. Естественно, мы сами не могли обеспечить презервацию тела Кор-Бейта. Космический объект – помнишь, мы с тобой говорили, что человек после смерти становится космическим объектом? – стал немедленно разлагаться под воздействием воздуха. Ну, в общем, Лилиенманн помчался в столицу, поднял там секретную тревогу среди высокопоставленных особ. Вопрос решался на закрытом заседании комиссии кнессета. Сенаторов, естественно, волновал вопрос, не филистимлянин ли наш «джондоу»[257] или еще какой-нибудь инородец, однако после того как мы предъявили фотографии пергаментов и прочего, удостоверяющего иудейское происхождение, они пришли в неописуемый восторг: прибрежная полоса неоспоримо – за нами! В два дня все было сделано, и теперь наш предок лежит за стеклом, в вакууме, вроде Ленина. Он наверняка станет одним из главных экспонатов Музея Израиля, а наши ашкелонские раскопки превратятся в место паломничества, ну а твоя жена будет считаться вторым Шлиманом в современной археологии.
– Жена?! – воскликнул он. – Ты себя назвала моей женой?!
Она смутилась. Взгляд исподлобья, который когда-то сводил его с ума. Теперь, среди небольших морщин и легкой отвислости щек, он вызвал в нем глубочайшую, почти археологическую нежность.
– Ну, это я просто так сказала, – проговорила она.
– Нет, это не просто так! – горячо возразил он. – Если ты всерьез так сказала, тогда на этом можно и закруглять всю историю. Ведь это же конечный результат всего моего театра! Это просто означает, что «новый сладостный стиль» все-таки торжествует!
– Позволь, позволь, – с лукавостью, которая была бы более уместной где-нибудь в середине книги, чем на ее последних страницах, сказала она. – Нам еще рано закругляться. Нелепо завершать повесть этими вашими русско-еврейскими восклицательными знаками.
– Мы сейчас на еврейской земле! – воскликнул он. – Ваш mid-atlantic English[258] порядком мне надоел с его сдержанностью. Оставляю за собой право раскручивать кегли восклицательных знаков на земле предков!
– Как я люблю тебя, Сашка! Неужели я так уже стара, что тебе не хочется стащить с меня джинсы?
3. Предфинальные омовения
Тут вдруг обнаружилось, что они находятся вовсе не на крыше среди разгулявшейся компании, а в маленьком трехстенном кафе, у столика в углу, над кружками с мятным израильским чаем. Вместо четвертой стены в этом помещении не было ничего, кафе было открыто в сторону прибрежной дороги с ее густым траффиком, за которой тянулась широкая эспланада, выложенная ненавязчиво-еврейской мозаикой, а по эспланаде равномерно шествовала в две разные стороны, то есть как бы и не шествовала, а просто колебалась, толпа легко одетых евреев. Тыл этой неплохой картины возникал во взаимодействии пляжа, где песчинок, должно быть, было не меньше, чем человеческих судеб с допотопных времен, с остатками упомянутого потопа, то есть с темно-голубой массой Средиземного моря.
Каждый мало-мальски изучавший географию читатель знает, что морские рубежи Израиля довольно прямолинейны, поэтому ему нетрудно будет представить вражескую эскадру, растянувшуюся перед нами по горизонту в закатный час и готовую открыть огонь по густонаселенным берегам. Столь же легко он вообразит себе эту эскадру в виде вереницы костров после упреждающего удара наших ракетчиков и авиации. Но лучше не надо. Лучше займемся нашей парочкой в маленьком кафе над кружками с мятным чаем.
В этом темном углу мне нетрудно увидеть тебя юной блядью, как когда-то это случилось на бульваре Распай, но знаешь ли, мне кажется, что теперь наша любовь поднялась выше сексуальной возни. Нора усмехнулась: теперь ты, кажется, меня, прелюбодейку, решил возвести в ангельский чин? Ему показалось, что она смеется над провалом «Свечения». Он боялся каким-нибудь неловким словом разрушить их новую, невысказанную еще нежность. Я просто хотел сказать, что мы еще не узнали настоящей любви. Она с досадой отвернулась к морю и вдруг бурно расхохоталась, привскочила со стула и захлопала в ладоши: посмотри, кто там идет по набережной! Сашка, мы присутствуем при потрясающей литературной встрече!
Следующая мизансцена действительно стоила аплодисментов. Со степенной грацией непревзойденной львицы среди изумленных израильтян шествовала не кто иная, как Бернадетта де Люкс. Платье в цветах и фазанах тянулось за ней многометровым шлейфом. Длиннейшие, до лобка, разрезы при каждом шаге обнажали ноги, каждая из которых сама по себе напоминала великолепную деву. Предельно обнаженный плечевой пояс напоминал о шедевре спортивного киноэпоса небезызвестной Ленни Рифеншталь. Грива ее, как в лучшие годы, реяла под устойчивым бризом, подобно хвосту Буцефала, коня Александра Великого, который как раз вдоль этого побережья и в том же южном направлении пролетал 2350 лет назад.
Рядом с Бернадеттой, постоянно приподнимая лоснящийся черный цилиндр в знак приветствия еврейскому народу, шел представитель американского профсоюза шоферов-дальнобойщиков Матт Шурофф. Да, собственно говоря, вся старая компания с пляжа Венис была тут в сборе: и Бруно Касторциус, министр теневого кабинета посткоммунистической, но все-таки еще немного коммунистической Венгрии, который успокаивал публику многосмысленными жестами, поклевывая все-таки по старой привычке какую-то едцу из благотворительного пакета, и Мелвин О’Масси, только что завершивший консолидацию нескольких корпораций и получивший за это гонорар в полтора миллиарда долларов, этот озарялся юным счастьем, поглядывая сбоку на королеву своих компьютерных сновидений, и Пью Нгуэн, недавно возглавивший госбезопасность нового буржуазного Вьетнама, и даже старый Генри, пианист из «Первого Дна», с неизменной сигарой среди мостов своего рта, слегка напоминавшего его пианино, – все они двигались легко, как во сне, и с легкими улыбочками как бы вглядывались в толпу, словно спрашивая: а где же наш Лавски?
Лавски, как мы знаем, наблюдал их со стороны, а вот точно навстречу Бернадетте с ее свитой, то есть с юга на север, двигалась другая процессия наших персонажей во главе с гигантским стариком в голубом бурнусе, чей рост еще более возрос за счет сидящего на плечах внука, который одновременно являлся и его пятероюродным племянником.
Кто-нибудь из ехидных читателей, безусловно, тут же не преминет подловить автора: опять вы, милейший, тащите свои процессии и одновременно теряете героев? Разве не вправе мы ожидать в окружении Бернадетты еще одного маленького мальчика? Или все ваши ссылки на его появление носили сугубо безответственный, чтобы не сказать служебный, характер?
Нет-нет, друг ехидный, не поймаете. Вы, нетерпеливый, даже не дождались, когда протащится через страницу целиком весь шлейф Бернадетты. А ведь несет-то шлейф как раз ее любимый отпрыск, чудесный Клеменс, смуглая копия своего отца Стенли. А ведь в кружевах этого шлейфа, подобно форели в водоворотах Ниагары, мелькает и вами, милостивый государь, возможно, не всегда вспоминаемый самец чихуахуа по имени Кукки.
Но вот эти две делегации сошлись и смешались. Поиздержавшись словами, мы даже не можем как следует описать это слияние. Заметим только, что весь народ на эспланаде был радостно изумлен: и сабра, и олим, и галут, и трепетные фалаши, и русские атеистические циники, и дати, и хабады, и патрульные, и агенты в штатском, а обвязанные динамитом «хамазники» забыли, для чего сюда приехали, и попадались, как кур в ощип, то есть перехватывались по дороге в рай.
Между тем солнце, почти как всегда, собиралось нарисовать перед всем протяженным в длину городом идеальную картину морского заката. Закаты морского Израиля, ей-ей, тут нам есть, чем похвалиться! Не встречая никаких промежуточных станций, вроде каких-нибудь скалистых островков, солнце Торы и Танаха садилось прямо в море. В утонченных переливах бутылочного стекла, в протянувшихся над горизонтом полосах лиловости, в пушечных дымках рассыпанных по медному фону облачков закат предлагал каждому желающему вычислить близость Апокалипсиса.
– Послушай, Наталка, – обратился АЯ к хозяйке кафе. – У тебя тут есть какая-нибудь отдельная комната?
Бывшая ведущая актриса театра «Шуты» Наталка Моталкина выкинула из отдельной комнаты залежавшегося законного, бывшего генерала по надзору за театрами тов. Клеофонта Степановича Ситного. Этот последний, несмотря на солидный сундучок кагэбэшной валюты, не пользовался на набережной никаким авторитетом. Только все эти ебаные роли, которые все еще толкутся в моей башке, мешают мне выбросить на хуй этот мешок с говном, говаривала Наталка на интеллигентском жаргоне шестидесятых-семидесятых. «Вставай, жопа, и сваливай к своему Завхозову! – крикнула она сейчас. – Койка нужна гению поебаться с американочкой!» Товарищ Ситный напялил китайскую шляпу из рисовой соломки, раритет золотых большевистских пятидесятых, и отправился по соседству в небоскреб «Опера-хаус», где на двадцать восьмом этаже в пятимиллионном пентхаусе нынче обитал бывший коллега из отдела особых поручений, генерал-майор Завхозов, ныне президент крупнейшего российского концерна «Виадук».
Ситный знал о Завхозове много, но не все. В частности, не понимал, почему выдающийся финансист нашего времени месяц за месяцем сидит в еврейском небоскребе и даже не скучает погулять. Мы знаем о «финансисте» не все, но больше. Нам, например, известно, что однажды утром в своем московском офисе президент Завхозов решил проверить список тех, кто «на контракте»: кто действительно выбыл – земля им пухом, а кто нахально осмелился уцелеть. Случаются иногда истинные курьезы, чтобы не сказать куршлюзы: человечек, давно уже перечеркнутый, вдруг вечером появляется на телевизоре в живой программе и, как живой с живыми говоря, разглагольствует о проблемах национальной стабилизации. Такой непорядок прежде всего снижает авторитет «контракта», дает всяким гадам надежду уйти от ответственности; за этим надо следить.
И вот в то утро, применив известную в Москве только кучке персон систему кодов, он вывел «контракт» на экран компьютера и нашел там свое имя. Страх был таким ошеломляющим, что он даже не попытался что-либо узнать. Просто схватил свой «дипломат» и помчался в Шереметьево. Ближайший рейс был в Бен Гурион. Значит – туда! Под защиту Шин-бета!
Проход этого персонажа под воротниками металлодетектора вызвал пронзительный визг сыскного механизма. Весь в поту, он все-таки нашел силы изобразить симпатичную рассеянность. Ну какой я балда, все ключи с собой забрал: и от дачи, и от гаража, от шкафчика в теннисном клубе. Бросил металлосвязку в сторону, а потом забрал с небрежностью. Никому и в голову не пришло, что среди дряни там – три ключика от швейцарских сейфов. В общем, утек! И вот теперь сидит на верхотуре.