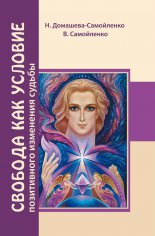Новый сладостный стиль Аксенов Василий

Изумленный малый смотрел на него во все глаза. Счастье такого немыслимого знакомства с живой легендой медленно растягивало его лицо в ширину. А Александр Яковлевич, отпустив всякие тормоза, вдруг стал вываливать на него свое сокровенное: «Для меня, Сергей, гибель в бою с чекистами стала бы вершиной существования. Ну, ты же альпинист, ты же понимаешь, что такое вершина. Вот ты встал там в восторге и в этот момент получаешь пулю, желательно все-таки, чтобы слева между ребер, чтобы иметь несколько секунд для осознания вершины, которых – секунд, ети их суть, – у тебя не будет, если бьют в голову. Так или иначе, если вершина и пуля неразделимы, никогда не сойду в сторону. Я ведь давно уже перестал верить, что эта вершина, ну, грубо говоря, свобода, существует. Я ведь давно уже и Россию мою считал слепой лошадью в забытой шахте».
Пораженный этим монологом Сергей, который и вправду был инструктором базы в Баксанском ущелье, смотрел на Корбаха, раскрыв жемчужную пещеру рта с одним-единственным, почти незаметным пенечком металлосплава. Этому парню, очевидно, казалось, что он, подобно Улиссу, попал в какое-то течение чудес. Приехать в командировку в Москву и оказаться в центре революции, на баррикаде, познакомиться на ней с самим Сашей Корбахом, да еще выслушать обращенный прямо к нему монолог, который в будущем может стать популярной песней.
Они продолжали пробираться к Дому правительства. Наконец вышли к пункту переписки. Там уже стояли ребята с их баррикады, шла запись в сорок четвертую сотню. Здесь же на месте сотенным был избран наш альпинист Сережа Якубович. Оружия никакого не выдавали, однако некий капитан-лейтенант в полной морской форме через батарейный громкоговоритель созывал всех, кто служил в воинских частях; очевидно, им собирались выдать оружие. Подскочил какой-то с красной повязкой: «Вы Корбах? Пожалуйста, будьте в этом районе. За вами сейчас придут».
Все чаще в толпе стали мелькать знакомые лица. Много было театрального люда. Игорь Кваша из «Современника» деловито осведомился, в какой он сотне. Будешь здесь стоять? Буду здесь стоять до конца. Хватит, знаешь! Всю жизнь было нельзя, а сейчас хватит! Подошли молодые актеры и актрисы из табаковской студии. Все хохотали, как будто вокруг шла просто-напросто огромная тусовка. В толпе уже гулял только что кем-то пущенный каламбур: «Забил заряд я в тушку Пуго». То тут, то там вспыхивал хохот: «Ой умру, тушка Пуго!» – и каждый, очевидно, представлял балтийско-коммунистическую физиономию министра внутренних дел в тот момент, когда ему в задницу вбивают заряд лермонтовского бомбардира. Следует тут отметить еще одну важную деталь, которая делала несколько притянутый за уши каламбур вполне уместным: монолог лермонтовского бомбардира прозвучал во время смертельного ожидания на поле Бородино.
День 19 августа 1991 года начинал уже клониться к вечеру и к насморкам. В артистической компании, столпившейся на мокрых ступенях, рассказывали, как забздел бывший товарищ министр культуры СССР, как он поддержал ГКЧП и таким образом высвободил одну пару из заказанных 250 000 наручников. Тут заиграли «Шуты» – Наталка Моталкина, Бронзовый Маг Елозин, Шурик Бесноватов, Лидка Гремучая, Тиграша, Одесса-порт, Марк Нетрезвый, – всех не упомнишь в моменты исторических пертурбаций. Начали представлять древний, дораблезианский сюжет о забздевшем министре культуры. Свободный народ Москвы, в том числе многочисленные дамы с собачками, вышедшие в этот час прогулять своих любимцев, из которых иные были выше их ростом, наслаждался балаганом, особенно когда вместе с театром заиграл гражданин США Саша (каламбур на свою совесть не берем, получилось случайно), ну да, тот самый Корбах – играет вместе со всеми, а ведь ворочает огромными суммами из американского бюджета!
К концу концерта люди из «нашего правительства» стали выкрикивать в толпе, что не хватает бумаги для агитационной борьбы с путчистами. Просим всех, у кого есть бумага, внести свой вклад! Заранее спасибо! Саша Корбах взял тройку своих барри-кадчиков, и они отправились в СЭВ за бумагой.
В корбаховском фонде все комнаты были залиты прекрасным электричеством. В конференц-комнате вокруг стола персон не менее двух дюжин, русские и американцы, ели тульские пряники. Управхозяйством Матт Шурофф в могучих руках вносил трехведерный самовар. Надо сказать, он в Москве не тужил о своем дальнобойном грузовике, и даже рана, нанесенная столь драматическим отдалением Бернадетты, по его выражению, хоть еще и дает о себе знать, но уже не кровоточит. Этот неисправимый байронит из американского рабочего класса был уже заново влюблен, и мы, кажется, догадываемся в кого, не правда ли?
Мы решили тут все остаться, пояснил Лестер Сквэйр. Ощущение осажденности – это ни с чем не сравнимая штука. Острее всего я испытал это в шестьдесят девятом на Коморах, в отеле «Флорида», когда к островам в темноте приближались катера Боба Динара. Теперь посмотри на эти блуждающие огни над рекой. Я уверен, что это принюхивается «Альфа».
Роуз Мороуз была неподражаема в роли осажденной американки. Думал ли кто-нибудь, что судьба так высоко занесет девушку-почтальона из Йорноверблюдского графства?! Мы беспрерывно рассылаем протесты и призывы к солидарности во все гуманитарные организации мира, рассказала она. И получаем огромное количество ответов.
«Я хочу несколько ограничить эту активность, Роуз, – сказал Алекс. – Экспроприация бумаги на нужды сопротивления. Да-да, большое спасибо». Он вдруг как сидел в кресле, так и заснул. Сказались и джетлэг после долгого перелета, и сильнейшее возбуждение, трепавшее его уже много часов. Вырубился, как сейчас говорят, или, еще точнее, «замкнул на массу». Проснулся он так, как будто просто клюнул носом. Комната между тем была пуста и темна, только в углу тлела на низком режиме американская лампа. Кто-то положил ноги АЯ на соседнее кресло. Было тихо, лишь издалека доносилась неразборчивая скороговорка какого-то средства информации. Он выбрался из кресел и подошел к окну. Несколько секунд он ничего не мог понять из того, что перед ним открылось в темно-лиловом полумраке. Момент неузнавания немедленно отразился на дыхании, он стал «тонуть» в воздухе. В панике взглянул на часы. Положение стрелок нанесло ему удар куда-то в район уха. Восемь без пяти. Вдруг осенило: да ведь не переводил еще стрелок с прилета! Тогда все встало на свои места. Я в Москве. В Москве военный путч. Гони московское время на восемь часов вперед, получается без пяти четыре утра 20 августа 1991 года. Картина мира восстановилась и даже показалась чем-то уютной, как будто канун чьего-то дня рождения и ожидается приезд «всех наших».
В небе все ползали вертолетные огоньки. Внизу на асфальте стояли большие лужи. Дождь, похоже, уже не прекращается. Народу на площади стало вроде меньше, но все равно множество. Кое-где выступали ораторы. Возле баррикадных нагромождений можно было видеть костерки. В «Белом доме» освещен целый этаж. Надеюсь, оставили для отвода глаз, а сами сидят в затемненных комнатах. Говорят, что Борис преображается в критические часы. Вяловатый мужик становится гением контратаки. Трехцветные флаги торчат повсюду. Значит, путч еще не завершился, пока я спал.
Он заторопился. Набросал в пакет оставленные на столе сандвичи и несколько банок пива. Сбежал по лестнице: лифты на этот раз стояли. Наружный воздух почему-то пахнул какой-то плавящейся гадостью, как будто гостиница «Украина» за ночь превратилась в мыловаренную фабрику. Закинув сумку через плечо, он приблизился к толпе. «Ребята, Сережу Якубовича не видели?» Ему махнули в сторону Новинского проезда. Где-то там, под аркой, командир отсыпается. Он пошел туда. Под одной из арок большого сталинского дома сидела группа в капюшонах. Навалено много рюкзаков и спортивных сумок. Из одной торчал приклад автомата.
– Ребята, вы случайно Серого не видели?
Несколько хмурых лиц повернулись к нему. Один мужик сделал жест рукой – давай, мол, проваливай!
– В чем дело? – спросил он. – Не можете ответить?
– Вали, а то жидовскую пасть порвем, – сказало одно из подкапюшонных лиц. Кто-то ухмыльнулся. Какая-то поверхность заскорузлой шерсти взбухла за спинами у мужиков и тут же опала.
– А эти с порядочным приветом, – пояснил появившийся сзади Якубович. – Монархисты. – Он был свеж, румян и белозуб, как и вчера. – Ты вовремя появился, Саша! Намечается акция!
– Странно видеть тут таких ублюдков, – сказал АЯ громко, чтоб слышали, и повторил: – Ублюдков!
Никто на него уже не смотрел, и лиц уже не было видно под капюшонами.
Для акции был подготовлен небольшой автобус. Что за акция – концептуализм? Вроде того: нормальная акция, едем на Ленгоры разлагать войска. АЯ, больше ничего не спрашивая, прыгнул внутрь. Впереди растащили для проезда кусок баррикады. Автобус, трясясь как сукин сын, выехал на мост. Боялись, что за мостом остановит патруль, но обошлось. Без приключений мимо вереницы спящих, если не сдохших танков дунули вдоль набережной в сторону «Мосфильма». Вот так же когда-то с режимных съемок возвращались, чтобы сдать отснятый материал в производство.
В автобусе среди баррикадчиков были депутаты Верховного Совета и даже один член всесоюзного правительства, профессор Воронцов Николай Николаевич, министр экологии, единственный, кстати сказать, из горбачевского кабинета, кто осудил путч. Присутствие Саши Корбаха всех вдохновляло. Молодежь вас знает, а солдаты – это та же самая молодежь.
Что нам с Воробьевыми, то бишь Ленинскими-то, горами делать? Большая шельма как-то к малым птахам не привязывается, одна лишь остается для нее изначальная пакость: «вор-убей», в этом роде. На эспланаде и дальше к университету стояло множество бронетранспортеров. Разложение, очевидно, уже без постороннего вмешательства прогулялось по этой воинской части. Задние люки были открыты. Из бронированных утроб слышались то храп, то болтовня с матерком, а то и пенье под гитарку: «Вгоняя штык с улыбкой на бегу в тугую грудь душманского халата». Много солдат слонялось мимо грузных машин. То тут, то там, не стесняясь офицеров, слушали по транзисторам русскоязычное вещание с Запада. Знакомый Корбаху голос из парижской студии «Свободы» призывал военнослужащих не поднимать оружия против своих братьев. Никто не обращал внимания на появившуюся среди ночи группу штатских. За эспланадой во весь окоем дрожали многосмысленные огни Москвы.
Наконец послышался начальственный голос:
– А эти люди что здесь делают? – Стоял в окружении подчиненных некий значительный полковник. – Вы кто такие?
– Мы из «Белого дома», – был ответ. – Депутаты и министр. И Саша Корбах, певец.
– Серьезно?! – воскликнул кто-то из офицеров. – И Сашка Корбах с вами?
– Конечно, с нами! Все честные люди с нами!
– А вы уверены в этом? – спросил полковник.
– А вы уверены в себе, полковник? Зачем вы в Москву вошли с такой массой броневой техники?
– Мы пришли спасти страну от анархии. Предотвратить развал.
– А вам не кажется, полковник, что это просто переворот? Президент задержан. Вам не кажется, что это чревато гражданской войной?
– Ну что ж, давайте поспорим, – вдруг предложил полковник и даже как-то обкомфортился, облокотился на балюстраду и достал сигареты.
Солдаты и офицеры столпились вокруг. Началась дискуссия. Кто-то из депутатов ловко перефразировал сталинский штамп: коммунисты приходят и уходят, а Россия, наша родина, остается.
– Неплохо сказано, – комментировал командир части.
Один из солдатиков поднял руку, как в школе:
– Разрешите вопрос Саше Корбаху? Саша Корбах, вы лично Володю Высоцкого знали?
Поднялся хохот. Вот так выступил рядовой необученный! Даже в такую ночь у него одни гитарные дела на уме! Оказалось, не так уж прост салага. За первым вопросом последовал второй:
– На чьей стороне был бы сейчас Володя Высоцкий?
– На нашей, – ответил Саша Корбах и больше ничего не сказал, но и этого было достаточно. Поднялся шум. Кто-то крикнул: «Ура!»
Вдруг из подъехавшего «козла» резво соскочили майор с двумя автоматчиками:
– Что тут происходит? Прекратить агитацию! А ну, пройдемте с нами!
Сережа Якубович отвел властную руку:
– Не имеете права, депутаты неприкосновенны!
Тогда один из автоматчиков ударил его прикладом «десантного варианта» прямо в лицо. Оно, лицо Якубовича, тут же превратилось в месиво. Он рухнул на бок и стал выплевывать сгустки крови и осколки своих некогда, секунду назад, великолепных зубов. Саша опустился рядом с ним на колени.
– Сережа, are you o’key? – кричал он почему-то по-английски.
Сережа что-то мычал, дескать, все в порядке, но вскоре затих. Корбах схватил его за ноги.
– Ребята, тащите! Гоним в «Склиф»!
Через несколько минут разваливающийся автобус мчал по пустой Москве в Институт Склифосовского. Министр и депутаты остались на Ленгорах в окружении вполне дружественных военнослужащих. Чувство вины вообще-то редко способствует развалу воинской дисциплины, но это был как раз тот самый случай.
Нигде лучше, чем в «Склифе», не чувствовалось присутствие в городе тяжелой Советской Армии: одному пациенту танк ногу отдавил, другого ненароком прижал к стенке, третьего просто обдал соплей горячей солярки; ну, в общем.
«Боюсь подумать, что здесь будет завтра», – сказал Корбаху заведующий приемным покоем, профессор Зулкарнеев, оказавшийся, конечно, старым знакомым, поклонником «Шутов».
Якубовича повезли в центр челюстной хирургии. Он смотрел ясными глазами. Говорить уже не мог. Показывал ребятам глазами на Корбаха – дескать, он теперь ваш командир. «Не бздимо, Серый, – сказал ему АЯ на старом жаргоне, – мы тебе такие зубы потом сделаем, каких не видели ни Кавказ, ни Памир!»
3. Боевые товарищи
20 августа в районе полудня ехал маршал Язов в своем бронированном ЗИЛе с Лубянки на Арбатскую площадь, в Министерство обороны. Предстояло принятие самого важного в его жизни решения. Четверть часа назад Крючков сказал ему, что все попытки прийти к соглашению с «кучкой авантюристов» провалились. Не хотят товарищи разоружиться перед партией. Кто же захочет, думал маршал. Кому захочется с руками за спиной волочиться под ударами, заживо превращаться в отбивную котлету? Если бы я был с той стороны, я бы тоже не захотел. С этой стороны я еще все-ш-таки могу разоружиться: демократы всеш-таки бить не будут пожилого человека.
Лимузин шел мимо бесконечных колонн демонстрантов, бодро шагающих с митинга на Манежной площади в сторону «Белого дома», то есть на поддержку ренегатов. Приказ о перекрытии Калининского проспекта, уныло заметил маршал, никем не выполняется. Это странно, думал маршал. Приказы отдаются для того, чтобы они выполнялись. Хуево, но выполнялись. Что-то не припоминается ни одного факта невыполнения.
В руках демонстрантов, кроме основательно уже надоевшего – и всего-то за сутки! – «Долой ГКЧП!», замечались оскорбительные и художественно неполноценные карикатуры. В них подчеркивались качества лиц высшего руководства страны: одутловатость премьер-министра Павлова, хорькообразность председателя госбезопасности Крючкова, некоторая ступорозность министра внутренних дел Бориса Карловича Пуго, своеобразная алкогольность и.о. президента Янаева, собственная министра обороны какая-то странная, неприглядная быковатость. Пошло, товарищи, не смешно! На самих себя бы посмотрели! Всем карикатуроносцам придется держать ответ за разнузданность! Не исключено, что вплоть до применения высшей меры. Неужели не отдаете себе отчета в том, что крючковцам отдан приказ всех заводил внимательно фотографировать. Надеюсь, у них-то приказы выполняются?
Вообще-то отмечается некоторая странность со стороны Николая Федоровича. Некоторая визгливость. Почему обязательно все перекладывать на министра обороны? Разве у вас нет собственных сил задержания и ликвидации? Где ваша хваленая «Альфа»? В карты играют по подворотням? Прикажете нам танками давить столь большие контингенты собственного народа? Ведь не венгры же, не чехи, даже не афганцы! Зачем визжать, зачем тыкать в нос нетипичный эпизод на Ленинских горах? Полковник Мыльников – заслуженный боевой офицер, нет пока никаких оснований подозревать его в нарушении присяги.
«Есть связь с Мыльниковым?» – спросил маршал своего адъютанта подполковника Чаапаева.
Тот повернулся всей своей не очень-то пролетарской физиономией: «Связи нет, товарищ маршал».
Изжога на мгновение опустошила весь пищевод министра обороны. «Что же, вся бригада, что ли, пропала?» – «Похоже на то, товарищ маршал», – ответил адъютант и замкнулся в своей псевдоаристократической мине.
Язов отодвинул кремовую шторку сбоку. Сразу полезли в поле зрения наглые морды взбесившегося люда. Проморгали, просрали целое поколение, товарищ комсомол, дорогие чекисты родины! Несоветского вида недоросли суют в бок ЗИЛа трехцветную белогвардейщину. Пидарасы! Вот сейчас бы лично по таким от живота веером! В этом Крючков, конечно, прав: ради счастья миллионов можно устранить несколько сотен выродков. Но как их отделить от обманутых тыщ?
«Товарищ маршал, Варенников на проводе», – без всякого выражения произнес Чаапаев и протянул Язову трубку радиотелефона.
Почему-то не в тот же момент вспомнилось имя боевого товарища. Все-таки вспомнилось, но как бы с другой стороны. «Варенников Вал. Ив. (р.1923), сов. военачальник, генерал армии (1978). Чл. КПСС с 1944. В Вел. Отеч. войну нач. артиллерии полка. С 1973 команд. войсками Прикарпатского ВО. Деп. ВС СССР с 1974». Это были данные из «Советского энциклопедического словаря» 1980 года издания, в котором для него, нынешнего министра обороны, не нашлось ни одной строки. Никогда никому маршал Язов не открывал этой обиды, но в душе называл Варенникова сталинским выскочкой.
«Послушай, Дмитрий, что же происходит? – брюзгливо заговорил Варенников. – Ведь договорились же, что Ельцин будет в первый же день ликвидирован, а он продолжает гарцевать, интервью дает всяким „пи-пи-си“!» Язов обиделся: «Не по адресу обращаетесь, товарищ советский военачальник тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения! Почему армия должна заниматься устранением преступника? Что у нас, нет правоохранительных органов? Ты звонил Янаеву, Павлову? В их руках вся власть. Пуго, наконец, – где его подразделения?» – «Янаев и Павлов пьяны до бесчувствия. У Пуго кризис личности. Крючков кивает на тебя. Вы что, братцы, рехнулись? Губите державу!» – «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» – взревел Язов таким мощным медведем, что даже невозмутимый Чаапаев покосился. «Смею! – завизжал в ответ деп. ВС СССР с 1974 года. – Ты знаешь, что мыльниковская бригада целиком ушла к врагу?!»
В ярости Язов на пол швырнул радиотелефонную трубку. В тот же момент подполковник Чаапаев попросил приостановить машину и, как только его просьба была удовлетворена, немедленно вышел на улицу.
«А ты-то еще куда, Петр Яковлевич?! – отчаянно завопил маршал в спину молодому человеку. – Я знаю, ты не веришь в историческую судьбу России, но подумай хотя бы о своей карьере, говнюк! Тебе еще тридцати нет, а я сделал тебя гвардии подполковником! На тебе практически вся система координаций, ядерный щит родины! Философы хуевы, пробрались в высший эшелон! Подумай о своих девках, о библиотеке! Жизнью рискуете, гвардии подполковник Чаапаев!»
Спина, ничего не отвечая, быстро удалялась и вскоре смешалась с неимоверной толпищей противников социализма вокруг кинотеатра «Художественный».
Приблизительно в это же время главный чекист страны Крючков и командующий подразделением «Альфа» генерал Карпухин вошли в спортзал секретной базы. Не менее ста двадцати командиров вышеназванного подразделения обернулись на вошедших. Со стороны было похоже на слет «Динамо»: все присутствующие были в тренировочных костюмах, за исключением Крючкова, но и он в своей засаленной пиджачной паре мог сойти за выжигу-тренера.
– Товарищи офицеры, – заговорил Карпухин. – Я доложил руководству о вашем решении не вмешиваться в конфликт власти. Руководство категорически отметает ваши доводы. Разрешите мне еще раз кратенько сформулировать их для Николая Федоровича?
Офицеры, каждый из которых, по утверждению литературного шпиона Лестера Сквэйра, мог за считанные минуты превратиться в маленький танк, кивнули своему командиру: сформулируйте, Карпухин! Многие стояли, скрестив руки на груди, но все-таки покачиваясь на пружинящих ногах, то есть подрабатывая ахилловы сухожилия, от коих ох как много зависит во время атаки нижним ярусом тела. Любимец команды, кот Котофей, сидел на окне, кушая голубя. Временами его единственный глаз расширялся, как прибор ночного видения.
– Основная проблема заключается в исключительно значительных скоплениях населения вокруг «Белого дома». Для успешного завершения атаки, то есть для задержания и устранения руководителей Российской Федерации, потребуется, по минимуму, принести в жертву тридцать тысяч человек народа. Учитывая, что все происходит в столице нашей родины, городе-герое Москве, а не в каком-нибудь абстрактно зарубежном пространстве, команда «Альфа» предпочитает не выдвигаться в боевые порядки, дабы не запятнать свои знамена в историческом аспекте. Такова, в общем и целом, резолюция. – Карпухин пожал мощными плечами, как бы показывая, что сохраняет профессиональную беспристрастность.
Офицеры смотрели на Крючкова, чье имя в их среде не произносилось, поскольку заменено было одним всесокрушающим словом «Сам». Такова уж была традиция в этом учреждении: какого бы мудака ни назначила партия, в главном кресле он становился «Самим» без всяких оговорок. По сути дела, первая за все семьдесят четыре года существования «вооруженного отряда партии» оговорка была произнесена сегодня.
Крючков повернул голову и приказал сопровождающим лицам действовать. Открылись все двери спортзала, и на порогах с нацеленными на «альфистов» убойными машинами встали бойцы личного крючковского резерва, среди них три брата Завхозовы.
– Всем лечь на пол! Лицом вниз! – скомандовал командир взвода.
«Альфисты» подчинились. Они очень хорошо знали смысл этой команды, кроме того, отказываясь уничтожить тридцать тысяч «людей народа», они все-таки слабо представляли, как можно не подчиниться «Самому».
Крючков и все его заместители, Бубков, Буйцов, Буйнов, Брутков и Брусчатников, смотрели не без горечи на сто двадцать совсем неплохих спин и затылков своей преторианской гвардии. До этого момента воображение этих генералов в штатском, похожих на авторитетов международного криминала, рисовало совсем другую картину. Ельцинская компания ниц, носами в землю, которую хотели предать, а над ними с оружием вот именно эти могучие питомцы, гордость всесоюзной чекухи.
– Товарищи офицеры! – обратился к лежащим «Сам». – Я даю вам последний шанс. Тем, кто сейчас вернется в свое подразделение для выполнения боевого задания, будет прощен факт нарушения присяги. К тем, кто упорствует, будет применен закон о чрезвычайном положении. На размышление тридцать секунд! – Ему казалось, что в голосе его прозвучала вся сталь пролетарских полков. Иногда он думал о себе: жаль, внешность у меня немного заурядная, то ли дело незабвенный Юрий Владимирович, зловещая птица на страже революции! Увы, иной раз напоминаю пенсионера-доминошника из вохры. Что ж, история знает немало примеров несовпадения масштабов личности и масштабов данной личности внешности; ну, вот так. Великий Ленин, например, не отличался драматизмом черт, но источал неукротимую волю.
Теперь он стоял, сжимая кулачки в карманах обвисшего пиджака. Секунд становилось все меньше. Офицеры лежали, хоть и поднимали иногда головы, чтобы проверить, кто встал. Никто не вставал. Котофей с подоконника капал голубем на пол. Почему они так спокойно лежат, изнемогал Крючков. Они уверены, что даже Завхозовы не будут стрелять. Ну что ж, тогда конец всему. Не нажимать же отобранную у Михаила «ядерную кнопку»! Юрий Владимирович бы нажал. И Никита Сергеевич бы нажал. Больше никто бы не нажал. Леонид Ильич не нажал бы. Вот так вот и приходит распад в стальное тело социализма. Крякнув слегка, генерал Карпухин улегся рядом со своим личным составом.
– Предатели! – ярко, сильно, хорошим петухом воскликнул председатель КГБ и немедленно покинул помещение. Вслед за ним двинулись замы – Бубков, Буйцов, Буйнов, Брутков и Брусчатников, уже отягощенные заботой о своем будущем. Даже «альфисты», уж на что изощренный народ, не заметили, как исчез взвод самой личной охраны. На несостоявшемся месте казни брошены были сверхсекретные суперавтоматы, каждая пуля которых производит в организме цели миниатюрный атомный взрыв. Естественно, офицеры заинтересовались этим о.о., которое им недавно обещали, но еще не дали.
Между тем братья Завхозовы драпали уже вовсю. Надо было успеть «зачистить» квартиры: уничтожить партбилеты и пропуска, расплавить секретные бляхи, слить в унитаз яды. Также надо было быстро избавить данные квартиры от собственного присутствия. Что касается генералов, то они гулко удалялись по полустеклянным переходам среди секретной подмосковной хвои. Они уже не единожды растворялись во мраке, но всякий раз кот Котофей высвечивал им спины своим инфракрасным глазом. Для пущего символизма, Теофил, добавим, что полусъеденный котом голубь улетел восвояси.
Приблизительно в это же время, а может быть, на час-другой позже председатель Союза советских писателей С.В.Михалков присел в своей квартире к ультраяпонскому телевизору. Облаченный в кашемировый кардиган и верблюжьи шлепанцы, он стал смотреть гнусную, чтобы не сказать антисоветскую, программу CNN. Совсем неподалеку располагался дом С.В. от центра обозреваемых вражьим оком событий. Достаточно пересечь Садовое кольцо в том месте, где оно взбухает площадью Восстания, пройти мимо высотного дома, этого монумента сильной и щедрой власти, осветившей своим торжественным блеском молодую зрелость Михалкова, сделавшей его из сочинителя детских виршей первым пером государства, свернуть налево, и вот он – призраком славных тридцатых зиждится «Белый дом», крамола девяностых. Данное местожительство всегда казалось ему воплощением незыблемости, оплотом всей общесоюзной сути и вот закачалось.
Не понимая, что болтают развязные, но не лишенные женской привлекательности американские дикторши, С.В. взирал на колышащееся сонмище лиц, на колеблющиеся стяги белогвардейских знамен. Непостижимо, как удалось демократической банде продержаться всю ночь, второй уже день кряду бросать вызов здравому смыслу, тормозить обутое в броню колесо истории. Именно в поддержку здравого смысла подписали вчера секретари Союза писателей свое историческое заявление.
Вдруг пронзило Сергея Владимировича: подписать-то подписали, а вдруг просчитались? Вдруг нахлынет оттуда, от реки, толпа, пойдут по квартирам искать депутатов, лауреатов, с-с-с-сотрудников? Размышления старика были прерваны телефонным звонком. Звонил по всем статьям коллега, Кузнецов Феликс Федосьевич, наследник революционных демократов.
– Сергей, я тебе с улицы звоню… Ни с какой не с Воровской, а с Воровского. Есть важный разговор, ты не можешь выйти?
Со многими коллегами из секретариата Михалков был на короткой ноге, с Феликсом же его соединяло не только фасадное секретарское единство, но также и то зафасадное, глубинное «чувство локтя».
Он вышел как был в верблюжьих тапочках, которые тут же промокли. Грузная фигура профессора Кузнецова стояла под зонтом у чугунных ворот некогда надежной писательской усадьбы. Родная борода профессора выглядела, как криво надетая маскировка. Он прижался к Михалкову левым боком, сильно взял под руку, дохнул гнилью:
– Знаешь ли, Сережа, я всю ночь не спал, снимал с полок Ленина, Розанова, Блока. Мучили мысли о России, о том, что нас ждет впереди как этно-историческую данность; ты это понимаешь, конечно. Отчаянию Белого с его «Довольно, не жди, не надейся, рассейся, мой бедный народ» мы противопоставляем общеизвестную «степную кобылицу»; она донесет, она доскачет!
– К-к-короче, – сказал Михалков.
– Хорошо, – согласился Кузнецов, но остановить гражданское слово как-то сразу не мог, несло. – Думал о нашей вчерашней резолюции, был горд. У нас достало мужества не соблазниться демагогией, встать против словесного блуда, встать вместе с нашей, ну, в общем, вместе с народом, с патриотами правительства. Да-да, я сейчас, ближе к делу, конечно. – Он хихикнул каким-то странным, едва ли не зловещим хихом, оглянулся и вдруг сильно, снизу, вдул в хрящи михалковского уха: – А вдруг? – Тут же быстро зашептал: – Мы не должны быть застигнуты врасплох, надо подумать о спасении интеллектуального и творческого нашего богатства, не дать перечеркнуть достижения грандиозного исторического эксперимента, нашей позитивистской философии. Она еще нам пригодится в радостный час восхода! Ну, хорошо, хорошо, суть вот в чем: у тебя там есть свои люди, сильные люди?
Михалков усмехнулся:
– Так же, как и у тебя, Феликс, чего ты скромничаешь? Однако если твое «вдруг» с-т-т-трясется, этим «сильным людям» будет уже не до жиру.
Кузнецов хапнул себя за бороду, застонал:
– Я не об этом, Сергей, не об этом. Я о Китае, о Кубе, о Корейской Народно-Демократической республике. О Вьетнаме, наконец! Нашим экстремистам кажется, что они разрушают коммунизм, однако азиатские твердыни незыблемы! Мечта Чернышевского в этот раз придет с Востока! У тебя есть знакомые в посольствах братских стран на случай, если придется спасаться, эмигрировать? Если вдруг высылать начнут таких… – Он полыхнул темным жарком, с улыбочкой посмотрел исподлобья на старшего товарища. – Таких, как мы с тобой, Сергей?
Михалков от этого жарка тут же вспыхнул:
– На что ты намекаешь, Феликс? На моем «Дяде Степе» шесть поколений детей выросли в этой стране, а ты меня тянешь в К-к-китай?! Нет уж, отправляйся в Китай без меня! Мы, Михалковы, все-таки из российских купцов первой гильдии происходим, ударение на первом слоге носим, мы азиатам не продаемся!
Ошеломленный Кузнецов осел. Старик Михалков, как был в верблюжьих тапочках, уходил от него, шагал, не обходя луж, к самой середине площади Восстания. «Союз нерушимый республик свободных», – бормотал он и тут же правил: «Борцов демократии вечно свободных», – неплохо вроде получается. – «Сплотила навеки великая Русь», – а это неплохо звучит и сейчас. Пардон, что-то тут не то. Чутье стилиста меня никогда не подводило. «Вечно свободных», а в следующей строчке «навеки», так не годится. Сделаем иначе. «Борцов демократии, сильных, свободных, сплотила навеки великая Русь! Да здравствует созданный волей народов» – эту строчку оставляем, она никому не повредит. Вот дальше загвоздка. Ну, вперед, вдохновение!
Подходящие многоярусным флотом мрачные тучи ободряли поэта. Продолговатым дятловидным носом и осетровыми заушными жабрами (в этом ключе он был когда-то клеветнически, но красиво описан Валентином Петровичем Катаевым) он улавливал запах нового российского ветра. Итак:
- Борцов демократии, сильных, свободных,
- Сплотила навеки великая Русь!
- Да здравствует созданный волей народов
- Общественный строй, чьей свободой клянусь!
- Славься, Отечество наше свободное,
- Думы и слова надежный оплот!
- Знамя трехцветное, знамя народное
- Пусть к благоденствию всех приведет!
Ну, понеслась!
- Сквозь тучи сияло нам солнце свободы,
- И Пушкин великий нас в путь проводил!
- Нас Сахаров двинул на долгие годы,
- И с ним Солженицын нас всех вдохновил!
Он стоял теперь в самом центре своего нерушимого мира, обдаваемый грязью несущегося пустого грузовичья, и гордо, с клекотом, пел гимн новой демократической России. «Эй, дядя Степа!» – кричали ему на лету взращенные на доброй милицейской поэме шоферюги, и главный виршетворец державы знал: выдюжим, пройдем и через это все и будем стоять и грохотать вокруг!
4. Буйны головы на белы руки
Не поторопился ли Сергей Владимирович, не перестарался ли малость? Ведь к вечеру 20 августа обстановка в столице была далека от ясности, и воинские части в большинстве своем готовы были к выполнению «любого приказа Родины». В толпе защитников «Белого дома» – мы имеем в виду ту безоружную массу людей, что многими десятками тысяч стояла меж баррикад и на подступах к бетонно-мраморной громаде, – вовсю гуляли разговоры, что приближается час штурма, что снайперы сидят на крышах окружающих домов, готовые отстреливать из толпы любого, хоть вас, гражданочка, что скоро прилетят вертолеты и пустят газ.
Но странный, однако, феномен распространился в толпе. Все говорили о штурме, но почему-то как бы со стороны. Никто почти не сомневался, что штурм будет, но никто почему-то и не боялся, как будто не понимал народ, что именно по их телам Красная Армия будет прорываться к «Белому дому».
Закат показал какую-то комбинацию почти супрематических лиловых и багровых фигур, которую никто не мог прочесть. В сумерках возобновился дождь. Саша Корбах почувствовал, как струйки потекли по лицу, но не проснулся. Он снова пребывал в джетлэге, однако на этот раз отключка догнала его не в мягком кресле, а под фанерным навесом среди хлама баррикады, куда он залез было перекурить. Позже, вспоминая эти провалы, он думал, что в них, быть может, было что-то метафизическое: энергетический его контур на время покидал жар истории, чтобы отдохнуть в прохладном астрале. Проснулся он только тогда, когда в сумке под боком заверещал сотовый телефон. Мужской голос сказал по-английски: «Я ищу Алекса Корбаха». – «Это я», – ответил он, еще не вполне в этом уверенный. «Слава Богу, ты жив!» – воскликнул Стенли.
Известие о московских событиях застало нас в Калькутте. День ушел на оформление бумаг, и вот мы в воздухе. Сейчас проходим Гималаи. Колоссальная луна, тени восьмитысячников совсем рядом, под крылом. Час назад нас атаковали два истребителя Нормана Бламсдейла. Отогнали их умиротворяющей ракетой. Часов через пять будем в Москве. Все тебя обнимаем: Берни, Бен Достойный Утки, пилоты. Где ты находишься? Ну, конечно, Берни, ты была права, он в самом пекле. Лавски, держись! Агентства сообщают, что эта ночь будет решающей. Где-нибудь в Москве можно купить шампанского?
Алекс положил телефон обратно в сумку и вдруг услышал аплодисменты. Вокруг его убежища стояла группа его поклонников, мужчин и женщин – тот тип, что в Америке называют the aging children, «стареющие дети». Этих «поздних шестидесятников» он мог бы различить в любой толпе. Сейчас они умиленно ему аплодировали, как будто он только что сыграл сценку «Разговор по-английски с неведомым персонажем». Одна женщина сказала ему с характерным для этой публики смешком: «Знаем, что глупо, но это все-таки так здорово видеть вас сейчас здесь, Саша Корбах!»
Двое с трехцветными повязками на рукавах пробрались к нему через толпу. Наконец-то мы вас нашли, господин Корбах. Понизив голоса, они сказали, что пришли с поручением. Если он хочет, его могут проводить в «Белый дом». Руководство очень радо было узнать, что он тоже здесь, среди сторонников демократии, так что если он… ну, в общем, вы понимаете. В любую минуту что-то может произойти. Но если есть желание. Все. Борис Николаевич тоже. Будут рады приветствовать.
В коридорах цокольного этажа кишела толпа, было много вооруженных. Иные проходили в бронежилетах и в касках. Иные сидели вдоль стен на полу, клевали носом, пили чай из термосов, разворачивали бутерброды. Чем выше поднимались по широким, прямо-таки апофеозным лестницам, тем чаще мелькали офицерские погоны крупного достоинства, включая и генеральские. Проходили десантники в полной экипировке. Большинство, однако, составляли госслужащие в протокольном облачении: пиджачки, галстучки.
Вошли в огромное помещение с кованым гербом РСФСР на стене. Там в углу стоял Ельцин в окружении лиц пониже. У Руцкого на левом плече болтался автомат, как раз такой, каким Якубовичу выбили зубы. За столом общей площадью не меньше каравеллы Колумба сидело множество людей. Они перебирали и перекидывали друг другу какие-то бумаги, но были и такие, что спали, положив буйны головы на белы руки. Кто-то ел что-то неплохое. Сновали девушки из буфета, убирали тарелки, раскидывали новые, расставляли бутылки пепси-колы. У всех окон, слегка приоткрытых, дежурили десантники Мыльникова с оружием на изготовку. Было холодно и сыро, пованивало давно немытым.
Ельцину сказали про Корбаха. Он отдал кому-то телефонную трубку и пошел навстречу с распростертыми.
«Саша Корбах, да ведь ни одного похода не проходило без твоих песен! Ну, привет! Вот как довелось познакомиться! – Излучал энергию. Видно было, что переживает лучшие часы жизни, недаром время от времени отпечатывался на белой стене то квадратом, то комбинацией треугольников, то категорическим параллелепипедом; никто, впрочем, кроме Саши, этого не замечал, во всяком случае, никто не таращился. – Очень ценим деятельность корбаховского фонда, – продолжал Президент. – Новая Россия нуждается в помощи Запада, друг Саша! Теперь мы будем частью цивилизованного мира!»
Он выглядел, как обычный советский мужик, этот «друг Боря», но что-то человеческое сквозило в очертаниях губ. И что-то супрематистское, подумал АЯ, сквозит в этих отпечатках на стене, которых никто не видит.
«Ты в теннис играешь? – спросил Ельцин и подмигнул с некоторой шаловливостью. – Ну, в общем, давай общаться, Саша, если не возражаешь!»
Вокруг не менее полудюжины видеокамер запечатлевали и этот момент общего телеисторического разворота. Ельцин с понтом, по-сибирски поднял пятерню, но снизил ее для вполне цивилизованного рукопожатия.
Не знаю, видит ли сейчас наш читатель целиком весь этот политический театр, может ли он вместе с нашим Александром Яковлевичем на секунду затормозить перед некоторыми удивительностями и заметить, скажем, как в стене на мгновение открывается пронзительный коридор, в непостижимой глубине которого отпечатываются образы льва и лани, орла и какаду, розы и агавы и, наконец, единый, то есть еще не разделенный сексом, Адам, горящий вечным огнем.
Действие драмы, впрочем, не замирает даже на эту секунду. Ельцин в спортивном стиле пятидесятых годов – «А ну-ка, мальчики, ощетинимся!» – продолжает по телефону атаковывать колеблющихся генералов. В другом углу басовитым соловьем разливается виолончель Ростроповича. Увидев товарища по изгнанию, Слава, как был в каске и бронежилете, бросается с поцелуями: «Сашка, ты тоже здесь! Вот здорово! Люблю твой талант, Сашка, ети его суть! Фильм твой смотрел про Данте, обревелся!»
Саша мягко поправляет всемирного любимца. Фильм-то, Славочка, еще не начал сниматься. Очень мило обмишулившись, Слава продолжает дружеский напор. Песню твою люблю! Музыку обожаю! Ты первоклассный мелодист, Сашка! Ну-ка, давай, подыграй мне на флейте! Ребята-демократы, у кого тут найдется флейта? Коржаков уже поспешает с флейтою на подносе. А мне вот Филатов «челло» привез из Дома пионеров! Поет, как Страдивари, сучья дочь!
Корбах для смеха дунул в дудку и вдруг засвистел, как Жан-Пьер Рампаль. Ну и ну, вот так получился дуэт в осажденном павильоне! Многие растроганные повстанцы приостановились, и на стене вдруг отпечаталась общая композиция осажденных, но дерзких душ. Видишь, шепнул Слава Саше.
Завершить концерт, как хотелось, на плавном взлете, однако, не удалось. В городе возник и стал нарастать какофонический грохот. Началось хаотическое движение непокрытых голов и стальных касок. Освещение было притушено до минимума. Шире открылись окна. Возле них присели фигуры с гранатометами. Корбах уловил за полу быстро проходящего офицера. Что происходит, майор? Тот улыбнулся. То, чего ждали, товарищи музыканты. Лучше бы вам спуститься в подвал.
Вот выдающееся зрелище: маэстро Ростропович меняет виолончель на «калашникова»! Корбах обнял старого друга за плечи: Славочка, я должен идти в свою сотню. Доиграем завтра.
Выставленный подбородок музыканта подрагивал от решимости. Обязательно доиграем, Сашка!
Эпицентр этого танкового грохота пришелся на Садовое кольцо в районе от площади Восстания до Арбатских ворот. Он забивал все звуки и тем не менее не мог заглушить скандирования: «Рос-си-яне! Рос-си-яне!» Над тоннелем, в который один за другим уходили танки и бэтээры, плечом к плечу стояла молодежь. Мальчишки размахивали трехцветными флагами с фонарных столбов. Вдогонку адским слонищам летели бутылки, не всегда пустые, если судить по огненным змейкам, растекающимся на броне. Никто не собирался драпать. Несколько раз толпа, качнувшись, устремлялась куда-то. Казалось, вот, началась паника – ан нет, оказывается, бросались к очередному троллейбусу, высаживали пассажиров, заворачивали городской транспорт к баррикадам, чтобы укрепить заслон. Не обошлось, конечно, и без шутников в таком массовом действе: кто-то голосил окуджавское «Последний троллейбус по улицам мчит».
Вдруг несколько танков вместо того, чтобы идти вслед за всеми в тоннель, двинулись поверху, в боковой проезд, иными словами – на людей. Резкий голос прорезался сквозь вой турбин: «Россияне, неужели мы их и сейчас испугаемся?!» И будто хор в античной трагедии толпа ответствовала мощным повтором трех слогов: «Ни-ког-да! Ни-ког-да!» На одну из машин вскочил парень с полностью забинтованной башкой. Торчали только глазные дырки да маленькие отверстия носа и рта. Он с такой силой потащил высунувшегося из люка танкиста, что тот только махал руками, пока не был полностью извлечен из своей броневой скорлупы. Толпа стояла прямо перед танками, как бы вообще не собираясь отступать, а некоторые парни ложились на асфальт. Ну, будете своих давить, гады?
Танкисты тормозили, машины еле ползли, что давало смельчакам возможность в последний момент выкатиться из-под гусениц. Многие вспрыгивали или вскарабкивались на броню и, стоя там, на вражеских спинах, продолжали кричать: «Россияне! Россияне!»
Между тем на скате в тоннель произошла трагедия. Один из броневиков вывалился из общего строя, забуксовал, ударился в бетонную стенку и в результате раздавил трех наиболее активных протестантов, трех юношей в московской джинсовой униформе и белых кроссовках. «Убили! Убийцы!» – прогремела Москва под землей и над землей, с тротуаров и с балконов. Обезумевший лейтенантик из броневика открыл пистолетную пальбу. Солдатики вываливались из кормового люка и нелепыми скачками скрывались в ревущей ночи, той самой ночи с 20 на 21 августа, во время которой двадцать три года назад их отцы въехали и утвердились стальными тушами в потрясенной и униженной Праге.
Всю ночь под непрерывным дождем колоссальное становище на берегу Москвы-реки ждало атаки, но атака так и не состоялась. Танковый рев поднимался и затихал то в одном, то в другом конце Москвы, создавая впечатление странной морской бури, как будто Нептун то размешивал волны своим трезубцем, то заливал их оливковым маслом. Между тем по периферии площади, на перекрестках и в переулках накапливалось все больше каких-то неопределенных, то ли «наших», то ли «язовских» танков. Они глушили моторы, и экипажи вылезали на броню. Нередко рядом с этими, как бы «замирившимися» танкистами на броне рассаживались московские девчонки. Компании покуривали, напевали популярную в том сезоне песенку женской рок-группы «Комбинация»: «Два кусочика колбаски предо мной лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе». Солдаты заботливо прикрывали девчат своими шинелями. Население, верное стародавней российской традиции жалости к «служивым», протягивало на танки булки, кефир, палки сравнительно съедобной колбасы. Получалось не так уж хуево, ребятня. Ехали куда-то в жопу, без всякого желания, а попали в неплохое место: и с кадрами красивыми познакомились, и неказарменной жратвой развлеклись.
– Вы, ребята, на своих пушки-то не имеете права направлять! – говорили им два ветерана с набором медалей на пиджаках.
– А мы и не собираемся, – отвечали танкисты.
– Да как вы смеете военнослужащих агитировать?! – визгливо разрушала диалог какая-нибудь бабка, тоже с медалями. – Они присягу давали защищать нашу советскую родину!
– Отойди, Шура, стукачка ебаная, а то по харе получишь, – увещевали ветераны и бабу эту визгливую.
– Руслан! Русланчик мой любимый! – вдруг послышался нежный женский крик. Обращен он был не к общеизвестному спикеру Руслану Хасбулатову, а к тощему солдатику в танковом шлеме, сидевшему на стволе орудия. Подбегала превосходная женщина с ярко накрашенными губами. – Неужто это ты, Руслашка мой?!
– Ну, мама, мама, ну, что ты так, ну, не кричи так громко, мама! – засмущался танкист.
– А у меня тут конфет кулек! Я как знала, конфет взяла! Возьми, Руслан! – кричала женщина, и все вокруг умиленно улыбались.
Едва рассвело, со стороны Кутузовского проспекта на мост стала выезжать танковая колонна. Она шла прямо на баррикады. Но что это? Сквозь холодный туман карательные чудовища проявлялись одно за другим будто движущиеся цветочные клумбы – все обсажены размахивающей трехцветными флагами молодежью. И с неистовой энергией массы ночной человеческой стражи бросились разбирать баррикады. Победа!
Александр Яковлевич Корбах проливался слезами. Тело порой сотрясалось, словно в религиозном экстазе. Скорее всего, это и был религиозный экстаз, ибо никогда в жизни он не мечтал стать свидетелем чуда настоящей «духовной революции». Неподчинение тиранам в конце концов возгорится, как сухая трава, так представлял себе эти дни Лев Толстой. И вот трава возгорелась, и в этом огне испарились, пусть хоть на миг, все наши отчаяния, бессилия и унижения. Пусть это все по прошествии времени утвердится в истории лишь как дата неудавшегося переворота, пусть все пойдет не так, как мечтают в этот момент эти сотни тысяч, все равно три дня в августе девяносто первого останутся самыми славными днями в российском тысячелетии, как чудо сродни Явлению Богородицы. А может, это и было Ее Явление?
Он отдал свой «калаш» кому-то из ребят – к счастью, не пришлось ни разу стрелять – и стал пробираться к зданию СЭВа. Повсюду смеялись, кричали и пели что-то совершенно не подходящее к случаю, поскольку никто из этих, еще вчера советских людей не знал ничего подходящего к случаю.
Невероятно, но факт: лифты в этом обшарпанном небоскребе снова были исправны. Открыв дверь в холл фонда, он прежде всего увидел огромную спину Стенли. Рядом с этой спинищей даже тыловая часть Бернадетты де Люкс казалась всего лишь спинкой плюс попкой. В данный момент первая дама являла собой неотразимый изгиб, ибо слегка свисала с плеча своего покровителя. Другие спины располагались по флангам этой пары: Бен, Лес, Сол, Матт, Роуз, Фухс, ну и так далее, перечисляйте сами. АЯ стоял в дверях и с какой-то еще новой ностальгией смотрел на американскую компанию, прилипшую сейчас к стеклянной стене и оживленно обсуждающую происходящие внизу события. «Прощай, Америка!» – вот что сформулировалось в конце концов в результате этой мимолетной ностальгии. Потом кто-то обернулся и испустил вопль при виде «баррикадчика Лавски». Все бросились к нему, но Стенли был первым, чтобы сжать его в своих пантагрюэлевских объятиях. Сол Лейбниц, не упуская момента, делал один снэпшот[227] за другим. Хлопнуло сразу несколько пробок шампанского.
5. Спасибо за все!
Попрощавшись с Америкой, Александр почти немедленно туда отправился. В «Путни» назначили окончательное обсуждение бюджета. Он был, пожалуй, даже рад вырваться из московской лихорадки в монотонный комфорт международного первого класса. Входишь в полупустой просторный салон 747-го. В середине уже сервирован буфет с великолепными напитками и закусками. Нежно жужжит кондиционер. Воздух России сюда уже не проникает. Наливаешь себе «Клико», один бокал опустошаешь сразу, с другим идешь к своему креслу. Неподалеку, разумеется, уже сидит Оскар Бельведер. Он летит из Японии в Нью-Йорк.
«Алекс, что там у вас произошло в Москве? Расскажите, пожалуйста! – И добавляет: – В двух словах». В прямом переводе английская идиома звучит на грани полного негодяйства: «В ореховой скорлупе».
Впереди десять часов полудремы над океаном. В полудреме этой ты возвращаешься к обычной жизни. В течение тех трех дней ты об этой жизни ни разу не подумал. Ты даже не вспомнил о Норе. Ну вот теперь ты можешь вспоминать о ней десять часов подряд.
После встречи в «Лютеции» он долго казнил себя за совершенное по отношению к ней паскудство. Иной раз, впрочем, рьяно начинал оправдываться. Не она ли сама совершила паскудство по отношению ко мне? Не она ли разыграла уличную дешевочку? С того времени, то есть уже год и пять месяцев назад, она ни разу ему не позвонила, и он ее не искал. Однажды долетела новость.
Пардон, в этом месте мы берем маленький тайм-аут, оставляем нашего АЯ наедине с его мыслями, а сами вступаем в диалог с читателем. Разумеется, сударь, мы могли бы повременить с этой новостью, отложить ее до нашей заключительной двенадцатой части, чтобы ну как бы ошеломить неожиданностью. Вдобавок к этому соблазну существует еще один: повременив до финала, мы могли бы нагрузить эту новость символическим смыслом. Нет, сударь, мы так не поступим, хотя бы из уважения к вам как к читателю творческого порядка, каким вы и являетесь, если уж докатились до этой страницы и не забыли предыдущих. Будучи читателем этого порядка и докатившись так далеко, вы, конечно, понимаете прекрасно, что автор не ищет сюжетных закруток и расхожих символов. Роман наш не относится к жанру thrillers, или, как в России их сейчас называют на новорусском, триллеров. В этом соотношении русского и английского содержится довольно странный каламбур, который, возможно, поможет нам выкарабкаться. Ведь если мы транслитерируем русский термин обратно, мы получим «triller», а «trill» по-английски означает не что иное, как русскую «трель». Именно трелью мы и стараемся заменить «thrill», то есть хоть и острое, но поверхностное ощущение.
Теперь мы продолжаем. Однажды долетела новость: у Норы родился ребенок, мальчик. Хронологически это совпадало или почти совпадало с девятимесячным сроком после их бурного свидания. Значит, зачатие произошло в результате разгула похоти, среди декадентских драпировок, под витающим мышиным комариком кокаина? Так или иначе, возник новый продолжатель мужской линии – тот, кого Стенли называл «двойным Корбахом». Попробуй отличи любовь от похоти? Где лицо, а где козлиная маска? Ночевала ли здесь скромная суть человека, Божьего червячка?
Однако с Норой разве можно быть хоть в чем-то уверенным? Может быть, я и не имею никакого отношения к ребенку. Может быть, ее вечный революционный идеал опять отличился? Ведь он наверняка где-то там околачивается, в археологических траншеях. А может, и просто какой-нибудь «проезжий молодец» из отеля на Ближнем Востоке?
Он в очередной раз попытался ее найти. Позвонил даже в Археологическое общество Северной Америки. Там сказали, что по их сведениям доктор Мансур завершила свою работу в экспедиции Лилиенманна и теперь, очевидно, обобщает результаты для публикации. «Копай и печатайся!» – эту заповедь археологов он узнал еще восемь лет назад.
А может быть, она просто вернулась в «Пинкертон»? От «Черного Куба» до кафедры археологии каких-нибудь полмили через кампусовские пасторали. Он зашел в Alfred Ridder Hall, один взгляд на псевдоготические башенки которого вы-зывал у него любовное волнение. Просто так, забросить «одну русскую рукопись» для Норы Мансур. Секретарши в офисе отнеслись к нему с глубоким женским вниманием. К сожалению, Алекс, у нас нет никаких сведений о местонахождении Норы. Известно только, что она продлила академический отпуск еще на год без сохранения содержания. Без сохранения содержания! Как она вытянет без сохранения содержания? Они улыбались и смотрели на него со значением. Наверное, знают про ребенка, но считают неуместным говорить о нем с бывшим бой-френдом.
Стенли явно ничего не знал. В разгаре глобальной благотворительности ему явно не до отдельно взятых новорожденных. Слово «ребенок» он употребляет только во множественном числе, видя перед собой то сирот Карабаха, то голодающих Сомали, то жертв этнических чисток в Югославии, то детей, не получающих обязательных прививок дома, в Соединенных Штатах.
Тем более поразительным оказалось его недавнее, всего лишь за день до текущего рейса, откровение четвероюродному кузену. В баре московского «Интерконтиненталя» он смущенно сказал, что Бернадетта ждет бэби, и это будет мальчик. Должен тебе признаться, старый ходок дико рад. Во-первых, приятно удивлен, что у меня еще сохранились детородные способности. Во-вторых, с удовольствием попрощаюсь с образом Короля Лира. В-третьих, счастлив, что возобновляется мужская линия. Конечно, я уже стар, но Берни еще достаточно молода, чтобы поднять мальчика.
Молода и здорова, как кобыла Пантагрюэля, подумал АЯ в полутьме советского бара, обсаженного большим числом великолепных проституток. Здорова, если не принимать в расчет мегатонну скотча и мегатонну джина, которые она вылакала в «Первом Дне», а также и крэка, которым она изрядно побаловалась для пущей сласти в своих гомерических копуляциях, ну и, конечно, не принимая во внимание такую чепуху, как триппер, герпес и мандавошки, что тоже не обошли стороной гостеприимное тело. Он постарался отринуть злобные мысли и ободряюще похлопал магната где-то на периферии его титанической спины. Глупо было заводить разговор о Норином ребенке именно в этот момент.
В конце концов он позвонил даже Бобби Корбаху, который к тому времени уже учился в университете «Беннингтон» и удивлял сокурсников своим литературным английским. Мальчишка страшно обрадовался его звонку и спросил, не сможет ли он на каникулах пристроиться в его съемочную группу. Готов делать что угодно, даже лампы таскать. Алекс не сказал Бобби, что лампы таскать будут только члены профсоюза осветителей, однако пообещал что-нибудь устроить. Что касается мамочки, то Бобби, не особенно привыкший к ее обществу, полагал, что она о’кей. Она звонит ему раз в неделю, но вот откуда, он не знает, потому что она, по своему обыкновению, «передвигается». Ни одним словом порывистый юнец не обмолвился о маленьком братике, значит, ничего не знал.
Подтверждение слухов пришло неожиданно, но зато из самого достоверного источника. Однажды, перебирая снимки утвержденных актеров, он задержался на дивном, как бы вечно озаренном лице Голди Даржан. Это лицо и удлиненная фигурка его завораживали: нет лучше Беатриче в мировом кино! В личном общении, надо сказать, чувиха не производила такого впечатления. У нее была мимика и манеры дешевенькой лондонской бимбо. Ну что ж, на то я и режиссер, чтобы превратить сикуху во флорентийского ангела. Вдруг его поразило сходство некоторых снимков с прежними ликами Риты О’Нийл. Вдруг возник неожиданный поворот сюжета. Беатриче не умерла. Испугавшись любви Данта, она имитировала свои похороны, скрылась из Флоренции и дожила до старости где-нибудь в Урбино, в полном одиночестве и аскезе. И эту роль пожилой Беатриче сыграет Рита О’Нийл, мать его возлюбленной, глава голливудского «теневого кабинета». Уже представляя, какой на студии начнется вой при неожиданной переработке утвержденного сценария, он позвонил своей «почти теще» и попросил аудиенции.
«Алекс, я так часто сейчас думаю о вас», – сказала потускневшая звезда весьма молодым и упругим голосом. «В связи с фильмом?» – довольно глупо спросил он. «Нет, в связи с Филиппом», – ответствовала она. «С Филиппом, Рита?» – «Да, с Филиппом, моим маленьким внуком и вашим сыном, мой друг».
Он примчался к ней, на холм Бель-Эр, и она, «прямо как в кино» на фоне мерцающего всякой чепухой Лос-Анджелеса рассказала ему о своем недавнем полете в Европу на свидание с ее вторым внуком Филиппом Джазом Корбахом. Потрясенный Алекс немедленно вспомнил одну счастливую ночь и мокрую «Вашингтон пост», из которой он скрутил саксофон, чтобы сыграть для Норы. Филипп Джаз Корбах, это звучит! Нора сказала, что вы отец, мой друг, но она не собирается навязывать вам отцовство. Он закричал, что любит Нору, только Нору и что любит уже и Филиппа Джаза Корбаха! Он уже немолод, но! Рита, тонко улыбнувшись, заметила, что его возраст, очевидно, ни на чем не сказывается, и по этой классной «диаложной» улыбке он понял, что «почти теща» посвящена в некоторые подробности. Он продолжал, говоря, что странные отношения с единственной женщиной его жизни (Рита тут сделала отличный жест, как бы амортизируя ладонью вниз) измучили его. Ничего больше он не желает, как только посвятить весь остаток дней ей и Филиппу Джазу. Но он даже не знает, где она. Нора почему-то считает, что он посягает. Ну, на что-то. На независимость, что ли. Тут же последовало: это чувство кажется вам странным у женщины? Сказав это, то есть как бы отметившись в передовых порядках, Рита с большим сочувствием пообещала «почти зятю» посодействовать его встрече с «этим лучшим в мире младенцем», ну а стало быть, и с его мамой заодно.
Только после этого он открыл ей цель своего звонка. Он боялся, что она будет шокирована: значит, он думает о фильме, а не о ее дочери? Напрасные опасения, профессионалка миражного царства мгновенно забыла обо всем на свете, кроме возможности снова появиться на экране в огромном, если не эпохальном фильме. Конечно, она согласна, однако есть одно условие, без которого дело не состоится. Давным-давно она дала себе зарок никогда не играть старух, поэтому Беатриче должна быть отправлена в рай хоть и в пожилом, но еще в женском возрасте. Посмотрите на меня, Алекс, и вы увидите, что я не требую ничего «ридикюльного». Я вполне еще могу сыграть хоть и платоническую, но сильную любовь. Поверьте, у меня есть что сказать по этому поводу. Он восхитился: не в первый раз суетная светская ветеранка поражала его острыми прорывами в суть предмета.
Однажды он вспомнил, что у Гумилева есть стих о Данте и Беатриче. Весь «Серебряный век» в Петербурге (не в Москве) прошел в присутствии этих двух теней. Символисты и акмеисты были одержимы дантеанством. Алигьери блуждал среди пустынного классицизма вокруг «Бродячей собаки». Он полез по своим полкам и вытащил четырехтомник Гумилева, изданный эмигрантским издательством и переплетенный в суровую бумагу. Уже в первом томе нашлось искомое.
- Музы, рыдать перестаньте,
- Грусть вашу в песнях излейте,
- Спойте мне песню о Данте
- Или сыграйте на флейте.
- Дальше, докучные фавны,
- Музыки нет в вашем кличе.
- Знаете ль вы, что недавно
- Бросила рай Беатриче?
- Странная белая роза
- В тихой вечерней прохладе.
- Что это? Снова угроза?
- Или мольба о пощаде?
- Жил беспокойный художник
- В мире лукавых обличий,
- Грешник, развратник, безбожник,
- Но он любил Беатриче.
- Тайные думы поэта
- В сердце его прихотливом
- Стали потоками света,
- Стали шумящим приливом.
- Музы, в сонете-брильянте
- Странную тайну отметьте:
- Спойте мне песню о Данте
- И Габриеле Россети.
В принципе вот то, что я должен снять, вот это мой синопсис, остальное – гарнир. Прообраз Данте видели те петербуржцы каждый в своей судьбе. Модерн и «новый сладостный стиль» слились воедино. Брюсов призывал символистов:
- Ты должен быть гордым, как знамя,
- Ты должен быть острым, как меч,
- Как Данте, подземное пламя
- Должно тебе щеки обжечь!
И если не Беатриче, то чью поступь чувствовал Блок в высоких храмах окатоличенного православия, кто, если не она, проходил в ризах Величавой Вечной Жены?
Провозглашенный «центральным человеком мира», Данте оставался человеком, то есть жертвой Вселенной. В нем, как и в Россети, как и в Блоке, как и во всех нас, грешных, тоска по райской любви перемешивалась с жаждой земной, то есть счастье перемешивалось с похотью. Беатриче ходила по тем же улицам, что его домашняя Джемма, что и лихие тогдашние синьоры, Фьяметта и Пьетра, которых он довольно грубо домогался. Акт слияния, вся его сласть для него становится как бы тоской по единому Адаму, слово «сладостность» взывает к тому, из чего он был выброшен первородным грехом.
Задумано было что-то другое, непостижимое нами. Потом в этом возник какой-то перекос, мы дети этого перекоса. Вся мировая биология, включая человеческую историю, то есть историю одухотворенной биологии, это не что иное, как процесс преодоления этого перекоса, возврат к идеалу. И об этом непостижимом идеале вечно тоскует поэт, опутанный, как и все живое, цепочками хромосом, пунктирами ДНК. Но об этом ни слова на заседании совета «Путни продакшн», иначе нас выбросят оттуда, невзирая даже на инвестиции Стенли. Говоря «нас», он, разумеется, имел в виду себя и Данте.
Ну хорошо, а что это я так заторчал на столь высоких материях, одергивал он себя. Как в том отменном анекдоте: «И в самом деле, хули я?» Я, дитя расстрелянного командира РККА и запуганной архивистки, мальчик, ошарашенный поперек головы самшитовой палкой цекиста, жалкий выкормыш руссо-еврейства, певец советских недорослей, проглотивший столько гнусной водки в плацкартных вагонах и в общагах, расковырявший столько банок гнусных консервов, проволочившийся столько среди вечного советского стукачества и убожества, среди вечной вони, которую уже не замечают, а чтобы заметить, надо восемь лет не быть дома, а потом вернуться и задохнуться среди сортиров родины, среди ее зассанных подъездов, хули я?
Хули я вообще-то возомнил себя артистом высокого ис-кус-ства, всего этого нашего жалкого окуджаво-галичевско-высоцко-тарковско-любимовско-козловско-параджановско-корбаховского ренессанса? Хули ж я среди всех таких же все мечтал о каких-то там Зурбаганах, о каком-то «острове Крыме», где можно укрыться от красных чертей, о всех этих пролетающих образах греко-иудейской прародины среди оливковых рощ; хули я?
Ну что ж, каждый из нас так может себя спросить – из всех, с кем я провел эти три дня, из всех этих альпинистов, шоферов, докторов, журналистов, «афганцев», педагогов, библиотекарей, строителей, санврачей, кукловодов, ну и так далее; хули мы?
А хули я вообще-то, Корбах Александр Яковлевич, 1939 г.р., место рождения Москва, еврей по национальности, так прижился в Америке, as snug as а bug in the rug,[228] как будто я ей принадлежу, а не юдоли советской. Какое я отношение имею к этой стране с ее, скажем, неграми, к которым я, как выяснилось, не имею ни малейшего отношения, несмотря на все джазы и баскетболы? Какое отношение я имею, например, к пачке «жиллетов», из которой при распечатывании выпадает пластиковая карточка на пятиминутный телефонный разговор, выпущенная компанией MCI совместно с федерацией атлетики под эгидой вышеназванной брадобрейной компании? Какое отношение я имею вообще к этому материку, когда я подлетаю к нему в разгаре, вернее, в распарке его лета и вижу с высоты его берега, томящиеся в жарких парах? Какое отношение я имею к шкурам его лесов, в которые как ни войдешь, так сразу тебя и охватывает чувство непричастности к моткам непроходимых колючек и висящим без движения ветвям? Ты не относишься никак и к викторианским домикам, стоящим в ряд под свисающими в жаркой влаге листьями, похожими на связки вирджинского табака или на многоярусные юбки каких-то испанских матрон, под которыми зиждятся дубовые или эльмовые ножища этих бабищ чудо-реализма.
Говоря о реализме, следует сказать несколько слов и о ебле. Американская к тебе относится не очень-то впрямую, старый козел. Нора не раз тебе говорила, что ты трахаешься как-то не так, как их козлищи. Равенство партнеров не заложено в структуру твоего языка, вот в чем причина, а вот из их языковой структуры как раз и проистекает весь их феминизм с их «политической корректностью».
Ну давайте уж напрямик. Когда я вхожу в люкс очередного пятизвездного отеля, разве я имею к нему какое-нибудь отношение? Те, кто имеют к нему отношение, не замечают великолепия, а я в пузырящихся ваннах, перед зеркалами, совершенству которых позавидовала бы и старая Венеция, перед окном с видом на очередной океан, отвечая на любезнейший вопрос, к какому часу подать вольготный «линкольн» с исполнительным, без заискиванья, шофером, я тут все время думаю, что не имею к этому никакого отношения, но зато имею прямое отношение к другому типу отелей, ну, скажем, к керченскому «Межрейсовому дому моряка», где в номере люкс здоровенный гвоздь торчит из паркета острием вверх для пущего удобства тех, кто хочет порвать свои штаны, где в ванной кроме «воды нет» нет еще и света, потому что лампочку кто-то унес, где вместо туалетной бумаги в мешок всунута местная коммунистическая паскудина, где, чтобы зажечь или погасить лампочку на ночном столике, надо вылезти из постели, пересечь спальню, забраться на спинку дивана, ибо только оттуда можно дотянуться до штепселя, где утром просыпаешься весь в пятнах после визита ночных красавиц, мух с соседней свалки, где дежурная тетка-большевичка заходит к тебе без стука пересчитать полотенца и спрашивает басом, не сожрал ли ты вафельное; вот, собственно говоря, к какому типу отелей ты имеешь отношение, Александр Яковлевич.
Ну что ж, надо закругляться и возвращаться к своим. Спасибо за все, Америка, ты-то хороша, да хули ж я.
6. Зеркальная стена
В Нью-Йорке он неторопливо направился из одного павильона авиакомпании в другой. До пересадки на Эл-Эй было больше двух часов. Двигался по бесконечным стеклянным коридорам, по катящимся дорожкам мимо киосков, закусочных, кафе, баров, высоких тронов для чистки сапог, гирлянд маек, на которых столько вздора нарисовано и написано, мимо книжных лавок, почти сплошь занятых оскаленными клыками и зубами-резцами. Вот еще загадка, почему эту страну так тянет к Дракуле? В бытовой жизни никаких намеков на вурдалачество, а в духовной вот бесконечная кровища течет со всхлипами под аккомпанемент романтической, ну, стало быть, румынской музыки. Он шел в своем потоке и смотрел на встречный поток американского пассажирства. Было такое впечатление, что ты в толпе довольно знакомых людей: шли основные типы общества, которых не так уж много, ну, скажем, триста. Вон тащится навстречу знакомый тип из академической среды, какой-нибудь драматург на университетском жалованье, об этом можно судить по расхлябанной одежде, скрывается за большущими толстяками – сколько тут у нас развелось большущих мужских и женских толстяков в стране бейсбола! – снова появляется, демонстрируя надменный подбородок непризнанного гения – вполне типично американский не-совсем-американец – и проходит мимо. АЯ минует зеркальную стену, даже не сообразив, что в течение нескольких секунд наблюдал за своим собственным отражением.
Чтобы завершить эту весьма важную часть в ее собственных, части десятой, пределах, нам придется прибегнуть к приему, который мы бы тут охарактеризовали словцом «однажды». Делается это вовсе не для того, чтобы скрыть наши нелады с хронологией, – напротив, с помощью этого словца мы надеемся гладко провести тебя, читатель, по последующим девяностым годам к тому самому моменту, когда ты, выложив кучку рублей, долларов или франков, раскроешь эту книгу.
7. Виляющий тотем
Однажды Дик Путни позвонил Александру прямо в съемочный павильон. Произошло это в тот момент, когда режиссер объяснял своему любимому актеру Квентину Лондри, что тот вовсе не horny по отношению к Даржан в момент встречи у Понто Веккио, а просто-напросто мистически экзальтирован.
«Извините, Алекс, что раньше не предупредил, – сказал Дик, – но как насчет совместного ланча? Да, сегодня. Дело в том, что мой старик, который давно уже умирает с вами встретиться, неожиданно заявился в мой офис. Вряд ли у нас будет лучший шанс для того, чтобы собраться вместе».
Александр закончил утреннюю съемку и на прощанье сказал Квентину: «Не жри мяса. Я тебя умоляю, не жри стейков с кровью, пока мы снимаем „Понто Веккио“. Ты можешь это сделать для меня?»
Ланч состоялся прямо в офисе Дика на двенадцатом этаже здания компании, что торчит из пальмовых макушек на склоне холма Бель-Эр и смотрит верхними окнами на архитектурный вздор необозримого Лос-Анджелеса.
Мы, кажется, еще не рисовали для вас портрета Дика Путни, этого всемогущего производителя разного рода киновздора, да в этом и нет особой надобности. Достаточно сказать, что он по всем статьям представлял собой тип денежного воротилы и в глазах у него часто стояло выражение типа «нет-нет, вы не заставите меня размечтаться!».
Фигура папаши, успешно приближающегося к восьмидесятипятилетнему юбилею, достойна более подробного описания. Этот Эйб Путни, что на заре века в местечке Луцк Херсонской губернии был известен как Абраша Путинкин, являл собою представителя хорошей, взращенной на калифорнийских пустынных источниках старости. Темно-рыжая краска на голове классно скрывала не только седину, но и обширные, густо пигментированные просветы кожи. Две основные старческие жилы под подбородком были перевязаны фуляром «аскот». В отменных фарфоровых зубах Эйб постоянно держал сигару: привычка, приобретенная еще в начале голливудского расцвета, от которой он не собирался отказываться, несмотря на запрет кардиологов. Иногда он даже зажигал спичку и направлял ее к сигаре, но всякий раз огонек останавливался в сантиметре от любимого предмета, чтобы погаснуть от небрежного, как бы рассеянного помахивания. Одет патриарх был в ядовито-коричневый блейзер с длинной шлицей и в голубые джинсы, плотно облегавшие его стройные ножки. Обут в штучные ковбойские сапожки с инкрустацией. Такова внешность, к ней прибавим голубенькие под стать джинсам глаза, то ли натуральные, то ли искусственные, во всяком случае, достаточно зоркие, как покажет последующая беседа. Что касается внутренности, то тут наше перо начинает буксовать, не решаясь даже коснуться этой темы в завершающей фазе романа.
Слуги из ресторана «Мопассан», что располагался в первом этаже здания, принесли два меню в кожаных переплетах, похожие на приветственные адреса по случаю юбилея Академии Генерального штаба. Эти меню предназначались для Алекса Корбаха и Дика Путни. Старику притаранили его любимую еду из «Макдоналдса»: два гамбургера, пакетик френчфрайз,[229] солидную вазу салата и тюбик кетчупа, которым он мгновенно перемазал салфетку.
Алекс внимательно смотрел, достаточно ли широко откроет рот Эйб, вступая в интим с гамбургером. Он всегда недооценивал упругую пухлость этих культурно-исторических булочек. Пальцы и челюсти умелого человека превращают самый толстый бургер в удобное едальное устройство, и Эйб Путни был как раз из этого числа.
– Ну, расскажи, Алекс, о своих перспективах, – попросил Дик. – Как начались съемки, ну и вообще.
Алекс тут же начал плести ахинею о том, какое огромное значение приобретает сейчас дантовская тема в контексте европейского культурно-политического вызова. Балканы показывают, что мы наблюдаем своего рода откат Ренессанса, однако на фоне неожиданного выдвижения России наш фильм может оказаться манифестом культурного фронта. Запад жив, цивилизация не сдается! Европа не уйдет с авансцены, пока существует человечество, мистер Путни!
– Эйб, – сказал старик.
– Простите? – не понял Александр.
– Называй меня Эйб, – сказал старик. Он уже прикончил оба свои бургера, всю картошку и две трети салата, в то время как «молодые люди», отхлебывая отменное «мерло», только что приступили к своим миньонам. Теперь Эйб уже поднимался – в уборную.
– Ты Алекс, я Эйб, – говорил он, хихикая. – По-руску Сашка и Абрашка, о’кей?
Он довольно долго не возвращался. За это время Дик и Алекс успели закончить свой ланч и поговорить о девушках из массовки. Ребята болтают, что у тебя там масса красоток, верно? Когда Эйб вернулся, Алекс и сам уже чувствовал нужду отлить, или, как говорят на бензоколонках, take a leak (дать утечку). Войдя в туалет, застал в унитазе огромную темно-зеленую кучу, свидетельствующую о неплохом состоянии пищеварительного тракта президента корпорации. На кафеле валялась толстенная газета столбиками биржевых показателей вверх. Увлекшись любимым чтением, Эйб позабыл спустить воду; ну, бывает.
За кофе начался какой-то странный, но явно основной разговор.
– Уж несколько веков прошло, как я не видел Стенли, – сказал Эйб. – Это правда, что он женился на негритянке?
– Во-первых, еще не женился, а во-вторых, она не негритянка, – ответил удивленный Алекс.
– А мне говорили, что негритянка, – промямлил Эйб.
– Нет-нет, Эйб, – снова возразил Алекс. – Она типичная еврейская ирландка, из рода Блюмов.
– Блюмов или Бламсдейлов? – остро поинтересовался Дик.
– Ее фамилия Люкс, – пояснил Алекс. – Это боковая ветвь Блюмов.
– Да это не важно. – Эйб помахал пятью пальцами правой руки и четырьмя левой. По крайней мере семь перстней красовались на этом подразделении морщинистых, но все еще надежных солдат с зазубренными ногтями. – Негритянки могут быть отличными подругами как в постели, так и за ее пределами. Знаю по собственному опыту.
Александр вздрогнул: на скатерти, неподалеку от набора джемов, сидела маленькая, не длиннее чайной ложки, изумрудная ящерица. Глазенки, крошки смарагда, с любопытством смотрели на него. На мгновение выскочил раздвоенный язычок. Удивительная деградация огнедышащих драконов. Старший Путни попытался накрыть ящерку ладонью. Значит, не игрушечная! Пресмыкающемуся не составило никакого труда отбежать в сторону и спрятаться за кофейником.
– В газетах сейчас только и пишут о корбаховском фонде, – вздохнул Дик с такой печалью, словно только третьего дня перечитал «Екклезиаста». – Пишут, что вся «бархатная революция» была финансирована Корбахом.
– Что за вздор! – рассмеялся Алекс. – Это Горбачев там все устроил. Задействовал постоянную советскую агентуру в Берлине, Праге, Бухаресте, и все было сделано в одночасье.
Эйб быстро скользнул рукой за кофейник. Ящерка тут же перебежала за сложенную пирамидкой салфетку. Эйб поинтересовался:
– А что, этот Горбачев, он тоже сотрудник фонда?
– Только не нашего! – воскликнул Александр. – С чего это вы взяли, Абрашка?
Дик Путни пожал плечами:
– Да это не важно, просто в газетах иной раз пишут об этих делах. Как-то я читал, что все эти августовские дни были устроены в Москве на деньги Корбахов.