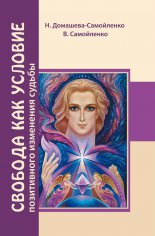Новый сладостный стиль Аксенов Василий

– Что?! – возопила Нора. – Уши не изменяют мне? Ты предлагаешь за мной приданое? Да ты не … ли?
– Молчать! – оборвал ее отец не без довольно заметного гнева. – Да, я хочу дать приданое за моей дочерью, как это делали все мои предки столетия назад! Вот, например, сеньор Самюэль Корба де Леон дал за своей дочерью дюжину превосходных лошадей, три сундука бархатных и кружевных платий, три сундука драгоценной посуды и столового серебра, океанский корабль, гасиенду…
– Отец! – прошептала Нора умоляюще.
– Прости, Стенли, а где ты видел это приданое сеньора Корба де Леон? – полюбопытствовал Александр. – В каком архиве?
Стенли бросил на него слегка диковатый взгляд.
– Не важно где, я просто видел это! – Он рассмеялся с облегчением. – Я просто хочу сказать, что это мое право предложить за дочерью приданое, а ты, конечно, вправе от него отказаться. Итак, я предлагаю за ней жемчужину нашей империи, универсальный магазин «Александер Корбах» в Нью-Йорке. Да-да, мой друг, то самое здание, что ты принял в начале книги за ворота Страшного Суда.
– Как это чудесно! – Нора сцепила пальцы в стиле старомодной театральщины. – Какой у меня щедрый отец! Алекс, медок мой, ты мог когда-нибудь подумать, что этот храм света и роскоши станет нашей собственностью? Вообрази себе наших милых деток, двухсторонних Корбахов, как они день-деньской катаются на восемнадцати лифтах вверх и вниз, вверх и вниз!
Стенли смеялся:
– Это забавно, двухсторонние Корбахи в восемнадцати лифтах!
Нора продолжала шутовать:
– А как насчет твоего любимчика, Арта Даппертата? Ты его тоже включил в мое приданое?
Стенли вдруг посерьезнел:
– Не беспокойся насчет Арта. – Затем он выразительно посмотрел на часы, откинулся на подушку и закрыл глаза.
– Ну, что ты скажешь обо всем этом? – спросил Александр, когда только что «обрученная» пара выехала из больничного паркинга.
Нора вздохнула:
– Я очень волнуюсь за него. Надеюсь, что все это лишь последствия глубокой анестезии и что все эти «двухсторонние Корбахи», приданое в виде исторического универмага, ссылка на каталонских предков выветрятся из него по мере выздоровления. Он не знает, что я у него сидела во время его делириума. От его бормотания тогда мне стало не по себе: там было что-то совсем далекое, совсем – ты понимаешь? Я знаю, что Марджи и Норман шпионят за ним. Они осторожно пытаются возродить разговоры о его безумии. Ты не знаешь историю его трех «исчезновений». Похоже на то, что он готовится к четвертому.
Стараясь выдерживать дистанцию между автором и персонажами, мы все-таки готовы поблагодарить Нору за упоминание Арта Даппертата, этого энергичного представителя поколения яппи, что сменило поколение хиппи и этим внесло конструктивный вклад во многие сферы нашей жизни, не говоря уже о пресловутом «кризисе городов».
Я надеюсь, что читатель не будет возражать, если мы обратим его благосклонное внимание на маленькую фонетическую деталь в нашем повествовании. Все три словечка, что выпрыгнули сейчас на страницу – яппи, хиппи и Даппертат, – имеют двойное «п» в своих серединках. Этот странный феномен, на наш взгляд, придает им специфическую взрывную энергию, не так ли? Всегда подчеркивай дабл-пи, дарлинг, так советует Арт своей очаровательной и все еще такой молодой жене Сильви. Не жуй их, как последний шнурок спагетти, жми на них, подчеркивай, почти чихай, потому что это перец нашей фамилии!
Персонажи, персонажи, о, эти персонажи, скажем мы в стиле господина Гоголя лирических отступлений. Не чума ли это для новеллиста – все время держать их в уме, заставлять их взаимодействовать, проявлять хоть некоторую логику в поступках, искать в них новые черты, то есть описывать их в развитии, подтаскивать их временами к зеркалу, чтобы посмотрели на себя, или внезапно открывать перед ними окно в мир свободы, воздуха и птиц, то есть не забывать их в темных затянутых паутиной кладовках, как заброшенных марионеток, вовремя их оттуда вытаскивать, давать им хороший фонетический душ, крепкий здоровый завтрак, пиво к ланчу, шампанское к ужину, вообще относиться к ним хорошо, как к равным, иначе вы можете однажды обнаружить, что они сбежали из заплесневелых углов и подняли против вас восстание в дальних провинциях, чтобы потребовать большую роль в книге и даже настаивать на отречении автора и установлении какой-то своей хиппи-яппи-пеппер-паппит-дап-пертутто республики.
А вот если вы выказываете вашим персонажам полное уважение и внимание к их выношенным в кладовках идеям ограниченной автономии, вы можете в конечном счете превратить свою авторскую муку в славный карнавал, где персонажи будут вести себя в соответствии с запросами книги, вовремя входить и выходить, а когда нужно, танцевать вокруг наших с вами словесных фонтанов, дорогой творческий читатель. Я не оговорился и не заискиваю из лести, я действительно делю читателей на творческих и «других», всяких там Скамейкиных, и этого творческого читателя, а не Скамейкина считаю истинным соавтором книги. Серьезно говоря, каждый акт чтения творит новую версию книги; это как в джазе. И Боже нас упаси от машинного «скамейкинского» чтения, что перемелет и филе-миньоны в шведские биточки, но это уже из другой оперы, милостивые государыни!
Теперь позвольте мне немного приподнять занавес, чтобы обнажить кое-какие беллетристические ухищрения и суету за кулисами. Впрочем, вы и без этого, очевидно, уже догадываетесь, что мы превращаем очередь визитеров к Стенли Корбаху в своего рода парад персонажей, что призван напомнить читателям основные лица этой истории.
Даппертаты входят. Тридцатидвухлетний глава семьи. Все та же упругая походка. Та же дружелюбная внешность. Полная готовность подхватить любую шутку, долю секунды поработать над ней при помощи всех чипсов головного мозга и немедленно вернуть хорошо обогащенной.
– Хей, Стенли, да ты выглядишь, как самый здоровый тесть в мире!
Он еще не знает, что следующая большая удача ждет его за углом, но в общем-то готов принять любую удачу в любое время. Ну что еще нового? Правильно, дорогой читатель, – усы! Замечательное а-ля генерал Китченер приобретение с двумя слегка подкрученными крыльями, всякий раз показывающими противоположные стороны света. Эти две чувствительные антенны уже не напомнят нам прежнего Пульчинеллу, но зато вызовут в памяти Базилио, мастера любовного напитка. Ну что еще в масштабах здравого смысла, джентльмены? Чтобы не выглядеть слишком самоуверенным, не могу не упомянуть выдающийся коммерческий успех Арта. Сильно утвердившись со своими неизвестно почему такими дьявольски желанными «игрушками для стареющих деток», он стал очень солидным акционером «АК энд ББ корпорейшн», да и его собственная фирма разрасталась из года в год.
Теперь, чтобы в соответствии с нашими правилами не играть с читателем в кошки-мышки, откроем один уже готовый к открытию секрет. Готовясь к своему «Четвертому Исчезновению», Стенли Корбах пришел к решению сделать своего зятя одним из самых влиятельных вице своей АКББ с годовым заработком… оу, довольно, не надо сыпать соль на столько ран… ну и, разумеется, с определенным процентом от «брутто профит». Так уж наша Америка относится к своим любимчикам: если решила она сделать кого-нибудь богатым, тут никаких пределов для нее не существует.
Учитывая все эти обстоятельства, мы вроде бы не должны волноваться об Арте, но мы между тем все-таки волнуемся. Иной раз мы находим его в состоянии какой-то странной растерянности. Ему кажется, что он год за годом все больше теряет нечто более важное, чем накопление добра, некую альтернативу, тот манящий хаос жизни, с которым однажды он повстречался в лице пьяного русского мудилы, ко времени написания этой фразы едва не ставшего его родственником. Эти наши волнения, похоже, разделяет милая жена Арта, его «сладкое-сердечко»[152] Сильви, которая и сама себе не признается, что у нее есть некоторые сомнения по поводу «стабильности» Артура.
Мы бы сказали: «Беспочвенные сомнения, Сильви», если бы не знали, что у ее мужа появилась склонность к некоторым новым почвам, а именно к русской земле, еще точнее, к Москве, куда он ездил уже дважды под видом «бизнес рисёрч»[153] и откуда возвращался в весьма потасканном состоянии, словно кот после сезона крышных баталий. Со слов некоторых участников группы «Шуты» (с ними нам еще придется познакомиться в ходе романных перипетий) мы знаем, что в столице мира социализма Арт не раз ошарашивал девушек странным заявлением: «Россия у меня в сердце, она мне нужна как раскаяние».
Что касается нашей юной красавицы, я должен сам покаяться перед снисходительным, я надеюсь, читателем. Встретив ее в третьей главе, мы все – не правда ли, сударь? – были готовы влюбиться в этот дивный плод корбаховского древа, однако потом под влиянием каких-то смутных воспоминаний предпочли более зрелых женщин. Теперь мы видим, что Сильви стала просто неотразима в смысле нежных, беатричевских чувств. Кое-что мы все-таки должны добавить к этому заявлению. Иной раз какое-то новое выражение посещало ее прежде столь невозмутимо прекрасное лицо. Это выражение могло вас увести с вашим восхищением далеко за рамки платонизма. С этим выражением, а также с бэби Гаролдом на коленях она выглядела не просто красавицей, но слегка обиженной красавицей, что кружило головы джентльменам на острове Гваделупа, где она часто воспитывала ребенка.
В такие моменты читатель со склонностью к более глубокому проникновению в мир персонажа мог бы прочесть на лице Сильви следующее: да, вы хорошо заботитесь обо мне, спасибо, вы извлекли меня из похотливой толпы студентов «Колумбии», вы лишили меня некоторых гадких привычек, я это очень ценю, вы дали мне счастье в лице бэби Гаролда, вы дали мне вашу любовь и протекцию в виде ваших рук и слегка слишком заросшей груди, но почему, милостивый государь, вы не видите во мне личности? Ну, в общем, как всегда это бывает со всем этим ненасытным бабьем.
Теперь пора обратить наше внимание на бэби Гаролда, который уже давно сидит на правом плече своего деда. Вдвоем эта пара представляет поистине мифологическую сцену: стареющий гигант с херувимом на правом плече. «Вот настоящий еврейский мальчишка!» – восхищается дед.
– Прошу прощения, мой дорогой патриарх, – заметил Арт, – но у Гаролда пятьдесят процентов итальянской крови, не говоря уже о других ингредиентах. Это что-нибудь вам говорит?
– Ровным счетом ничего. – Гигант таял под маленькими ягодичками, а его шевелюра блаженно дыбилась, будучи схвачена командой крошечных пальцев. – Гаролд еврей, потому что его мама еврейка, а Сильви еврейка не потому, что ее папа по большей части еврей, а потому, что ее мама на одну четверть еврейка с материнской стороны, а вот маминой мамы мама была уже целиком. Разумеется, никакой случай супружеской неверности со стороны этой цепи женщин не будет принят во внимание по нашему определению еврейскости. Правильно, Гаролд?
– Mais oui, – ответил карапуз, который только что вернулся с Гваделупы от нянюшки-креолки.
– Ну, это уж слишком для двухлетнего крошки! – прогудел восхищенный дед.
– Voilа, – скромно поклонился отец.
Мать ничего не сказала и сняла малыша с башни. Она чуть не плакала.
Когда они уже уходили, Стенли попросил Арта задержаться на пару минут:
– Слушай, Арти, я, очевидно, вскорости исчезну.
С удивлением он заметил, что зять смотрит на него исподлобья с любовью и тревогой.
– Не говори так, Стенли! Я навел справки, сэр. С твоей начинкой все в порядке.
Тесть хохотнул:
– Вот поэтому я и исчезну, малый! Сейчас самое время раствориться в воздухе.
– Четвертое Исчезновение? – догадался Арт.
– Правильно! – сказал Стенли с выражением полной освобожденности. – Я уйду из моего факинг бизнеса и из всей моей выморочной с-понтом-аристократической рутины. Я чувствую себя готовым сделать что-то стоящее в этом воздушном мире, пока я еще не превратился в космический объект. А ты, Арт Даппертат, будешь моим человеком в совете АКББ. Поздравляю тебя, счастливый кот, с назначением первым вице!
– Нет, нет, Стенли, нет! Пожалуйста, не тяни меня за ногу! – взмолился Арт, качаясь будто в центре урагана. Не меньше минуты прошло, прежде чем он пришел в себя. И спросил шепотом: – Ты хочешь, чтобы я присматривал за Норманом?
– Никогда не сомневался в твоей сметливости, – улыбнулся тесть.
Парад персонажей продолжался. Все они как будто сговорились доказать Стенли, что мир незыблем и что Атлас жив и сучит ногами, поскольку руки заняты поддержкой глобуса. Среди прочих явилась и румяная Роуз Мороуз, глава канцелярии «Галифакс фарм» из штата Мэриленд. Ее сопровождала сотрудница, бледно-дебелая Лу Лафон. Дамы привезли множество добрых пожеланий от соседей из Йорноверблюдского графства, в том числе от шести женщин – Труди, Лиззи, Лорри, Милли, Лотти и Ингеборг, которые когда-то, до благоухающих замужеств, составляли рок-группу «Поющие Русалки». Роуз сделала фотку своего босса вместе с Лу и попросила последнюю сделать две фотки ее с ее боссом.
Бенджамен Дакуорт (Достойный Утки) приехал из Нью-Йорка со своим приемным сыном, четырнадцатилетним Рабиндранатом. В дверях они столкнулись с вышеуказанными девушками и попросили их подождать в приемной.
– Очень рад познакомиться с членом экипажа моего отца, – сказал Рабиндранат Стенли Корбаху. Для пояснения своих слов он предъявил журнал «Паруса и моторы» 1970 года, на обложке которого были запечатлены два члена экипажа большой яхты «Кошмар австралийцев», два американских гиганта, черный и белый, один по происхождению сенегалец, второй еврей. Положив бревнообразные руки на плечи друг другу, оба смеялись, как будто их яхта только что не сделала оверкиль, пытаясь подрезать нос у «Звезды Австралии».
Стенли был растроган, но не забывал и дела:
– Будь наготове, Бен, – сказал он сыну своего фронтового друга, то есть как бы своему собственному сыну. – Может так случиться, что ты мне срочно понадобишься.
– В любое время, Стенли, – таков был немедленный ответ бывшего парашютиста.
Не успели Достойный Утки и его приемный сын Рабиндранат покинуть палату, как вошла еще одна пара визитеров; не кто иные, как Ленор Яблонски и Энтони Эрроусмит. Ни разу еще за всю жизнь не выцветшая красавица и сейчас выглядела великолепно и женственно. Хей, да она счастлива, просто-напросто счастлива, простодушно счастлива, ну и дела!
Энтони в свои двадцать-семь-с-чем-то тоже выглядел неплохо: с плеч ниспадал черный плащ с пелериной, широкополая шляпа оттеняла бледное лицо, левая рука в идеальной перчатке держала правую перчатку, только что снятую, правая обнаженная рука была протянута к отчиму. Стенли почему-то ожидал увидеть в ней колоду карт, но ошибся, рука была протянута для рукопожатия.
Чудо из чудес, Ленор Эппловски (русский вариант ее фамилии) выглядела почти застенчивой в тот вечер. Иной раз она бросала на Стенли как бы извиняющиеся взгляды, будто бы говоря:
нет-нет, Стенли, ничто не забыто, ни одна из наших страстных ночей (и утр, добавил бы он) не пропадет в забвении, но что я могу поделать, милый Стенли, я полюбила этого мальчика, будь снисходителен к нам!
Секс, думал Стенли, любопытный феномен, не правда ли? Почему люди так сильно преувеличивают все эти совокупления? Почему они думают, что трахтовка автоматически приносит чувство близости и теплоты? Не счесть сколько раз я совокуплялся с моей женой Марджори, но ни разу не испытал чувство близости и теплоты. Пройди под гулкие своды классики, туда, где бродил наш Саша, увидишь юношу Данте, взирающего на юницу Беатриче. К моменту их встречи он был уже мужем Джеммы и главой семейства, но даже мысль о совокуплении с новой просиявшей красотой не посетила его. Это была иная, непостижимая страсть, из иных пределов, и ни единый половой импульс не посетил его и его кавернозное тело; так, во всяком случае, звучат стихи. А мы, не-поэты, но и не-скоты, любую свою похотливость, любой пистон облекаем в какие-то туманные ностальгические одежды. То, что мы называем романтизмом, это, очевидно, космически отдаленный отблеск настоящей любви. Не в силах достичь и романтизма, мы жаждем теплоты и близости. Даже эта сорокаоднолетняя девушка с ее впечатляющим стажем партизанских действий в рамках американской секс-революции застенчиво посматривает на меня: «Стенли, пожалуйста, не думай, что все забыто!»
Причины прихода Ленор и Энтони были довольно просты. Во-первых, конечно, они хотели выразить свои симпатии выздоравливающему патриарху и пожелать скорейшего возвращения к его обычному великолепному состоянию ума и тела, а также к его общеизвестному благородному кавалерству (sic!). Также примите поздравления по случаю вашего юбилея. Мэни хэппи ритернс![154] Во-вторых, они хотели бы проинформировать главу клана о своем решении пожениться. Двенадцатилетняя разница в возрасте (четырнадцатилетняя, быстро в уме поправил Стенли) ничего не значит, если ты кого-нибудь любишь столь всепоглощающе и самоотреченно. Проблемы создает мать Тони, вот в чем дело. Она и дядя Норман были просто взбешены нашим решением. В отчаянии ища поддержки и теплого взаимопонимания, да, теплого взаимопонимания, они решили обратиться за благословением к Стенли. Им также нужен его мудрый совет:
как им поступить в подобных обстоятельствах, как выдержать враждебность семьи?
Нет ничего проще, мои дорогие дети, немедленно откликнулся Корбах, одновременно спрашивая себя, наказывают ли на небесах за такого рода цинизм. Вопрос № 1: запрошенное благословение – даровано! Я никогда не желал своему пасынку лучшей жены, чем ты, Ленор. Вопрос № 2: для того чтобы избавиться от надоедливого ворчанья матушки и от попердывания дяди Нормана, вам нужно немедленно отправиться в кругосветное путешествие по законам медового месяца. Выбирайте что хотите – чартерные полеты или знаменитую яхту мореплавателя Тони. Если вам нужны деньги, соединитесь с Артом Даппертатом в нашей штаб-квартире, он позаботится об этом предмете.
«Арт Даппертат?! В нашей штаб-квартире?!» – воскликнул Энтони с какой-то неуместной интенсивностью. «Ах, Арт Даппертат, – протянула Ленор, как будто вспоминая что-то кинематографическое. – Что ж, с ним можно найти общий язык». – «Не сомневаюсь в этом», – сказал Стенли и отпустил пару царственным движением руки. И помолвленные направились в свою бурную и незабываемую семейную жизнь.
На следующий вечер, фактически за ночь до выписки из хирургической обители к Стенли явился еще один неожиданный визитер. Этому не предшествовал даже звонок из приемной, что было весьма странно в образцовом заведении. Дверь просто распахнулась, и через порог шагнула в резиновых сапогах не кто иная, как Бернадетта Люкс, героиня его почти отчаянных послеоперационных снов. (Читателей, жаждущих подробностей этих снов, мы переадресовываем к московским писателям младшего поколения.) Вдобавок к этим сапогам Бернадетта шиковала в ярко-голубом комбинезоне и ярко-красной куртке. Этот гардероб, возможно, и объясняет тот факт, что девушка не подверглась проверке. Персонал, очевидно, принял ее за водопроводчика.
– Стенли-Смутли! – воскликнула она шепотом и раскрыла свои руки Венеры Милосской для огромного любящего объятия. – Ты в порядке? Все в порядке? Мы гнали сюда из Эл-Эй четыре дня и четыре ночи! Вообрази свою нежную Берни-Терни за рулем огромного трака на федеральном шоссе № 70! Матт не мог оторвать меня от руля! Ты знаешь, он плакал! Бедный парень все время повторял: «Я уважаю твои чувства, герл, однако тебе нужен отдых, герл! Тебе нужно расслабиться, выпить бутылку „Сиграма“, поиметь хороший пистон и поспать, герл!» Замолчи, кричала я на него. Мне нужно увидеть моего большого бэби, у него была операция, он нуждается в моей любви! – И так мы рулили день за днем, останавливаясь только заправить баки и выгрузить помидоры. Твой дружок Кукки… – Она оттянула «молнию» на кармане куртки, и немедленно крошечная мордочка с остреньким носиком, с парой трепещущих ушек и с преувеличенно выпученными глазками выскочила оттуда… – Бедняжке иногда приходилось опростаться прямо мне в колени, ну ничего, его капельки мало добавляют к общей вонище планеты.
Кукки тем временем выскочил из кармана, поцеловал Стенли в губы и начал носиться по кровати, нюхая там, нюхая здесь, страшно возбужденный множеством разных обонятельных нюансов, недоступных заросшим ноздрям современного человека. Больше всего привлекали мальца пальцы ног господина президента. Он суетился вокруг них, просовывал между ними свой острый носик и наконец улегся за ними, то и дело высовывая чуткую головенку как превосходный чихуахуа – страж зубчатой твердыни.
– Берни, дорогая, – произнес Стенли с трагическими интонациями, – я так высоко ценю твою верность и отвагу, однако, увы, любезнейшая дамзель, недавняя операция вряд ли позволит мне ответить на излияния твоих эмоций с моей прежней адекватностью.
– Это чепуха! – заявила решительно мадам Люкс. – Такого просто быть не может! Давай-ка, Кукки, мальчик, возьмемся за нашу работу! Ты лижи ахиллову пяту нашего героя, а я позабочусь о таране! – Еще из школьной программы она знала о странной связи этих явлений.
Дуновения бризов Эллады, шорохи молний, чмоканье губ, запахи тлеющих вулканов, все ароматы средиземноморских пространств, включая урожаи вздымающейся из глубин Атлантиды; какое блаженство, кряхтит возрождающийся Ахилл, какое чудо творит со мной это женское чудовище!
После этой греховной акции мы, разумеется, нуждаемся в духовном вожде, и вот мы, о Теофил, уже слышим его четкие шаги в гулких коридорах. В комнату, которую только что оставила телесная целительница, входит раввин Самуэль Дершковиц. Да, он здесь со своей верой, несмотря на наши экуменические огрехи.
Сэм Дершковиц был уже описан в пятой части как человек с суровой внешностью религиозного фундаменталиста. Сейчас мы добавим к этому описанию пару-тройку зажеванных стереотипов в виде длинной бороды и свисающих с висков заплетенных в косички пейсов. Между тем, невзирая на внешность, он был в душе, может быть, самым либеральным пастырем среди иудаистского духовенства среднеатлантических штатов. У него была отменная фигура и твердая поступь хорошо тренированного атлета, которым не повредило даже его пристрастие к крепким напиткам. Сказав это, мы уже не можем отступить, не упомянув в нескольких словах его боксерского прошлого.
Он рос на «крутой» улице нью-йоркского аптауна, и все его детство прошло под страхом получить удар бейсбольной битой по темени или словечком «кайк» (жид) в ухо. Эти неприятности привели его в конце концов в боксерский тренировочный зал, и через некоторое время улица уже почтительно называла его «мистер Панч», то есть «тяжелый удар». Он даже победил в отборочных соревнованиях и был включен в команду «Золотые перчатки», но вскоре после этого бросил бокс. Я просто не могу бить человеческую плоть, тем более контейнеры мысли, эти их башки. И с прежней боксерской настойчивостью он погрузился в бездонные анналы иудаистской мудрости, устремился к древним работам Симона Бар-Йохаи и Иехуды Ха-Нази, к «Мишне» и ее частям «Галаки» и «Агадда», которые освежают вас, мой друг, как хорошее вино, к работам Амморая, к «Вавилонскому Талмуду», к текстам Мазорета, а также и к внеканоническим произведениям, включая «Йад Ха-Хазана» Мозеса Маймонида.
В те постбоксерские годы юноша часто возвращался к одной фундаментальной мысли, которая родилась в нем в результате изучения еврейской истории.
Все столетия до разрушения Второго Храма, за исключением благословенных лет царей Давида и Соломона, были временами резни, жестокой борьбы за власть или сопротивления оккупантам. И только после унизительного развала государства остатки еврейского народа вступили в эпоху смирения и раздумий, интенсивного исследования священных текстов и творчества, во времена Закая и Гамлиеля – когда расцветали философия, поэзия и мистицизм и когда казалась ощутимой близость Машиаха.
Стенли и Самуэль сидели напротив друг друга и улыбались друг другу. Раввин сказал:
– Стенли, я знаю тебя почти тридцать лет, но до сих пор не понимаю, почему твой вид вызывает у меня сильную жажду.
Стенли хохотнул:
– Увы, рабби, я не могу ее сейчас утолить в этих стенах.
Дершковиц вынул очки и вгляделся в лицо Корбаха:
– Старый грешник, ты выглядишь так, будто только что имел очень хорошее свидание! – Стенли шутливо отмахнулся, но раввин настаивал: – Сознайся! Я хорошо тебя изучил за тридцать лет.
Стенли плутовато хмыкнул:
– Двадцать восемь лет, чтобы быть точным. Мы познакомились в яхт-клубе. Ты только что отшвартовал свою «Тверию» и завел со мной разговор о спинакерах. Боже тебя благослови, Учитель, но это произошло в субботу.
– Этого не может быть! – горячо воскликнул раввин. – Люди могут про меня говорить, что им угодно, даже то, что рабби Дершковиц поет «ниггуним» в синагоге, однако я твердо заявляю, что никогда не плавал под парусами в субботу!
Стенли продолжал его поддразнивать:
– Ты был тогда в отпуске, Сэм, а в отпуске легко перепутать дни недели.
Раввин улыбнулся:
– Ты хочешь сказать, что мы оба грешники?
– Это вы сказали, мон мэтр.
Они рассмеялись. Дершковиц сменил тему разговора:
– Так или иначе, я вижу, что ты в порядке, что ты возвращаешься к своей жизни и что ты снова собираешься сбежать. – Разделив эту фразу на три части, он с каждой частью становился все более серьезным.
Стенли был несколько ошарашен: как ты догадался? Раввин скромно развел руками.
– Ты что же, против моего побега?
– Нет, не против. Я просто хотел в связи с этим сказать тебе одну важную вещь. Прошу, выслушай внимательно.
Я знаю, Стенли, что ты постоянно норовишь сбежать. Несмотря на твои колоссальные финансовые успехи, ты не бизнесмен по натуре. Что ж, большинство людей делают чье-то чужое дело, занимаются чьим-то чужим времяпрепровождением и в то же время смутно томятся по какому-то другому делу, по другой жизни, ну и, конечно, по другим женщинам. Все они скованы безволием, и это безволие имеет что-то общее с религиозным тупиком внутри темы свободной воли и предназначения. Стоит ли мне пытаться чего-то достичь, если все уже предназначено?
Иные люди слегка или сильно демонического типа, те, что в литературе называются байронитами, бросают вызов судьбе, но потом и они опускают руки, думая, что и эти вызовы были предопределены. Ты как раз относишься к этому типу, господин президент.
Конечно, я не знаю твоего истинного призвания. Может быть, ты врожденный артист, или авантюрист, или своего рода «мессия». Я употребляю это слово в кавычках и с маленькой буквы, потому что чаще всего мы имеем дело с так называемыми ложными пророками. Почти всегда они являются выдающимися людьми, и мы знаем немало таких в еврейской истории – от великого Бар-Кохбы до не очень великого Давида Алроя. Часто они достигают такой высокой экзальтации, что кажутся сами себе действительными посланниками Божьими. Другие просто охвачены мегаломаническими амбициями. Этот феномен так же стар или так же молод, как и вся человеческая раса. Увы, во многих случаях он стоит дорого современникам этих пророков и мессий, производя опустошение в умах и в населенных землях.
Я знаю, что твои исчезновения, которые у вас в семье идут под порядковыми номерами, это поиски самого себя, какой-то своей онтологической сути, и поэтому заклинаю тебя воздерживаться от идей всемирного счастья для всех, от какой-то гомерической мегаломанической «цдаки». Мир не может быть счастлив. Каким бы процветающим он ни был, это реалия юдоли, обращения в прах. Я знаю, что у тебя есть надежный страж против мегаломании, это твое чувство юмора, хорошо известное всем яхтсменам Восточного побережья, однако мощь и власть часто искажают личность, и я за тебя боюсь. Я люблю тебя, мой друг, и я молюсь, чтобы твой юмор не оставил тебя!
Сумерки сгущались в больничной палате. Ветер за окном внезапно влепил в стекло три лимонно-желтых листа, и они прилипли к мокрой поверхности, образовав странную конфигурацию, нечитаемый знак предназначения.
Стенли положил бревно своей руки на камень Самуэлева плеча:
– Скажи, друг, ты все еще чувствуешь жажду в моем присутствии? Тогда вынимай!
Дершковиц долго себя не заставил упрашивать и достал плоскую флягу. Мегаломания, подумал Стенли. Да я просто пытаюсь убежать от чувства собственного ничтожества. То же самое со мной, думал раввин, и потому я сваливаю из этого текста по крайней мере до последней главы. Примите мою браху и – пока!
3. Четвертое Исчезновение; исчез
Последним в цепи визитеров, конечно, оказался главный слуга «Галифакс фарм» Енох Агасф, который и ранее в этой комнате почти зримо присутствовал и чей промельк, в частности, был замечен сестрой Элизабет. На этот раз он явился вместе с двумя своими правнуками – они, впрочем, могли быть пра-пра-пра-пра-; добавьте столько «пра» и черточек, сколько вашей душе угодно, – и они втроем, не задавая никаких вопросов, начали быстро укладывать корбаховские пожитки в какой-то бездонный мешок, распространявший запах плохо продубленной воловьей кожи и пастушеских костров из иудейских горных становищ. Стенли тем временем облачался в вельветовые штаны, фланелевую рубашку и утепленную куртку. Краем уха он слушал бормотание древнего семита: «И растлилась земля перед Всесильным, и наполнилась земля злодеянием. И увидел Всесильный землю, что вот: растлилась она, ибо извратила всякая плоть путь свой на земле».
– Мы готовы, малый, – наконец сказал он своему любимому хозяину.
Доселе невидимая сестра Элизабет тут выступила из угла и осенила исчезающих крестом. Агасф только передернул плечами. На паркинге в темноте ждал их большой белый лимузин, похожий посреди метельной ночи на дрейфующую льдину.
В феврале восемьдесят седьмого Александр Корбах начал свой первый семестр в университете «Пинкертон». Как водится, новичок получил щедрый набор приглашений на приемы и вечеринки в его честь: «вино-и-сыр» в театральном департаменте, «коричневый пакет» (это когда сам приносишь с собой свои еды) с членами подкомитета по корневой программе, ужин с советом попечителей, «русская карусель», организованная старым плейбоем профессором Стивом Иглоклювовым, ну и так далее, и, наконец, ланч с самим Президентом, долговязым «англо» с водянисто-голубыми глазами, исполненными основной идеи Просвещения – никогда не выпадать из контекста.
Не имея никакого опыта академической жизни, Александр ждал, что во время этих общественных мероприятий будет происходить своего рода проверка его творческих и преподавательских намерений, он даже готовился к выражению своей философии театра. Ничего подобного, однако, не происходило на приятных собраниях. Люди были исключительно дружелюбны, говорили «welcome aboard», смотрели на него как бы в ожидании хорошей шутки, вопросы задавали в основном о его известном из газет парковочном бизнесе, который они, похоже, считали самой юмористической частью его жизни.
– Ради Бога, дарлинг, относись к этому полегче, – говорила Нора. – Эти люди преподают философию, историю, физику, астрономию, археологию, что угодно. На вечеринках они не хотят говорить серьезно, они хотят болтать, хохмить и дурачиться. Кроме того, позволь мне откровенно сказать: никто на кампусе всерьез не относится к должности «режиссер-в-резиденции», никто от тебя не ожидает революции. Некоторым образом они видят в тебе, ну, такого симпатичного лысого артиста-юмориста, которого университет себе может позволить. Так что видишь, медок-сахарок, как все вернулось на круги своя: ты снова шут! Не правда ли, это чудесно?!
Ну что ж, моя любовь, мой сиропчик, ты не очень-то тактична, думал он. Он был, пожалуй, даже слегка задет за живое таким a propos отвержением какой-либо для него значительной роли в университетской жизни. Ну что ж, посмотрим, что в конце концов из этого получится. Если они хотят посмеяться, почему бы им не поискать объект в департаменте археологии?
Тем временем он продолжал устраиваться в новой среде, в Вашингтоне Ди-Си, этом ящичке с сюрпризами, притороченном к горбу штата Вирджиния прямо под пузом штата Мэриленд. В отличие от Эл-Эй это был настоящий город, где люди сталкивались на углах, перекликались через улицы, удерживали свои плащи, хлопающие в завихрениях вашингтонского лабиринта, хватались за шляпы, дабы не дать им улететь, преследовали эти все-таки улетевшие шляпы, преследовали их вплоть до победного конца или до горечи поражения, то есть до полной растерянности на перекрестке, до бесшляпности посреди траффика, плывущего сразу с девяти направлений (особенность площади Дюпон), в перепутанности всех ветров производили ловкие трюки, чтобы увернуться от жирных капель соуса чили, или кетчупа, или сырной подливки, врывались в кафе-уютный-уголок, переводили дыхание, спрашивали (умоляли) чего-нибудь теплого, дружественного, слушали в ужасе последние новости из Панамы, слегка подтанцовывали, чтобы казаться завсегдатаями, съедали кусок торта с выставки кондитерского изобилия, мазали свои лица черничным кремом, вмешивались в дискуссию «про-жизнь, про-выбор», получали пулю в живот, стреляли в ответ мимо цели, преследовали ее (цель, сударыня), целовали ее внутри и снаружи, нахлобучивали ее себе на голову и далее следовали в ней по своему назначению; вот это и есть настоящий город, не то что бесконечные плантации Эл-Эй.
Как-то раз он проснулся с блаженным ощущением городского уюта. Нужно посвятить весь этот свободный день нуждам своего городского жилья. Установке всяких там аппаратов, гаджетс,[155] как их тут называют, будем звать их «гадами», без которых жизнь невозможна: радио-хайфайки, игралки-музыкалки, тивиашки-висиарки, все эти дела в их технокрасоте. В принципе нужно и эту односпаленную превратить в симпатичную берлогу одного такого артистического холостяка, еще не продавшего свою свободу за многомиллионное приданое разных бесчисленных невест. Определившись в этом, он начал развешивать по стенам портреты Норы, не менее дюжины в рамках: улыбается, как дитя, улыбается, кадря, плывет дельфином, копает нашу археологическую планету, злится, сияет при виде кого вы сами догадаетесь, ждет квсд, верхом на Гретчен, она танцует, она в очках, пьяна в дупель, ждет, когда ее трахнут, пытается врать, требует истины. Ну что еще? Напротив камина нужно раскатать ковер, темно-синий тунисский ковер, который Нора купила во время экспедиции на Куок-остров, лохматый и мягкий; вот видишь, как тут все получается, жопа-генерал товарищ Ситный, предрекавший свалку на «бездушном Западе». Здесь вот в дене[156] с окном на Дюпон встанет овальный письменный деск, сделанный по Нориному заказу для мыслящего режиссера. Ну что ж, почему бы не прогуляться в окрестностях, не приобрести пару настольных ламп? Пройтись по городу с зонтиком, играющим роль трости городского джентльмена, готовой в любую минуту превратиться в зонтик городского джентльмена, индиид. Как славно жить в районе Дюпон, где все расположено либо на другой стороне улицы, либо за углом! Ну вот вам ресторан «Чайльд Гарольд», вот книжная лавка Крамера, соединенная с кафе «Послесловие», вот киношка «Янус» – четвероликий, без нажима пошутит АЯ, поскольку там в четырех залах одновременно идут четыре разных шедевра, ну вот, разбросаем еще несколько вывесок, чтобы у читателя составилось впечатление о городском районе, выбранном нами для проживания в те времена: «Рабле», «Зорба», «Заголовок дня», да еще вдобавок «Поднимающаяся Лямбда».
Хорошо жить в настоящем городе, думал он, а еще лучше оказаться за пределами того парковочного бизнеса, когда каждый стук в дверь ты принимаешь за визит Администрации по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию. В этот самый момент его мысли были прерваны сильным стуком в дверь, произведенным львиной головой корбаховской персональной стучалки. Он глянул в пип-дырку[157] и увидел на своем крыльце дюжего мужчину в униформе. Конечно, он мог бы оказаться представителем ААТОО, но больше он был похож на генерала Советской Армии. Неужели за ночь город взяли красные?
– Мистер Корбах, сэр, – сказал генерал с исключительной вежливостью. – Миссис Марджори Корбах извиняется за визит без предупреждения, однако чрезвычайные обстоятельства заставляют ее просить вашей конфиденциальной аудиенции.
Александр Яковлевич открыл дверь и увидел «серебряную тень», стоящую за рядом запаркованных вдоль тротуара машин. Секундой позже из лимузина выпорхнула тоненькая, вечно юная дама с парой больших драматических глаз и скорбным ртом.
АЯ давно уже привык, что ни одна американская встреча, будь то дело или любовь, не обходится без предложения смягчить каким-нибудь напитком предположительно сожженную глотку.
– Что бы вы хотели испить, Марджори? – спросил он. – Чай, кофе, минералку, пиво, скотч?
Ответ был самым неожиданным:
– Спасибо, мистер Корбах, пиво подойдет.
И подошло. Стоило запомнить вид Марджори Корбах с банкой «Бада» среди безобразия незавершенной квартиры.
– Йес, мэм, – он сидел перед ней, скрестив пальцы на одном из колен скрещенных ног, ну, чтобы точнее, на левом. В СССР это была его любимая «репетиционная позиция». Нора любила комментировать эту позу: «Посмотрите на руки мастера, дорогие читатели! Посмотрите на нервное подрагивание пальцев! Оно отражает большую художественную натуру!» Он смотрел на гостью и думал, что ее «мистер Корбах» дает понять, что она не считает его родственником ни с той, ни с другой стороны. Ну что ж, его «мэм» сигнализирует о полном понимании ситуации.
– Алекс!!! – внезапно с тремя восклицательными знаками вскричала одна из лучших девушек поколения пятидеся-тых, и вся невысказанная обида этого поколения, казалось, прозвучала в этом крике. – Стенли пропал! Его должны были выписать из этого ужасного госпиталя, но ночью он исчез! Ушел не замеченный никем! Я вчиню им иск на десять миллиардов! Мой любимый муж испарился! – Восемь фаллосов, то есть восклицательных знаков, милостивые государыни, можете не пересчитывать, прозвучали в этом пространном вопле несчастной женщины. Алекс Корбах пошевелил своими художественными пальцами, как бы пытаясь снизить уровень экзальтации.
– Не беспокойтесь, Марджори! Он не был похищен, не ждите требований выкупа, уверен, что он исчез по собственному разумению.
– Это случилось четвертый раз, – прошептала Марджори. Кровь могла свернуться в жилах от такого шепота. – Четвертый раз за двадцать три года нашего брака. Он все время шутил о своих исчезновениях, но я отношусь к ним очень серьезно. Это опасно, Алекс! Он ненормальный! К нему при-ходят гости из прошлого! С теми рычагами финансовой мощи, что в его власти, он может сотворить что-то ужасное! Он может разрушить наш дом, семью, корпорацию, всю страну! Пожалуйста, Алекс, не обращайте внимания на то, что я немного таращу глаза, это базедка, ничего более. Знайте, что я готова пожертвовать собой ради моей семьи, Алекс Корбах (подчеркиваю, Корбах!), но я не хочу жертвовать моей семьей, всем нашим кланом ради заумных идей, рожденных мужским климаксом!
Да, мы богаты, но богатые тоже люди, они могут плакать, впадать в отчаяние, жертвовать собой ради близких, как я готова пожертвовать собой ради Стенли! Всякий знает, что получается из этих паршивых эгалитарных теорий: нацизм, большевизм, терроризм, вы знаете это лучше, чем я.
Алекс, вы были ближайшим другом моего мужа в течение последних трех лет. Меня даже немного раздражало постоянное упоминание вашего имени. Алекс там, Алекс здесь, Алекс сказал то, Алекс сказал это… да-да, пожалуйста, еще пива, большое спасибо… Теоретически вы даже наш дальний родственник, не правда ли? Знаете, я никогда не возражала против вашего романа с Норой. После ее бурной жизни она наконец-то нашла тихую гавань. Алекс, позвольте мне сказать прямо: только вы можете спасти нашу семью от позора! Я уверена, что Стенли скоро явится к вам выпить и поговорить. Пожалуйста, дайте мне только знать, что он жив! Я даже не осмеливаюсь просить вас о великом одолжении, но, может быть, вы все-таки попробуете отговорить его от этих ридикюльных эскапад?
Она уронила лицо в чудеснейший платок, плечи ее слегка тряслись, в этот момент она была похожа на студенточку колледжа из какого-нибудь классического фильма. Она всего лишь на два года старше меня, подумал АЯ. Чтобы подавить неуместные эмоции, он оторвал глаза от Марджори и стал смотреть на городскую жизнь за окном.
Становилось темнее, и благодаря этому вся картина приобретала более резкий фокус. В толпе у метро ямайский верзила выпустил изо рта длинный язык огня. Несколько прохожих упали перед ним на колени: «Пощади, Заратустра!» Он помахал обеими руками вдаль, как будто говоря: «Поздравляю, Сашка Шут! Ты стал персонажем настоящей „соуп-оперы“!»
VII. Чудо в Атланте
- Однажды бес занес меня
- В аэропорт Атланты.
- Своей огромностью маня,
- Он был сродни Атланту,
- Негоцианту,
- Тому, что шар наш приволок
- В торговую арену
- И там стоит, не сдвинув ног
- И не назначив цену.
- Хорош «челнок»!
- Все было тут с плеча верзил,
- Столицам по ранжиру.
- Подземный поезд развозил
- Толпищи пассажиров,
- Гуляк, транжиров.
- Увидеть перуанских лам,
- Услышать перезвоны
- Тибетских лам, и по делам
- Взлетали авионы.
- Всем им шалом!
- В суме, висящей на плече,
- Тащил свою я утварь,
- Когда вдруг началось чепе:
- Центральный сел компьютер.
- В одно из утр.
- Толпа кричит, как грай ворон.
- Кружится хаос адский.
- У всех ворот водоворот:
- Ни взлета, ни посадки!
- Вали, народ!
- Уже был съеден весь попкорн.
- Запал угас в унынье,
- И на полу среди колонн
- Народ полег, как свиньи.
- Вот вам и свинги!
- Вдобавок к этому, друзья,
- Взыграла stormy weather,[158]
- Из тех, что не осмелюсь я
- Зарифмовать с together.[159]
- Прощайте, грезы!
- Как космы черной бороды,
- Качалась вся округа.
- С огромной массою воды
- Тайфун явился «Хьюго».
- Порвал бразды.
- Казалось, треснет свод опор,
- И хлынет стынь из трещин,
- И рухнет весь аэропорт,
- Как Атлантида-стейшн.
- Завалит грешных.
- Я в Айриш-пабе присягал
- На верность белу свету,
- Когда бармен вдруг дал сигнал
- И крикнул: «Пива нету!»
- Без этикету.
- Иссякло пиво! Кто бы мог
- Сухим представить днище?!
- Растряс земли, кислотный смог —
- Все было бы попроще.
- Где пива сыщешь?
- Вдруг к стойке бара меж кирюх
- Прошла младая дама,
- Мудра, как сонмище старух,
- Свежа, как дочь Адама.
- И шелест брюк!
- Весь свет затих, узрев красу,
- Забыв о молний сваре.
- Светясь, спустился парашют
- С гондолы Портинари.
- Взяла «Кампари».
- Протрепетала сотня лип,
- Процокали подковы,
- И вдруг запел какой-то тип,
- Жонглер из графств Московии,
- Хрипат и сипл.
- «Пропитых связок аппарат
- Не годен для кансоны,
- И все же, братья, воспарю
- С кансоною для донны,
- Столь окрыленный
- Ее божественной красой
- И благородством жестов!
- Так грезит старый кирасир
- О молодой невесте:
- Он не из жести!
- Мы не встречали этих глаз,
- Пожалуй, семь столетий,
- А тот, кто к сальностям горазд,
- Наказан будет плетью.
- Таков мой сказ.
- О ты, чистейшая из жен,
- Прими мою музЫку!
- Ведь я Амуром поражен,
- Хоть и ору тут зыком,
- Под звездным знаком.
- Стожары греют небосвод,
- Вселяют жар в мужчину.
- Не там ли мир святых свобод,
- Не там ли все причины,
- О чем кричим мы?
- Ты видишь, наша жизнь пошла,
- Потерян смысл отличий.
- Скажи, откуда ты сошла,
- Святая Беатриче,
- В наш бренный шлак?»
- Он оглянулся. Все вокруг
- Молились без опаски,
- Майамский загорелый друг
- И мужичок с Аляски,
- Адепты ласки.
- Один почтенный джентльмен,
- Чикагский венеролог,
- Держа на вилочке пельмень,
- Вдруг разразился соло
- Вслед за жонглером.
- Он пел о шалостях любви,
- Венериных проказах,
- О том, как мало соловьи
- Пекутся о стрекозах
- И о занозах.
- Святая Дама, он молил,
- Пошли нам жар без мошек,
- Сироп священный без смолы,
- Сады без мандавошек,
- И черствых плюшек.
- Весь клуб мужчин запел вослед:
- Строитель, жулик, лектор,
- Мулов погонщик и ослов,
- И хомисайд[160] -инспектор.
- Так много слов!
- Святая Дама, укажи
- Обратный путь в за-древность,
- Где не пускала в ход ножи
- Любви убийца, ревность,
- Сестрица лжи.
- Засим настал разлуки миг.
- Вертеп ирландский дрогнул.
- Тревожно изогнулся мим,
- Поэт скривился, вогнут,
- Тоской томим.
- Парижский вскрикнул брадобрей,
- Заплакал жрец науки.
- Тут был объявлен первый рейс:
- «Юнайтед», на Кентукки.
- Будь к нам добрей!
- Так ничего и не сказав,
- Она сошла со стула,
- Бела, как горная коза,
- Легка и не сутула.
- Как ветром сдуло.
- И всякий, кто в быту суров,
- И те, кто к сласти падки,
- Смотрели, как сквозь блеск шаров
- Она идет к посадке.
- Бесшумный взрыв
- В ее «Кампари» просиял.
- Бесшумны были вопли.
- Фонтан взлетал и угасал.
- На всех пришлось по капле.
- И сны усопли.
Часть VIII
1. «Пинкертон»
Прошло десять месяцев после завершения седьмой части, и наступила, говоря языком академических семестров, Осень-87. Декорации существенно изменились. Большой территорией со своей внушительной застройкой в роман вступил кампус университета «Пинкертон». Псевдоготические башни здесь перекликаются с постмодерном, придавая пространству некоторую загадочность. В связи с новыми веяниями столетний монумент основателю школы, который был, кажется, каким-то колониальным предком знаменитого английского сыщика, со всеми своими причиндалами в виде треугольной шляпы, парика, доброго голубиного зоба, трости, которой ему столько раз хотелось протянуть вдоль спины своих студентов, нерадивых увальней Вирджинии, а также в виде чулок и башмаков с пряжками, оказался на основательно покатой площади, образовав центр некоей «концепции сдвига».
Ну что еще нового? Прибавилось, конечно, огромное количество персонажей в лице двадцати пяти тысяч студентов «Пинкертона». Вот они тащатся от своих пространных, как пастбища, паркингов к учебным корпусам – кто в лохмотьях под стать Председателю Земли Велимиру, а кто по правилам клуба: блейзер, галстучек, шорты, румяные колена, похожие на подбородки гвардейцев. Одного спросишь, куда пойдет после учебы, ответит: в ЦРУ. Другой скажет: в мировую революцию. Немало в этих бредущих толпах и персидского народа. Вот интересно, клеймят Америку «Большим Сатаной», а детей посылают к Сатане на учебу. Наши ребята спрашивают этих приезжих: «Правда, что у вас там нельзя выпить, гайз?» Те отвечают: «Днем нельзя, а ночью можно, если двери хорошо закрываются». И долго там у вас так будет с этой факинг революцией? Персы смеются. Если мулла сядет на осла, он уже с него не слезет, пока осел не сдохнет. Похоже на нашу советскую родину, думает, шагая вместе со студентами «режиссер-в-резиденции», только там вопрос иначе стоит: кто раньше сдохнет, осел или мулла?
Дорожки вьются среди обкатанных под машинку зеленых холмов. Путь неблизок, наслушаешься всякого, даже персидских анекдотов. По мере движения дорожки сливаются, народу становится все больше, но основная толпа стоит возле здания Студсоюза. Страна борется с никотином, а тут все дымят. Хей, мэн, как дела, я тебя вчера ебеныть видел! А я тебя вчера ебеныть не видел. Давно тебя ебеныть не видел, мэн! А я тебя целый ебеныть век не видел! Как ты там факинг дуинг? Я дуинг факинг грейт! Какого же фака ты не прихилял к Трейси? Я факинг вчера был у Сусси, фак-твою-расфак! Ну-с, господа русские читатели этого романа, если вы думаете, что наиболее употребляемое слово этих диалогов имеет отношение к слову «факультет», мы спешим вас разуверить: только отчасти, судари мои.
И вот после таких стояний через четыре года появляются великолепные специалисты и по «относительности» и по «безусловности», с беспочвенной ядовитостью думал Александр Яковлевич, проходя через эту толпу, хотя прекрасно понимал, что далеко не все студенты тут стоят, и те, что тут стоят не всегда тут стоят, и толпа сама по себе не всегда тут стоит. Оснований для сарказма у АЯ после первого года университетской работы было не так уж много, все шло здесь у него совсем недурно, но такова уж извечная российская диссидентщина: восторгов от нее не дождешься, а вот «поросячьего ненастья» навалом.
Он вступил в огромный кафетерий, где половина людни, рассеявшись по залу, ела, а другая половина с подносами еды стояла к кассирам-корейцам. Эту столовку он часто предпочитал профессорскому клубу, где постоянно надо думать, что бы еще сказать умное. Быстро проходишь к салат-бару, наваливаешь на бумажную тарелку здоровой пищи: свекла, морковь, брокколи, бобы, что-то еще, не знаю, как имя-отчество. Потом – к чанам с горячими супами, шмяк в пластмассовую миску половник «чили», порядок! Ну, подцепи еще с полки для куражу пакетик поджаренных лук-колец, взъяри себе большой стакан диет-коки, и ты в комплекте. Теперь начинается стояние в кассу. Дрочишь себя гнусными этническими обобщениями: эти корейцы такие копухи! На самом деле никто в мире так быстро не подсчитает цену набранной еды, как корейцы-кассиры из «Пинкертона», никто в мире!
В глубине зала играет рок-группа, чтобы никому не дать спокойно покушать. Длинный и сутулый, в каких-то вроде бы кальсонах третьего срока, с власами, как у «шильонского узника», – лид-вокалист тянет могучую в своей заунывности оралию: йеее-биии-цццц-каяяя-сссииилллааа! Барабанщик, почему-то аккуратный, с галстуком-бабочкой, вколачивает в каждый слог по гвоздю. Аккуратность на нем кончается: две зажеванных ти-майки, в каких народ тут и спит и в классы ходит, извлекают из промежностей электронные рулады вполне на уровне ансамбля Элтона Джона. Неужто по-русски тут парни завыли? Да нет, поют обычное: Don’t be silly,[161] – это только АЯ, чуткому на все русское, родная похабщина слышится. Зал тем временем жует, шебуршит в толстенных справочниках, никто ни на кого не обращает внимания, будь ты хоть семи пядей во лбу, как наш Александр Яковлевич. Впрочем, пяток девиц и тут обмирает перед лабухами, даже и эти свинопасы не обделены поклонницами. АЯ бормочет своим поедаемым овощам: «Таков наш мир: любая бездарь, любой зачуханный баран изображает высь и бездну, стуча в жестяный барабан».
Вдруг доносится через весь зал: «Саша, Саша, у нас имердженси!» Ну, то есть чепе. Меж столов катится, как колобок, главная корбаховская энтузиастка, ассистентка из «Черного Куба» Люша Божоле, родственница заморских вин. В чем дело, Люция? Опять, наверное, Гарри Понс и Робби Роук под газом? Не пришли на примерку костюмов! Повесить мерзавцев!
«Черный Куб» издали напоминает поставленный на один из своих углов Священный камень Кааба. Вблизи, а особенно внутри, это сходство пропадает. Попадаешь в лабиринт каких-то лестниц и галереек, сфер и кубиков, который вдруг выводит в зрительный зал со сценой, которую можно таскать вверх-вниз, влево-вправо, в общем, хоть за уши подвешивай.
Появление в театральном департаменте «режиссера-в-резиденции», русского смельчака с такой сугубо американской фамилией, было встречено очень благосклонно, если не с восторгом. Никто, конечно, ранее не слышал ничего ни о нем, ни о его московских «Шутах», но все прочли изготовленную Норой сиви с вырезками из газет и теперь делали вид, что полностью в курсе дела. Это замечательно, Саша, что именно у нас, именно в «Пинкертоне» вы сможете продолжить свои московские поиски! С чего бы вы хотели начать, старина? Глава департамента, считавшийся классицистом Найджел Таббак, большой румяный, в обрамлении седых бакенбардов, облаченный в толстый кардиган ручной вязки, светился мягкой акварельной палитрой.
Александр осторожно начал примериваться издалека. Дескать, был когда-то такой город Флоренция. Не совсем та Флоренция, которую сейчас корками пиццы забрасывает миллион туристов. В той Флоренции, если после заката проходили по улице, стуча сапогами, трое мужчин, начинались разговоры о бунте гвельфов или гибеллинов. Там семьсот лет назад, озаренный ранним куртуазным трубадурством, зародился «новый сладостный стиль». Два поэта, два Гвидо без конца говорили о любви, имея в виду не совсем то, что нынешние туристские массы. Они говорили также о музыке золотого греко-римского века. Какой она была, пела ли о любви, могла ли найти нужный лад? Однажды к ним робко подошел юноша из семьи «белых» гвельфов Алигьери. В руинах дворца Марка Аврелия он нашел флейту, которой тысяча лет. Ну, вот такое начало. Что скажете, коллеги?
– Я не очень люблю эту эпоху, – признался профессор Таббак и как-то слегка загустел, то есть замаслился в своих тонах. – Этот ранний Ренессанс попахивает декадансом. Как называется пьеса, Саша?
Александр признался, что пьесы еще нет, но он может написать ее за месяц. Коллеги помоложе, почти умирая от чувства такта, стали увещевать новичка. Дантовская тема – это всегда слишком сурово, все-таки слишком серьезно. Мы все-таки тут имеем дело со студентами, им бы поколбаситься как следует. Вам, Саша, все-таки еще нужно создать свою труппу, вы согласны? Они, конечно, ему не сказали, что для Данте надо было все-таки итальянца какого-нибудь пригласить, а не русского. Корбах тут же схамелеонил. Коллеги, пожалуй, правы. Для студентов надо найти что-нибудь другое. Ну вот, скажем, Петербург начала девятнадцатого века, «Записки сумасшедшего», это повеселее, попроще. Всунем туда и «Нос», а заодно и музыку Шостаковича. Всунем также гоголевских ведьм и чертенят. Разыграем компанией в десять человек.
– Восхитительно! – вскричал завкафедрой, и Саша увидел, как выглядят его цвета в гамме восторга.
Всем департаментом стали с энтузиазмом работать корбаховский спектакль. Студенты валили на прослушивания. АЯ строчил свою «Гоголиану», то есть то, что в Москве партийная критика без лишних слов заклеймила бы как «глумление над нашим классическим наследием». Каждую дюжину листков тут же ксерокопировали для студентов, репетировали и обсуждали. Студенты носились по лестницам «Черного Куба». Таббак с отеческой улыбкой присутствовал на этих буйствах. «Саша, твой Достоевский мне спать не дает», – говорил он. «Гоголь, Найджел, Гоголь!» – в десятый раз уточнял АЯ. «Для меня это все Достоевский!» – упорствовал классицист.
Студенты, разумеется, влюбились в безудержный русский гений. Отпечатали полсотни штук лиловых маек: на груди – портрет Саши, снятый в момент режиссерского экстаза, со всеми его преувеличенными деталями в виде растянутого рта, выпученных глаз и торчащих инопланетных ушей, а на спине – надпись «Шуты Потомака». Забыв обо всем на свете, он репетировал, как в лучшие годы на Пресне. Слов иногда не хватало, тогда мычал и показывал конечностями. Получалось еще понятней, чем в словах. Иной раз даже забывал, что работает в Америке. В дерзостные моменты оглядывался: не пробрались ли в темный зал стукачи Главреперткома.
«Что с тобой происходит, Сашка? – смеялась Нора. – Ты помолодел на десять лет. Только твоя лысина меня еще спасает».
Она, конечно, преувеличивала, но он и в самом деле бурлил, хоть и перестал с прежним неистовством самовыражаться в постели. Вот чего ему не хватало все эти годы, бедному мальчику, думала она, целуя его башку во время их по-прежнему долгих и сладких, но, увы, как бы каких-то вообще-то регулярных, что ли, откровений. Мне повезло, что у него во время нашей встречи не было театра, даже такого завалящего, как этот «Черный Куб». Он полностью сублимировался на мне и дал мне такую любовь, какой я не знала. Теперь эти гомерические восторги будет вытеснять театр. Мама была права, он один из них, из лицедеев.
Что ж, продолжала она, вскоре ему придется познакомиться и с моим лицедейством, и уезжала в Хьюстон. По дороге не прекращала сводить свой баланс с Александром. Мы самые близкие люди, а так много и так долго скрывали, да и сейчас скрываем, друг от друга. Он почти ничего не говорит мне о своих сыновьях, очень мало рассказывает о своей прошлой семейной жизни, не говоря уже о бабах в Москве. Так долго молчал о проклятом вествудском паркинге, об отеле «Кадиллак», да и сейчас, кажется, о чем-то умалчивает из этого периода. Да и я хороша: вот и сейчас темню с Хьюстоном. Что это ты повадилась в Хьюстон, хитрая Нора, однажды спросил он и, как бы не дожидаясь ответа, как бы не придавая значения моему ответу, заворошился со своими гоголевскими бумагами. Ну что ж, если тебе не особенно интересно, нечего и рассказывать. Да так, отвечает Нора, как и спрашивали, мимоходом, там просто разрабатывается один археологический проект, и вроде бы не врет, а на самом деле сильно врет и уезжает в Хьюстон.
2. Иные сферы
В Хьюстон Нору сосватал кузен Мортимер Корбах, полковник ВВС и астронавт США. Еще на том достопамятном «Воссоединении Корбахов» в мэрилендском поместье Нора, оторвавшись на десять минут от мыслей о загадочном русском фавне, заговорила с Мортом об археологических исследованиях из космоса. Хорошо бы прицелиться с орбиты на районы древних цивилизаций, скажем, на Полумесяц Плодородия от Евфрата до Нила, или на округ Куско в перуанских Андах. Почему бы однажды не включить в команду «Шаттла» какого-нибудь археолога, скажем, Нору Мансур, PhD? Морт тогда прищурился на нее и сказал, что не видит в этом предложении ничего сумасшедшего, хоть оно и сделано сумасшедше красивой женщиной. Ну в общем, комплимент вполне в стиле наших ВВС.
Поговорили и забыли, тем более что той совиной и летучемышиной ночью она думала не столько о космосе, сколько о лугах, по которым нужно скакать к фавну и брать его живьем. Прошло не менее полугода, когда вдруг позвонил Морт и сказал, что в Хьюстоне заинтересовались ее проектом. Проектом? Вы сказали, Морт, моим проектом? Если вы такая отчаянная женщина, хмыкнул полковник, вам надо завтра поехать в управление НАСА на Индепенденс-авеню вот к такому-то и согласовать там свой «пропозал».[162]
Почему-то все ее мысли вновь закрутились не вокруг Земли, а вокруг Сашки. Теперь подумает, что я свихнувшаяся феминистка. Будто я что-то хочу ему доказать. Забыть этот вздор? Или все-таки написать «пропозал»? Ну что ж, почему не написать, почему не проверить живучесть нашей бюрократии? А Сашке ничего не говорить, какое ему дело до моей науки, он весь в своих комплексах.
Бюрократия оказалась довольно живучей, что подтверждалось ее долгим мертвым молчанием. Вдруг за год до описываемых в этой части событий какие-то барьеры были подняты, дело – чудо из чудес! – сдвинулось! Вот как получается, судари мои, еще десять страниц назад мы и не думали отправлять нашу Нору в космос, а между тем в правительственных, военно-космических, разведывательных, финансовых и научных сферах ее кандидатура была взята под серьезный прицел. Различные комитеты стали приглашать ее на заседания, где среди прочего обсуждалась и ее идея. На слушаниях конгресса по науке одно ее высказывание вызвало особый интерес. «Археология, джентльмены, – сказала она, – имеет больше отношение к космосу, чем к текущей биологии». Все семеро джентльменов, сидящих на возвышенной панели, переглянулись, то есть трое слева и трое справа посмотрели на сидящего в середине. Наше общество поднимает ушки, когда слышит «уан-лайнер», то есть афоризм в одну строку. Вялость общего мышления требует периодического подхлестывания. Председатель комиссии снял очки. Все замерли: как истолковать это движение? Председатель сказал: «От имени этой текущей биологии позвольте мне поблагодарить вас за вашу искренность, миссис Мансур!» В Америке нередко взрыв хорошего хохота решает все дело. Похоже, и в тот раз так случилось.
Нора понимала, что к ней присматриваются, и не исключала, что студенческое прошлое всплывает где-то как аргумент против ее кандидатуры. Она представляла также и аргументы в свою пользу: ну, господа, дочка Риты О’Нийл и Стенли Корбаха в семнадцать лет просто должна была поиграть в революцию. Главное, мы сейчас имеем дело с серьезным ученым, автором нашумевшей книги «Гигиена древних». Персона к тому же является и хорошеньким лицом женского пола, и оно (тут происходит путаница с родами русского языка, чего, конечно, не произойдет в английском) продемонстрирует прогресс еще недавно закабаленного сегмента.
Собирается в конце концов президиум Археологического общества США. Люди не последние в области проникновения из мира сущего в сферы неподвижно лежащего. В большом проценте случаев неожиданные эксперименты приносят неожиданные результаты, господа. Многие археологические находки были сделаны при помощи авиации. Снимки со спутников сейчас широко используются в геологии. Иные темы популярных таблоидов могут приобрести научный аспект. Орбитальное наблюдение пирамид, например. Доктор Мансур предлагает собственную методику исследования зоны города Ур. Есть еще один важный фактор в пользу экспедиции Мансур. Появление в ее лице первого космического археолога США привлечет колоссальное внимание к проблемам нашей науки, а стало быть, к увеличению финансирования наших экспедиций и публикаций. Ну, словом, в добрый час, доктор Мансур!
Тут мы добавим кое-какую наблюденцию по поводу нравов. Американцы к башлям всегда подходят впрямую, с откровенно открытым ртом, в отличие от русских, что топчутся вокруг да около, делая вид, что их презренный металл не особенно и интересует, есть, дескать, сферы более высокие. Как это истолковать, не знаю, полагаюсь на вас, сударыня.
Отправляясь на первое медицинское освидетельствование в Хьюстон, она ничего не сказала Алексу. Только уже после возвращения, со смехом: «Знаешь, я тут на днях проходила свои „физикалс“, так врач мне сказал: „У вас превосходное здоровье, прямо хоть на «Спейс-Шаттл“.
Как раз в этот момент Александр Яковлевич приспосабливал ее в одну из любимых позиций и пыхтел в своем лучшем стиле. «Никогда в этом не сомневался, дарлинг, – ответил наглый трахальщик, – каждая встреча с тобой похожа на запуск ракеты».
Вновь и вновь она отправлялась в Хьюстон: то на ознакомление с аппаратурой, то на недельные тренировки, но он, похоже, даже не ревновал. Иной раз задавал вполне формальные вопросики: «Ну, как там у тебя продвигается в Хьюстоне?» – без всяких сомнений принимая ее отговорки. Он весь уже был в своем спектакле, в этом гадском «Черном Кубе», где сучки из «Пинкертона» наверняка заигрывают с ним, а то и садятся к нему на колени. В конце концов Нора твердо решила: ничего ему не скажу до конца, пусть узнает из телевизора!
Подражая Владимиру Набокову с его «Толстоевским» и учитывая литературную ориентацию своего завкафедрой, Александр придумал себе автора пьесы: «Лейтенант Гоглоевский». Афиша спектакля выглядела несколько курьезным образом, призванным заинтриговать просвещенную публику Северной Вирджинии, Южного Мэриленда, Джорджтауна, Даунтауна и Правительственного Треугольника.
«Черный Куб» представляет.
Пьеса Лейтенанта Гоглоевского «Мистер Нос и другие сторонники здравого смысла».
Поставлена Александром Корбахом под эгидой Театрального департамента университета «Пинкертон».
Спонсоры: «Универмаги Александер Корбах инк.», «Доктор Даппертутто, Куклы для взрослых, компани».
Людей без чувства юмора просят не беспокоиться.
Последняя строчка вызвала возражение профессора Таббака.
«Это грубость, – сказал он решительно. – Те, кому это адресовано, обидятся и не придут». Артисты наивно удивились: «Но кто может подумать, что это ему адресовано?» После некоторого размышления профессор согласился: «Хорошо, поскольку мне это не адресовано, я не возражаю».
За неделю до спектакля АЯ стал себя накручивать. Будет провал! Ребята не профессиональны, перепугаются, перепутают всю мою «биомеханику», звукосистема, конечно, сломается, свет мы и так не довели до ума, задуманный и отрепетированный полубалет превратится в бессмысленную толкотню пригородных остолопов, тут и декорации обрушатся.
АЯ недооценил современной молодежи. Спектакль прошел одним духом, без единой сбивки темпо-ритма, почти без накладок. Ребята не выказывали ни малейшего стеснения, как будто каждый вечер играют перед полным залом вирджинского бомонда. Иной раз даже казалось, что они как бы слегка объелись такой аудиторией. Может, «сахарку» нанюхались? Будучи человеком не совсем наивным в этой области, АЯ знал, что после хорошего в нос засоса любой ресторанный фиддлер может сыграть на уровне Паганини, однако через час расползется местечковой квашнею. Вот как раз через час, в «Носу», и начнется маразм. Со второго акта я просто смотаюсь.
«Все оки-доки, босс, в чем дело?» – успокаивали его ребята в перерыве. «Саша, почему такой бледный, прическа не в порядке?» – нагловато шутили исполнительницы женских ролей Беверли, Кимберли и Рокси Мюран.
Наш Александр Яковлевич упустил, что эти дети выросли под постоянным глазом родительского Home Video и не боятся линз. Появилось целое поколение артистов, что перед зрителями ведут себя вполне естественно, не хуже Дастина Хофмана или Джулии Робертс, а то и лучше, L&G, а то и лучше.
Во втором акте труппа не только не расквасилась, а напротив, стала заваривать то, о чем он только мечтал на репетициях, некое подобие ритмо-додекафонного, булькающего, словно луизианский суп, полубалета с мгновенными барельефами – остановись, мгновение! – и в двух-трех местах так уместно сымпровизировала эти стопы, что АЯ даже сделал победный жест кулаком в воздухе. Студенты лабали в свое удовольствие. Гарри Понс крутил круги на велосипеде Акакия Акакиевича, его Шинель в углу сцены пела арию Каварадосси, Панночка мгновенно превращалась в ведьму и обратно, ну а Нос, Робби Роук, с трибуны кандидата в губернаторы требовал демократических реформ. Со сцены несло настоящей гоглоевщиной. Все получалось в ту ночь, и даже финальная, почти невозможная сцена с ее моментом «неизлечимой печали», когда все персонажи начинают угасать, словно Майя Плисецкая в «Умирающем лебеде», получилась так, что миссис Президент Миллхауз встала со слезами на глазах.
Здесь не принято хлопать в унисон и без конца выходить на поклоны. Тем более в университетском театре, где спектакль все-таки часть учебного процесса. И все-таки знакомый хмель успеха уже гудел в его жилах. Боже, значит, я еще не сдох, да? За кулисами вся братва лежала на полу, слабо передавая друг другу банки пива. Саша, мы это сделали! Я горжусь вами, ребята! Потом начался прием и длился два часа, что тоже было мерилом успеха. Инкредибл, говорили ему, джаст фантастик! Щедротами Арта Даппертата всех обносили недурственным шампанским. Большие креветки жарились на гриле, торчали букеты крабьих лап, предлагались миньоны. Там, где Корбахи, там успех, там победа! В толпе встречался задумчиво-непонимающий взгляд Марджори. Муж уже десять месяцев как в бегах. Откровенно неискренняя любезность Нормана Бламсдейла. Что касается главного попечителя Арта Даппертата, то он вел себя как дорвавшийся до халявы московский актер. Набухался в дупель. Вполпальца затыкал бутыль «Мумма», пускал в потолок струю. Кричал Саше: «You won, starik!»[163] Привез, видите ли, из Москвы словечко.
Подходили журналисты: аккуратист из «Поста», неряха из «Вашингтон таймс», девушка из «Виллидж войс». Оказывается, в спецкомандировке на Корбаха. Нью-Йорк хочет знать, кто таков. Александр блуждал в толпе, будто сам какой-то дряни нанюхался. Вплотную не замечал тех, кого по правилам «Пинкертона» надо было заметить, в частности финансовых воротил из вирджинского «Хай-Тек Коридора». Вместо этого слишком долго, о чем не поймешь, говорил с вечными соперниками из соседнего огромного университета «Мейсон». Вдруг его пронзило беспокойство. Здесь кого-то не хватает! Только уже нервно озирая зал и даже как бы подпрыгивая, он сообразил, что высматривает катастрофически отсутствующую Нору Мансур. Она обалдела, подумал он. Не пришла на премьеру! Она хочет меня бросить. Я ей уже надоел. У нее любовник в Хьюстоне. Вот вам и финал торжества.
Прощай, «новый сладостный стиль»! И он тут же ушел из «Черного Куба» в слякотный простор.
Шагая по слякотному простору, он проклинал злосчастную судьбу и собственный идиотизм. Упустил такую женщину, посланницу безмятежных небес и бурнокипящих земных низин! Ради какого-то школьного театра бросил свою любовь на произвол техасских секс-маньяков. Прощай теперь уже навсегда, моя молодость по имени Нора! «Прощай, молодость» – так назывались гнусные советские фетровые боты. Теперь вся жизнь моя станет таким «говноступом» со слежавшейся внутри гнилью, которую даже вилкой не выковыряешь, даже вилкой, вот именно, даже вилкой.
Поперек аллеи ветер мел мокрые листья. Сзади медленно наплывали два хрустальных глаза. Он отступил в сторону. Подъезжал какой-то «Est-Que-Vous-Avez-Un-Grey-Poupon». Стекло поехало вниз. Из «роллса» смотрело лицо серьезной куклы. Марджи Корбах – ездит одна по ночам. «Я почему-то не видела Норы сегодня», – сказала она. «А хуй ее знает, где она. Уеблась, наверное, в свой Хьюстон», – ответил он по-русски. Мачеха любви кивнула, как будто поняла что-то еще, кроме Хьюстона. «Что же вы идете пешком, – сказала она, – садитесь ко мне в машину». – «Да на хуй мне нужна ваша машина, вот мой „сааб“ стоит под тем разпиздяйским фонарем».
С серьезностью необыкновенной она снова кивнула, как будто поняла что-то еще, кроме слова «сааб». «Роллс» поддал, и вскоре в слякотном мраке исчезли два маленьких его задних рубина.
3. Спустись оттуда!
На следующее утро в своей подлой «обезноренной» норе, если можно так сказать, играя с похмелья русскими префиксами, суффиксами и ударениями, в квартиренке посреди гейского квартала, он узнал о случившемся. Позвонил не кто иной, как Омар Мансур.
– Эй, слушай, принимаешь поздравления? – спросил он почти по-грузински.
– А ты что, там был? – Даже в такое гиньольное утро трудно было себе представить этого молодца на спектакле в «Черном Кубе».
– Зачем обязательно там быть?! – едва ли не вскричал Омар. – По телевизору утром видел. Включи телевизор и сам увидишь в любой программе новостей.
– Что-то невероятное, – пробормотал Саша.
– Вот именно! Невероятное! – Омар уже кричал. – Мое имя в космосе! Разносится по всему миру!
Саша Корбах с трубкой под ухом обеими руками амортизировал в воздухе, как бы отодвигая наваливающийся абсурд. Конечно, бывает, за ночь весь город может поехать, но все-таки о чем ты говоришь?
– Ну, как же, Саша, событие колоссальной важности, особенно для арабского мира, дружище! Для всех передовых мусульман! Наши ретрограды продолжают издеваться над женщиной, девочкам во многих странах выжигают клитор, а тут женщина в космосе, женщина-археолог фотографирует с орбиты районы древних цивилизаций! И вот вам самый главный удар по ретроградам – у женщины арабское имя! Пусть она американка, но она Нора Мансур, жена небезызвестного в Ливане Омара Мансура! Нет, я был прав, когда не торопился с разводом! Вот вам удар, ретрограды! И я тебя поздравляю, Саша Корбах, как ее друга, как ее фактического мужа, привет тебе, хорошему еврею и хорошему американцу, от мужа и араба, от финикийца и вообще!
Употребив несколько гусеничных движений, Александр приблизил свои подошвы к телевизору и большим пальцем ноги включил. Тут же обозначился «Спешл рипорт», и выявился ведущий, как всегда чуть-чуть как бы отрыгивающий что-то вкусное и, как всегда, в плохо повязанном галстуке. Последнее обстоятельство почему-то всегда раздражало Александра Яковлевича. Даже сейчас, за секунду до появления Норы и с голосом Омара в ухе, он успел подумать привычное: «Тебе, халтурщик, платят такие деньги, а ты даже не научился повязывать галстук».
Тут пошли кадры с мыса Канаверал, и, не веря своим глазам, он увидел Нору в космическом костюме, смеющуюся, с летящей на ветру гривкой, бодро шагающую среди всей команды на посадку в «Атлантис». «Впервые в истории в экспедиции принимает участие археолог, профессор университета „Пинкертон“ Нора Мансур!» – сказал тот, с плохо повязанным галстуком. Встык пошли кадры запуска: огненные струи под ракетной связкой, отход носителей и, наконец, оставшееся огненное пятно, быстро удаляющееся от Земли. Там Нора! Она удаляется от Земли, моя крошка! Он немедленно весь рассопливился. Дрожь стала продирать от макушки вниз, сосредотачиваясь в пятках. В ужасе вспомнил совсем недавнюю трагедию одного из таких «шаттлов», взрыв прямо на глазах у всех, абракадабра распадающегося огня. Там были две девушки, одна из них чем-то напоминала Нору. Боже, помоги! Боже, пронеси! Молитва услышана, тут же встык пошли уже кадры с орбиты: веселые физиономии, проплывающие в невесомости тела, вот и его любимая проплывает, тоненькая, попкой вверх, волосы тихо струящимся флагом следуют за головой, улыбается в камеру, помахивает рукой, как будто персонально мне. Конец спецсообщения.
В ухе продолжал еще восклицать арабский прогрессист:
– Нам нужен прогресс во всем… в космосе, в спальне, в стакане напитка!
– Как ты сказал, в «стакане напитка»? – переспро– сил АЯ.
– Вот именно, Корбах дорогой! Мы должны сегодня выпить с тобой за нашу Нору! Почему нельзя выпить шампанского? Пусть шариат запрещает водку, виски, но не надо запрещать шампанское, чтобы каждый мусульманин мог выпить за свою жену, полетевшую в космос! Правильно, Саша?
Он еще продолжал выкрикивать что-то, на этот раз о величии Америки, воспитавшей таких исключительных женщин, как Нора Мансур, но это уже явно предназначалось для магнитофонов ФБР. Александр повесил трубку. Боже милостивый, Господь всемогущий, ни о чем не хочу больше слышать, ни о чем не могу ни думать, ни говорить, пока она не спустится оттуда. Только бы она спустилась оттуда, как американцы говорят, in one piece![164]
Нора еще не спустилась оттуда – полет был рассчитан на неделю, – когда на пятый день после премьеры Александру пришлось расхлебывать свой собственный, пусть не столь космический, но все-таки успех. Позвонил известный кинорежиссер Штефан Чапский. Он говорил по-русски с характерным польским подхихикиваньем. Когда-то, еще в пятидесятые он окончил ВГИК и даже снимал что-то совместное на «Мосфильме». В конце шестидесятых остался на Западе, но не так, как советские оставались, без «предательства родины», без гэбэшных истерик. В Польше все-таки практиковался несколько смягченный подход к невозвращенцам: ну, остался так остался, нехорошо, но можно пережить.
В голливудском лесу Чапский поначалу погибал, как огромное количество его предшественников, но потом вдруг выскочил на веселую поляну и как-то сразу утвердился среди вереницы новых славянских режиссеров: Полянский, Кожинский, Форман, ну вот и Чапский.
– Хелло, мистер Корбах, дорогой товарищ! («Хелло» звучало как у Лайзы Миннелли в фильме «Кабаре» – «хеллееуу».) Это здесь Чапский, Штефан Чапский, не надо падать в обморок. Есть одна добра пропозыцыя, Саша, знаешь. Ты и я как една генерацыя сделаем муви. Не возражаешь? Файн! Можно взять авион сегодня? Не можно? Тогда можно держать? Две минуты – держи!
Сообразив, что употребляется глагол hold в прямом переводе, Александр держал трубку. Точно через две минуты Чапский, соскочив с какой-то параллельной линии, сказал, что вылетает в Вашингтон. Вот прямо сейчас поворачивает с Сансета на Сан-Диего-фривей. Рейс через час десять, он успеет. Водку купить? Все есть? «Гениально! Шедеврально!» – прокричал он популярнейшее восклицание своих студенческих пятидесятых и был таков.
К концу дня он прилетел, совсем не такой, каким его можно было представить после бойкого телефонного разговора. Тяжеловатый и как будто слегка подслеповатый еврей, или скорее полуеврей, как все вокруг. Впоследствии Александр привык к частым переменам в этом Чапском. Периоды грузности сменялись у него атакующим стилем, когда казалось, что он даже как бы теряет в весе.
Разумеется, они твердо перешли на «ты», еще не допив первой бутылки «Выборовой». Оказалось, что на Корбаха Чапского навел один его друг, который был на премьере «Гоглоевского» в «Черном Кубе». Один такой отличный «хлопак», богач, но совершенно свой, артистический тип. Ну, конечно, Арт Даппертат, кто же еще! Чапский был поражен. Он не знал, что Корбах в Америке. Конечно, он помнит его песни, он следил за историей «Шутов», за всей этой ебаной коммунистической скандалистикой, но потом все затихло: «Шуты» и Саша Корбах исчезли из сообщений корреспондентов. Столько всего происходит, пся крев, одна лавина новостей сменяет другую, только брызги в стороны летят. Послушай, мы достали два тейпа[165] с твоими монологами, один из московского спектакля, а другой в каком-то зале английской готики, похоже, что в Штатах. Знаешь, I’ve been just engrossed, просто обалдел, твой артистизм меня просто нокаутировал, Сашка, но самое главное – я вспомнил твои фильмы прошлых лет, тебя же тогда в русскую первую пятерку включали! Корбах был поражен, узнав, что расторопные ассистенты достали для Чапского и это старье: он был уверен, что ленты давно смыты соответствующими органами.
Чапский был сейчас уже не просто режиссером, но главой зарождающейся киноимперии «Чапски продакшн». С этой позиции он решил, что будет просто идиотизмом не использовать Сашу Корбаха в американском кино. Скажи, олд чап, ты сможешь написать сценарий, поставить фильм, один или со мной, сыграть в нем роль? Конечно, ты можешь! Какой фильм? Об этом поговорим через несколько дней. Сейчас лечу в Париж, там у меня одна экипа[166] снимает, потом обратно в Эл-Эй, через неделю вернусь в Ди-Си. Здесь будет решающий митинг заинтересованных сторон. Да, уже есть такие. Все, дело в сторону. Давай теперь выпьем, как когда-то в общаге у ВДНХ. За то, чтоб они сдохли! И больше чтобы не рождались! – заключил Корбах этот популярный московский тост.
На Коннектикут-авеню, бросаясь за такси, Чапский рассыпал свой портфель. Среди прочего вывалилось немало «троянцев» – презервативчиков с роскошным закатным пляжем на пакетах. Собирали все хозяйство с мокрого асфальта, чертыхаясь по-польски и по-русски. Крев, чья, пся, мать, какая, гребена! Из машин народ смотрел на большого дядьку в тяжелом пальто и стройного псевдоюнца, похожего на здешнего гомосексуалиста. Чтобы привести себя в норму, ввалились в «Тимберленд», где в американском стиле, то есть почти в полном мраке, сидели несколько таких, что были уже в норме. Тут Чапский устал от полузабытой славянщины и перешел на английский.