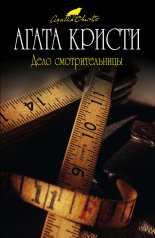Кирза и лира Вишневский Владислав
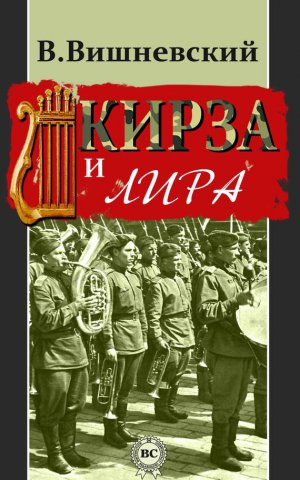
— Мы здесь самодеятельность готовить будем, да?
— Я стихи на школьном смотре читал…
— А я петь могу. На гражданке на смотре художественной самодеятельности пел. Не веришь?
— Отвалите от него. Отстаньте. Пошли, Пашка, покурим, у нас чинарик есть.
— А ты «Гоп со смыком» можешь сбацать?
— А «Буги-вуги?»
— А Танец маленьких лебедят?..
Я не успеваю отвечать, да это и не нужно. Я уже почти оттаял, отогрелся, почти счастлив. Я рад слышать нормальные человеческие интонации, слышать одобрительные слова. Я вижу радостные живые глаза, теплые улыбки. Это мои друзья, это мои товарищи. Им понравилось! Им было приятно слышать звуки баяна, пусть даже он, и я, сейчас были не в форме. От этого искреннего и неподдельного уважения мне уже тепло, мне уже легче. Тоска, обида и горечь о потерянной технике чуть-чуть отошли, отпустили. Да и чёрт с ней, с этой техникой. Пошла она на… Ребятам нравится, и ладно. Были бы кости, как старшина-музыкант сказал.
На шум из канцелярии немедленно выскочил чуткий на беспорядок старшина и громко рявкнул:
— Пач-чему шумим? Ну-к-ка, р-разойдись все, ядрена вошь. Нечем заняться, да? Ща-ас найдем работку. Дежур-рный…
Народ с грохотом сыплется в разные стороны. Старшина ловко вылавливает меня за рукав своей клешней-пассатижами.
— Стой, Пронин! — Улыбается. — Так ты орел у нас, однако, да? — голос старшины урчит неожиданно ласковыми интонациями, как дизель возле легковушки. — Что ж ты, брательник, до этого молчал, что так хорошо играешь, а? А я думал, ты только драться мастак. Слушай, земляк, ты после отбоя не покажешь мне пару каких-нибудь хороших аккордиков, а? Я ведь тоже чуть-чуть это… играю, — смущаясь, откровенничает старшина. — Добро, а?
— Не могу. Я вечером в наряде, — вспоминаю.
— Какой наряд, ты что? — Сердито сверкает глазами старшина. — Кто наказал? От-тменим! — Оглядывается, ища моего обидчика.
20. Принял присягу, от неё, как говорится, ни-ни…
Торжественный день принятия присяги подошел быстро, в суете наших обыденных казарменных катавасий вроде и незаметно. Его приближение ощущалось только в нарастающей общей нервозности. Этому активно способствовали в основном замполиты и младшие командиры. Согласно принятым нами повышенным социалистическим обязательствам (проголосовали мы единогласно, как всегда в спешке и не задумываясь), рота теперь — во что бы то ни стало! — должна была сдать проверку только на «отлично». Это значит, что каждый из нас все экзамены должен сдать только на «пять».
Я не знаю, как рота что-то можем сдать на отлично, если мы всё время голодные и голова кружится. Почти у всех от столовской еды изжога. Все с легкими обморожениями лиц, рук, ног. Мы простужены. Ночью от стонущей в кашле роты можно свихнуться. Солдаты во сне хрипят, глухо бухают, заходясь в кашле, — дневальные пугается, сам знаю — стоял в наряде. Этот наш долбанный Дальний Восток такими свистит сильными и пронизывающими ветрами, что никакой он не восток, а скорее уж настоящий холодняк или холодуй, что, в общем, один… Мы все сильно похудели, того и гляди порывом ветра наш «монолитный» строй раздует-разнесет, к едрени фени, в разные стороны. Командиры, видя эту угрозу, поэтому, наверное, предусмотрительно утяжеляют нас полным боевым снаряжением. Теперь из расположения роты выходим только по полной боевой — кроме, конечно, набега на столовую! — с автоматом и всем прочим снаряжением, чтоб, наверное, ветром не сдуло. Топаем, гремим, бренчим железом, накачиваем ноги, плечи, и шею. На плечах вся амуниция, на шапке постоянно каска. Отрабатываем на плацу хождение строем с оружием: в колонну — по два, по четыре; в шеренгу — по два, по три, по четыре. Учимся ходить…
— Нога пр-рямая… носо-ок тянем.
— Глаза косим! Видим гр-рудь четвертого человека.
— Выше голову-у, тянем подбор-родо-ок. Тянем, тянем… Та-ак, хорошо-о!
— Р-равнение, р-равнение держа-ать… Ёп… Та-ак… Ну, бл…
Гоняют нас очень интенсивно. Ребята предположили, что нас, наверное, готовят к параду на Красной площади в Москве. Ну и хорошо бы, там, говорят, нет ветров, и за нас можно не опасаться, не поднимет, как воздушные шарики над площадью. А может, и подкормят перед этим, а лучше бы прямо сейчас.
На улице, даже в строю, хоть мы и ходим плотно друг к другу, очень сильно продувает.
Размышляя над своей шинелью (это теперь наше зимнее пальто здесь), я понял, почему она без подкладки. Очень просто, чтобы нам было легко ходить парадным шагом — вот почему. Шинель — она ведь длинная, итак путается в коленях, вяжет ноги при ходьбе. Теперь представьте: а если она будет с подкладкой, да еще и теплой? Какая уж у солдата будет лёгкость или там — воздушность, при ходьбе? Да никакой… «мамсик» это будет, по-нашему, а не солдат. Ни мощи тебе, ни убедительности. А в армии главное — мощь и убедительность! И не нужно там копаться: холодная шинель — не холодная, поел солдат — не поел. Ходи себе молча, понимаешь, молодой, сопи в две дырочки — плотно печатая шаг! — грозя автоматом налево и направо — шведам, американцам, немцам, японцам… Всяким империалистам, в общем, всем.
А уж про утепление кирзовых-то сапог я и не говорю, на этих бы ноги натренировать, эти-то, тонюсенькие, еле таскаем. К вечеру, набегаешься — в этих облегченных — как телеграфные провода ноги всю ночь гудят, и стонут… отогреваясь.
Кстати, о сапогах.
У нас сейчас в роте появилась новая игра. Вернее, она только для нас новая, а так она, говорят, старая. Игра передается в армии, как корь в детском саду — от роты к роте, от призыва к призыву. Действительно очень забавная.
То, что голенища кирзовых сапог не у всех плотно облегают ногу, как у меня, например, мы это знаем. У многих ребят ноги сами по себе худые, в сапогах торчат, как карандаши в стакане, свободно болтаются в голенище. Со стороны это выглядит не красиво, и для здоровья — это уж точно! — совсем неполезно. Оно и понятно, как это может быть полезно, если ты, как часто теперь с нами бывает, например, ползёшь по-пластунски, на пузе, и обязательно, как «скрепер», в свои сапоги собираешь всякую ненужную ерунду: воду, грязь, камни, песок… Всё, что совсем и не нужно, ни тебе, ни сапогам. Потом опять же надо будет переворачиваться на спину — демаскировывать себя и товарищей! — задирать ноги в небо рогатулиной, трясти ногами, вытряхивать из сапог то, что, может и захочет само вытряхнуться, а может и нет. Часто ещё потом и портянки сушить надо, а может, и стирать, что уж совсем нежелательно (Горячей-то воды у нас нет, кто помнит). Головная боль, короче. Таких вот «скреперов» у нас в роте оказалось очень много, и они мгновенно стали объектом этой новой шутки, этого нового для нас развлечения.
Короче. На любом из обычных перекуров нужно незаметно бросить горящий окурок в сапог зазевавшегося «скрепера». Лучше в оба раструба сапог сразу. Только обязательно незаметно. Хорошо бы это сделать в конце перекура, перед самым занятием. Лучше, если это будет или политзанятие, или лекция о международном положении, или какая другая скукотень. И всё, через пять-семь минут концерт-развлечение всему взводу обеспечен. Уже представляете? Нет, вы не представляете. Сейчас поясню.
Вы, наверное, уже знаете, что мы, солдаты, через две-три минуты любых лекционных занятий почти отключившись, спокойно сопим в нежном полусне, уже дремлем. В тепле и тишине — поверьте, — не только кошке приятно расслабиться и подремать, но и солдатам. Инициаторы же развлечения (обычно один, два человека), сидят, счастливые, в ожидании будущей реакции бедняги «скрепера» и всего взвода в целом, аж светятся — что-то будет.
…Где-то далеко, в других мирах, монотонно на одной ноте зудит лектор. Зудит, как немецкая «Рама» — привычный, когда-то на фронте, говорят, вражеский самолет-разведчик. Я это много раз в кино видел, слышал… Неприятно зудит, гад. Это точно. Как наш Ягодка сейчас. В классе висит обычная тишина, общий покой, порядок.
Спокойное, умиротворенное сладкое сопение…
Трах, тарарах!..
Как взрыв! Раздается неимоверный грохот переворачиваемого вверх ногами стола. К этому добавляется громкий дробный топот ног бедняги-танцора. Громкое хлопанье руками о голенища сапог, как в пляске вприсядку, и истерическое подвывание, причем с нарастающей силой: ой! — ой! — ай! — ай! Затем, это неизбежно, следует его судорожное, с глазами навыкате, скидывание сапог с одной или с обеих ног сразу… Сидя где-нибудь уже на полу, в проходе, прыгая на заднице, гасит, бедолага, хлопая руками дымящиеся портянки и штаны хэбэ. «Фу-х, фу-х, фу-х!..» — дует, остужая свою болячку.
Ха-ха-ха-ха… Хи-хи…
Думаете это все? Нет, конечно.
Добавьте к этому реакцию задремавших в тепле солдат. Других, тех, которых много! Которые не были в курсе предстоящего концерта, и у которых тоже возникли свои судорожные неконтролируемые реакции со сна на этот неожиданный переполох. Для них это тоже, как выстрел стартового пистолета для бегунов на короткую дистанцию. Их ноги чётко срабатывают на опасные или непонятные команды-звуки… Это надо видеть!.. Как это они, в первые две-три секунды — гляньте, гляньте! — красиво и дружно — ещё не проснувшись! — резво стартанули из-за своих столов и сразу на выход,… Представили?..
И это ещё не все.
Посмотрите теперь на командира. Да, да, на командира, который тоже по-своему дремал, повторяя день за днем, год за годом заученную тему, у него от неожиданной встряски, тоже глаза на лбу, голова втянута в плечи, как от удара — Воздух! — и в немом ужасе открыт рот… И стоит он несколько секунд, простите, враскорячку, уцепившись двумя руками за свой стол, тем самым крепко удерживая свой авторитет, а себя от желания выскочить из класса первым — ему-то до выхода всех ближе.
…А какие у всех лица!.. О-о-о!
Весь спектр эмоций: от сильного испуга (ой, мама, хана!) до страшной ярости (кто посмел, так, бля, пугануть, а?). В такой-то момент, да со сна, это, пожалуй, оправданно и справедливо! Кого и когда радовал простой, скажем, фальстарт? А уж в такой-то момент, в такой-то обстановке — тем более. Да ладно, что тут рассказывать — эту картинку нужно хотя бы один раз увидеть, причем, лучше только со стороны.
Ну, понятно, что «скреперу» больно. Понятно, что там, в сапогах жжёт… Дурацкая шутка — что там говорить. Конечно, дурацкая. Это мы всё знаем. Но ведь, с другой стороны, какой неожиданно мощный эффект, а? Какие эмоции! Какая целительная разрядка в наших серых солдатских буднях! О-о! Это дорогого стоит!
Теперь всю эту картину представили, пережили? Да-да, полный атас! Причём, для всех. Гвалт и неразбериха длятся не больше минуты. Наш скорый самосуд на корню пресекается быстро приходящим в себя командиром. Он, мужественно оторвавшись от стола, ещё правда взъерошенный, но уже вполне по-командирски зло рявкает, пусть и на фальцете, дежурную для нас и себя команду: «Встать, смирно!». На то он и командир, чтобы первым в себя приходить, а потом и солдат воспитывать. Всё правильно.
Авторов переполоха обычно вычисляют мгновенно. Они как на ладони, они у всех на виду. Вот они, голубчики! Реакцию их полного морального удовлетворения, в смысле подлого, с захлёбом, хихиканья, почти до истерики, скрыть просто невозможно — никому ещё не удавалось. Полный экстаз счастья только у них одних. Вот они, создатели, вот они, устроители грандиозного одноактного «трах-тарарама», неожиданного для всех кавардака. Их дергающиеся от сдавленного смеха и истерических конвульсий счастливые рожи никуда сейчас не спрячешь, ни в карман, ни в шапку, ни под стол — никуда! Они перед нами, авторы и режиссеры, жалкая кучка счастливых зрителей. Всем вокруг сейчас очень плохо, а им одним, понимаешь, очень хорошо, а? Как это так, а?.. Не пор-рядок!
…Как сладок миг счастья, и как печально он короток!
Сейчас им выдадут и цветы, и аплодисменты, и все положенные лавры по случаю. Они получат свой чопик, по самые эти… в смысле гланды.
Командир же, приходя в себя от нервной встряски и размышляя над перечнем наказаний, привычно разминает нас известным дежурным упражнением: «Взвод, встать-сесть! Встать-сесть! Встать-сесть!..» Пары, таким образом, спускает.
Успокоившись, командир злорадно объявляет каждому из возмутителей спокойствия обычно по два наряда вне очереди, редко когда по три.
Всё, концерт закончился, казнь состоялась.
Все проснулись от этой встряски и теперь, сидя за столами, до перерыва вяло слушают. Изредка, вспоминая увиденное, восхищенно громко хмыкают. Находя уже ситуацию смешной и забавной. Все с удовольствием размышляют над этим неожиданным развлечением и в душе очень жалеют нарядчиков. Да-да, нарядчиков, не удивляйтесь. Беднягу — «скрепера» не жалко, чего там жалеть — ну болячка и болячка, заживёт.
Правила игры для всех одни: не зевай, не лови ворон. Все же знают, что ни в столовой, ни в строю, ни на перекуре, ни в наряде, ни в туалете, ни во сне — нигде зевать нельзя. Об этом всегда нужно помнить — как на том плакате — «враг не дремлет!» Всегда нужно помнить, что здесь в любую секунду могут такую каверзную шутку отчебучить — мало не покажется. Это нормально. Юмор у нас такой. Как живём, так и шутим.
Вместе с тем, мы очень хорошо понимаем, что это делается не со зла, а чтоб нам же не скучно было. Да и отрицательные эмоции нужно же куда-нибудь девать, правильно? А их за день у нас накапливается столько, что мы, с благодарностью их сжигаем в хохоте от любой эффектной шутки. Пусть и дурацкой. Пусть и за счет пострадавшего. Он ведь тоже потом хохочет над собой, рассказывая, как он гасил окурок, на заднице лягушкой прыгая по полу, на глазах обалдевшей от удивления роты. А вот два наряда вне очереди для ребят, которые для нас, по-сути, старались, это гораздо хуже, это совсем неприятно. Этих ребят нам жалко. Мы знаем, как им в наряде будет не сладко.
Выбор наказаний в армии обычно не очень большой, мы это уже, считай, знаем. Но широк и глубок по степени диапазона его моральных возможностей, в смысле унижения человеческого достоинства.
Об этом можно писать научные труды, диссертации, книги, пособия. Почему, например, когда люди попадают в замкнутое пространство и определенную зависимость, в армии, скажем, отношение к ним и их уровень нивелируется, опускается до уровня одноклеточного? Почему в нашей армии так буйно цветет физическое принуждение и моральное унижение будущей опоры государства, главной опоры армии — её солдат? Почему юноша, молодой солдат, обязательно должен пройти через физическую и моральную ломку? Зачем? Для чего?.. Наверное, это происходит потому, что уровень задач, бытовых проблем и отношений в армии, главным образом, предельно примитивен и примитивно же организован. А примитивизм условий, как известно, порождает примитив взаимоотношений, нивелировку и насилие Я знаю точно, солдату это совершенно не нужно, это не нужно и его родителям… Значит, получается, это нужно государству? Значит, это нужно нашей Родине?! Так ли это? Не может быть! Парадокс какой-то! Нет, получается — так. В голове такое не укладывается… Эх, Родина, Родина!.. Ведь даже коню понятно, что солдат-раб — это очень плохой солдат. Пользы от такого солдата, его родной стране, считай, ноль… Одни хлопоты, расходы, да проблемы. (Эта тема, точно ждёт своего пристрастного исследователя!)
Ур-ра-а!
Рубикон перейден!..
Ур-ра-а! Наша учебная рота проверку сдала на твердую пятёрку. Ур-ра! Ур-ра! Ура! Кто бы мог подумать! Как ротный хотел, так у нас и получилось. Наш ротный вообще молоток! И старшина тоже молоток. У нас в армии все молотки. И мы тоже.
(Естественно, что же еще может родиться от молотка! Возможно, кувалда?!)
Ур-ра, сдали! Судите сами: политподготовку на пять, строевую на пять, боевую на пять, спецподготовку на пять, все остальное тоже на пять! Правда, жутко перетряслись, перенервничали за время этой долбаной проверки, но сдали. Ур-ра! Никакой теперь «Тмутаракани», никакой тундры, никакой тебе ё… матери на той холодной Чукотке. Хотя (стоп!), радоваться рано, кто его тут в этой армии что знает — кого, куда пошлют. Но все равно, пусть и шёпотом, но, ур-ра-а-а!
Одного не могу понять: как я умудрился отстреляться на «отлично»? Я ведь теперь в очках, если помните, как Макаренко, и это для меня проблема. В очках стрелять, целясь одним глазом — правду говорю — совсем не могу. Стекляшка-линза, подлая, преломляет расстояние, искажает предметы. Непонятно потом, куда та пуля полетит? При этом то стекла в очках в нужный момент замерзают, то они грязные, то, простите, сопли мешают — нос совсем отмерзает от металлической очковой оправы. А без очков тот же эффект, ещё и хуже. С этими очками какая-то ерунда получается: без них уже вроде и не могу, а с ними ещё хуже. Как это так?
Но мишени… Ха!.. Мишени падали, и поясная и ростовая, одна за другой. Может, когда и попадал я, может, падали от ветра, может от звука, не знаю, но падали, классно так, на спину. Мы в надежде только на отличный результат бегали к мишеням искать свежие дырки от своих пуль, выискивали точки, не замазанные мелом. Очень ревностно сравнивали свои результаты с другими мишенями:
— Подумаешь, у тебя больше. Это я чуть скосил. Смотри, у тебя срез-то сбоку, с моей стороны. Значит, это я в твою мишень попал, по-онял?
Ругались, ссорились почем зря, чуть не до драки. Откровенно расстраивались, — всем хотелось получить пятерку. Вернее, и главным образом, опять бы не пришлось бежать вслед за машиной. У нас один только здорово стреляет, считай, не глядя — это Гошка Иванов из Омолона, что на Чукотке. Вернее, в Омолоне он проездом был, всего один раз. И то за мукой с отцом, говорит, приезжал, за спиртом, патронами, спичками ещё чем-то. Немножко с отцом и расслабились. Спирт крепким оказался. В том Омолоне военкомовские его и «заарканили». А сам-то он где-то севернее жил, с отцом и родственниками, в стойбище. И что интересно, очень туда, обратно хочет. В документах числится русским, но чётко похож на нивха или чукчу, или… не поймёшь. Маленький такой, крепенький грибочек-колобочек с короткими полукруглыми ножками. Стреляет всегда только на «отлично», только кучно, и только в «яблочко». У нашего Гошки Иванова лицо большое, круглое, а нос маленький и совсем плоский. Щеки огромные и тоже круглые, глаз вообще не видно. Вот я и говорю, образно так — стреляет с закрытыми глазами. Щёлочки то щёлочки, а ты погляди, не только там что-то видит, но и стреляет всегда классно. «Целкин глаз», как про него ребята шутят. Видимо, попасть белке в глаз, это про него. Наш снайпер, ротная гордость Гоха Иванов, хороший парень, не жадный, спокойный, на хохмы в свой адрес не обижается и свои письма из дома вслух не читает — не хвастун, значит. Обычно только слушает и молчит или курлычет себе под нос что-то по-своему, по-нивхо-нанайски, какую-то свою монотонную песню-молитву. Молоток, в общем, я говорю, свой парень. В начале, командиры на его результат между собой даже спорили. Спорили, спорили, а потом перестали. А действительно, чего зря спорить, если он и стоя, и лежа, и с колена, по-всякому, стреляет лучше всех.
— Ну-ка, ну-ка, пошли-ка, Гоша Иванов со мной… Посмотрим, какой ты у нас сегодня стрелок. — В очередной раз заводился комроты или кто-нибудь из «чужих» офицеров. — А если по полному магазину — идёт?
Иванов равнодушно пожимает плечами: по полному, так по полному… Отстрелявшись вместе с ним, каждый раз командиры возвращались от мишеней озадаченные, мол, как это у него так все хорошо получается… странно даже или им опять автомат кривой попался. Конечно, кривой, наверное! У нас, у многих тоже кривые…
«Из всех искусств, важнейшим, для солдата является… женщина, еда, и кино…» — «железная» аксиома.
«…Кто еще хочет комиссарского тела?» — со злостью и презрением спрашивает сейчас красавица Володина, комиссар в фильме «Оптимистическая трагедия», оглядывая толпу голодных до женского тела бродячих матросов-анархистов.
Мы, сидя в клубе и глядя на экран, тоже её все хотим. Тем более такую, как она. У неё очень красивое округлое лицо, аккуратный носик, выразительные глаза, голос с волнующими слух интонациями, красивые руки. Хотя соблазнительные грудь и бедра предусмотрительно закрыты броней кожанки, но мы-то знаем, что там под кожанкой спрятано. Знаем, знаем! От нас не спрячешь! А юбка и голые икры ног, в аккуратных маленьких сапожках, это ярко и выразительно подчеркивают. «Я-а хочу-у э-этого те-ела-а!»… так бы встал и взревел на весь зал, вместе с тем «боровом» из фильма. А что? Мы, например, очень хорошо понимаем тех матросов-анархистов.
Нам, как и им, тоже плохо без женского тела… эээ… общества. Правда, при одной существенной разнице — они, матросы, в любой момент могут вернуться домой, а мы нет.
А комиссар на экране такая вся ладненькая, такая вся зазывно аппетитная. О-о! Ты глянь, глянь… Недаром Тихонов так её обхаживает, как петух перед топотушками — да любой бы из нас, так же бы на его месте крутился, даже больше.
Мы в душном солдатском клубе. Нас много. Зал битком. Заняли все кресла, сидим на полу, в проходах и перед экраном. Впереди солдаты просто лежат на полу, сапогами упираясь в невысокое подобие сцены. Экран висит перед сценой белой большой тряпкой вместо занавеса, просвечивает насквозь — мы смотрим два изображения сразу. Звук исторгают, слегка хрипя, два черных «кинаповских» динамика, висящие сбоку по обеим сторонам от экрана. Этот фильм нам показывают на десерт, перед сном, уже третий раз за учебку.
Перед этим мы принимали присягу и ели в столовой праздничный обед, потом был ужин, и вот теперь, вечером, кино. Хороший был день.
Только двое ребят на присяге упали в обморок, жаль их. То ли от духоты, то ли от переживаний — переволновались, наверное. Пока какой-то там по счету солдат зачитывал присягу, эти ребята тихо так, в тишине, качнувшись, — брык на пол. Громко клацнувшись коленями и автоматом об пол. Сначала один, потом почти сразу — второй. Произошло два легких переполоха. Их, бледных, под руки куда-то быстренько утащили. Мы как стояли по стойке смирно, так и стоим, только глаза от удивления и любопытства выкатили в ту сторону: что это с пацанами? Заснули? Или что?..
Стоим уже несколько часов. Мы в парадках и с автоматами. Перед строем стол с красной скатертью, на нём папки, ручки; рядом командир и замполит полка — один полковник, другой подполковник. Чуть дальше знаменосец со знаменем и двое часовых. За ними большой, золотисто-желтый бюст Ленина — пустотелый и гулкий внутри. Мы его перетаскивали, — удивились, думали, взвода не хватит, оказалось и четверых много… Вроде монумент, на самом деле обманка… Рядом горшки с зелеными листьями. Сбоку, в сторонке, гости, есть и в штатском. Даже две женщины… Правда с мужскими лицами и плоскими грудями.
Услышав свою фамилию, выходишь строевым шагом к столу, поворачиваешься, докладываешь, что рядовой такой-то для торжественного принятия присяги прибыл. Тебе, молча, вручают большую красную папку с текстом присяги — а мы, как дураки, зубрили на память! — и ты, не торопясь, громко вслух читаешь. Потом расписываешься в ведомости и встаешь на колено, к тебе знаменосец наклоняет знамя и ты, взяв нижний его угол, целуешь. Знамя взлетает вверх, ты поднимаешься с колена и строевым шагом топаешь на место. Звучит другая фамилия, сразу за этим отзыв — я! и опять четкие, печатающие шаги к столу.
Всё это происходит в напряженной тишине. Нет, надо говорить в торжественной тишине. Потому что присяга торжественная. Значит, и обстановка торжественная.
Потом гости, а они были из горкома партии, кажется, из горкома комсомола, передовики какого-то местного предприятия и два ветерана войны, поздравили нас, пожелали нам отличной службы, всегда быть верными присяге, любить, охранять и любой ценой защищать нашу великую Родину — Союз Советских Социалистических Республик.
Полковой оркестр неожиданно грянул Гимн Советского Союза. У меня чуть слезу не вышибло. Что-то подобное я почувствовал, когда стоял на колене и целовал знамя. Но все равно, тогда я себя видел как бы со стороны. Откровенно говоря, ритуал с коленом и поцелуем выглядел неестественно театрально-киношно и наивно-сентиментально. Где-то там, на фронте, на переднем крае, перед боем, когда вдали звучит артиллерийская канонада и бойцам вручают партбилеты, это уже привычно, это вяжется — такое в кино часто показывают. Это нормально. А сейчас, здесь… Но когда оркестр, грохнув, завис на люфтпаузе после первого мажорного аккорда, меня пробила восторженная дрожь своего и народного величия, любви и единства и слезливой тоски — всё вместе, в один комок, аж в горле и глазах защипало. А оркестр громко, мощно и слаженно, гремел патетическим мажором о нерушимости, многонациональном единстве, любви к Родине, Коммунистической партии, всему советскому народу. Это доставало… Пробивало, как сильный бодрящий душ, проникало в меня, как рентген, как живительный кислород, озон — всё вместе. Звуки мощно и широко разливаясь, заполняли меня, нас всех, пробивая и очищая до дна, без остатка, настраивая на возвышенный патриотический лад. Это было что-то потрясающее! Это! Э-это!..
Музыка, жестко управляемая властной и умелой рукой дирижера, звучала от нежного пиано до агрессивного всеутверждающего фортиссимо. Дирижер, стоя к нам спиной, блестя начищенными голенищами хромовых сапог, энергично взмахивал руками в белых перчатках, управлял. То наваливаясь на эту живую, просто физически ощущаемую, музыкальную энергию всем корпусом или локтями, встряхивая при этом головой, приподнимаясь на носках сапог, восторженно нахмурив брови; то нежно вытянув губы трубочкой и подняв брови, как Арлекин, гасил, мгновенно успокаивал их разбушевавшийся гармонический огонь. В резких движениях рук, поворотах его головы, жестком выражении лица, сжатых губах, бровях, виделось внутреннее напряжение, восхищение и согласие с характером и гармонией звучащего произведения. Мелодия, дойдя до возвышенного финала, наконец, оборвалась, закончилась… Фейерверком отзвучал и погас в пространстве последний аккорд Гимна. Дирижер, пожилой, кругленький дядька, майор, отмахнул рукой и чётко повернулся к нам, к залу. Одновременно с этим музыканты резко опустили инструменты в походное положение.
Вот это да!.. О-о!..
Военный оркестр!!
Я, конечно, слышал на гражданке разные оркестры, включая и духовые, но военные — ни разу. Скажу честно — это, извините, не «Полька-бабочка», и не «Вода-вода… Как провожают пароходы…» Это — что-то! Более даже чем… Нечто!
Стройность и чистота звучания, блеск и зеркало начищенных труб, чёткие движения, серьезность и слаженность действий музыкантов, парадная их форма очаровали и заворожили меня. Я самую малость даже оглох вроде от грохота барабанов и медных тарелок. Но это ерунда! Главное, от восхищения у меня внутри зажглась, бурлила и клокотала мощная восторженная энергия, как в закипевшем чайнике, как в котле паровоза… От всех этих мощных чувств я едва не прозевал очередную команду. Да-а! Военный оркестр — это не только, тебе, понимаешь, украшение всякого рода военных торжеств, но и мощный энергетический катализатор. Точнее сказать, патриотический камертон, на который мгновенно и с удовольствием настраиваешься. Идти в строю под звуки военного оркестра, печатая шаг, чувствуя плечо товарища — это не платочком махать, наблюдая со стороны. Под военный марш идёшь в строю, как единая, мощная, красивая, живая и слаженная машина. Так бы ходил и ходил, как заведённый, под призывные и хлёсткие звуки военного оркестра: «Р-раз, р-раз, р-раз, два-а, три! Р-раз, р-раз…» Правда, особо развернуться тут было негде, не на плацу, но всё же, мы показали крепость и силу наших сапог.
Вот, значит, что такое — военный оркестр!!
От звуков военного марша у всех ребят на лицах появилась какая-то удаль, ухарство. Глаза веселые, на щеках румянец, уши горят. Все подтянулись! И выправка тут — грудь колесом! — стала молодецкой, как на плакате «Знай наших!». Зря что ли так долго топтали бетонный плац?
Покружив по залу, дружно прервались на перекур и туалет. А куда же ещё. Больше пока и некуда.
В туалет можно было пробиться только с большим трудом. Везде шум и гам стоял просто невообразимый. Все громко делились впечатлениями от — главное! — долгого стояния в строю по-стойке смирно. Весело вспоминали, как кто-то тоже, чуть-чуть не выпал из строя. Кто-то сильно вдруг захотел в туалет, кто-то от волнения свою фамилию напрочь забыл, едва вспомнить успел. Кто-то вместо «я» сказал — «здесь»… Все громко и дружно над собой хохотали. Но оркестр вспоминали только одним восхищенным определением: «Это зае…сь!» «Ну, бля, класс!»
— Как музыканты гр-рохнули, у меня, пацаны, внутри как пружина сработала, поршень такой, и прямо по бошке, бабах-шарах! Прямо наизнанку всего. Да! Не ве-еришь? Я тебе говорю, р-раз, и я, аж на полметра выше стал, да! Классный, в общем, оркестрик.
Следующее сильное эмоциональное потрясение нас ждало в столовой. Мы просто и не узнали её — ресторан и ресторан. На столах белые — представьте! — белые скатерти! Нам — солдатам! — вдруг постелили белые-белые скатерти… Невероятно! На каждом столе по-две вазочки с веничками из еловых или сосновых зелёных колючих веточек. Запах — натурально лесной. На столах много нарезанного белого хлеба. Просто много хлеба! Миски, правда, те же, алюминиевые, но появились вилки. «Точно, ребя, смотри, вилки!» — словно не веря глазам, толкаем друг друга. Впервые за три месяца мы увидели настоящие вилки, пусть и алюминиевые. На столах они резко выделялись своим новым нахальным блеском на фоне остальной тусклой посуды. Столовая стала совсем другой, непривычной, празднично-домашней.
— Вот это да!..
Кислого столовского запаха как не бывало. Столовая дышала запахом леса…
— Чудеса!
Дежурные по столовой — в ослепительно белых куртках! — быстро разносят бачки с едой. Ну, это вообще, пацаны, атас! Стоим над своими столами, застыв, как памятники, не решаемся садиться. Не веря ещё, разглядываем эту непривычную для нас красотень. По команде осторожно присаживаемся, руки на коленях — не как всегда. Крутим головами, с восхищением и недоверием разглядываем это приятное праздничное пространство перед собой.
— Ничего не трогать… без команды! — ветром пронеслось предупреждение по столам.
Прячем руки под стол.
Сидим, ждём… Глазеем…
В стороне от нас, за отдельным столом, чинно, видим, рассаживаются наши гости и командование. У них — всё, как и у нас, только посуда вся другая, не «люминиевая», а гражданская, и стоят граненые стаканы с салфетками. Но бачки и черпаки-разводяги наши, армейские. Мы, как только чуть обвыклись в этой обстановке, дождались дежурную команду — «Греби!», тут же, по привычке, хлеб ополовинили по карманам, на потом.
И в бачках сегодня явно побольше, и варево погуще. Борщ украинский, определил Вадька. Густой — много капусты, свеклы, помидоров, картошки, тушенки, еще чего-то. Полный сборняк, в общем. Нормально. Почти домашний борщ получился, вкусный. Отпад! «Так бы всегда!», понимающе переглядываемся. На второе маленькая котлета (настоящая!) или тефтелька, и картофельное пюре. О-очень всё вкусно, но мало, считай, на один зуб. Таких котлеток можно было штук четыре— пять накидать. На третье — сладкий компот, по два стакана, и булочка. О! Ребя, гля-а, булочки!.. Да, кругленькая «штатская» булочка для нас была полнейшей неожиданностью, как и многое, впрочем, сегодня. Уж на булочки мы точно не рассчитывали. А запах, ребя, атас! Не верим. Какие в армии могут быть булочки — это же не школа! — вы что? А вот, поди ж ты, она самая. Настоящая гражданская булочка, с коричневой пухлой корочкой. Почти все солдаты, что-то припоминая, не доверяя глазам, даже слегка помяли и понюхали её. «И правда она!..»
Да, сегодня праздник так праздник. Настоящий день живота. Здорово! Я лично, если будут так кормить, готов присягу принимать хоть каждый день, можно и по два раза.
Ф-фу, я даже переел, объелся с непривычки. Теперь, прислушиваюсь к себе, нужно ждать, как отреагирует изжога — сработает, подлая, или нет? Авось, эта пакость проскочит, не заметит. Хорошо бы теперь покурить и подремать. Жаль, до отбоя ещё далеко, целых полдня и еще куча разных мероприятий по распорядку.
— Так, а что там у нас дальше, ребя, кто помнит?
— А ничего… Сейчас в клуб идем на лекцию. А вечером кино!..
— А фильм какой… про что?
После обеда в клубе встреча с ветеранами… Вот там, кстати, можно и вздремнуть, если будет скучно. Только для этого нужно успеть сесть подальше, на последний ряд. Потом, свободный час, потом ужин и, перед отбоем, кинофильм «Оптимистическая трагедия». Хороший фильм, только я его уже сто раз видел на гражданке, и здесь уже два раза. Ну и что, все равно хороший фильм. Пойдет…
«Комиссара в юбке не пуска-ать, — волнуется на экране Сиплый. — За бо-орт стер-рву…»
Лихорадит полк, раздирают матросские души противоречивые страсти. Неожиданное назначение в полк красивой бабы-комиссара, рвёт полк на части. Уходит, уплывает власть из рук Боцмана, полк почти неуправляем. Будоражит матросские умы противостояние молодой, красивой красной комиссарши и надёжного, проверенного в боях и разных испытаниях своего в доску, матроса-анархиста Боцмана.
«…Что вы и-ищете у нас, дамочка? Мы на кораблях проспиртовались, по два раза си-ифилисом болели… А вы нам манную кашку на блюдечке?!» — Уже не надеясь на рассудок, тщетно взывает к мужской солидарности своих товарищей сифилитик Сиплый. Но матрос Тихонов, ради этой красивой бабы, неожиданно идёт на предательство своих товарищей и переламывает ситуацию в пользу властной и соблазнительной комиссарши. Боцман побеждён. И вот, уже счастливые, он и она, уводят большой отряд бывших матросов-анархистов, а теперь уже — дружный революционный полк матросов, в бой за Советскую власть.
Мы искренне переживаем за матросов: трудно им было в то время, да еще неграмотным. Жутко завидуем матросу Тихонову, крепко любим Володину и презираем Сиплого. Не нужно было шестерить, дурак, да егозить… сифилитик, несчастный!
Этот праздничный день прошел быстро и очень приятно. Перед отбоем нас не гоняли, на вечерней проверке нарядчиков не назначали. Отбились мы сразу и без повторов… И ночью поднимать сегодня точно не будут… Как пить дать… С чего бы?
«Хорошо бы в роту нам такую, как эта Володина. Нет, одной мало будет… сразу драки начнутся. А вот если на каждого по-одной — вот это нормально… А можно и по-две. По-две лучше… А если по-три? Если по-три-и… Эт-то… Это!.. О-о…» С этими очень приятными мыслями и сладкими мечтами, я крепко засыпаю.
21. В полк…
Командир учебной роты, неожиданно вызвав меня утром в канцелярию, дал пять минут на сборы и приказал срочно грузиться в машину:
— Бегом, Пронин, бег-гом! Одна нога здесь, другая там! Машина уже стоит у медпункта, документы и остальные вещи у старшины. Он сейчас где-то в каптерке, кажется… Найдёшь. Действуй. Чего стоишь? Вперёд, боец.
Несусь в каптерку и уже понимаю — всё, меня отправляют на «точку» будущей службы. «Точка» — это полк, батальон или что там… Рота. Естественно, взвод, конечно, и отделение… «Хрен его там знает, что там и как?!» Но именно там и будет место моей главной службы, основной. «Куда я еду? Куда попал?» На душе стало тоскливо. Бегу, а ноги заплетаются, не хотят торопиться. А вот и каптёрка. Каптерка — большая полутемная комната-подвал без окон и вентиляции, вся сплошь в стеллажах. На них ровными рядами развешены, разложены, расставлены все наши вещи и разные постельные и банные принадлежности. Всё в бирках, по взводам, отделениям, фамилиям. Всё учтено, всё на виду. Старшина, сидя за маленьким столом, увидев меня, обрадовался, как своему.
— А, музыкант, заходи! Все твои вещи я уже собрал. Распишись здесь… здесь и вот здесь, — Старшина протягивает мне рюкзак и показывает на столе несколько бумаг — ведомостей. Нехотя расписываюсь, забираю рюкзак.
— Теперь идём в роту, заберешь всё своё из тумбочки, и я тебя провожу к машине.
— Товарищ старшина, а куда меня отправляют?
— В полк, Пронин, в полк. На тебя разнарядка пришла — срочно отправить в распоряжение. А куда там — не знаю.
— Понятно.
— Не переживай, брательник, служба, есть служба. Жаль, конечно, расставаться. Парень ты неплохой, играешь хорошо. Да, слушай, я хотел тебя спросить, а вот тот аккорд, который ты мне позавчера показал, с большим пальцем, можно его как-нибудь по-другому брать, а? У меня аж вся кисть после этого болит, как после вывиха.
— Можно, — отвечаю рассеянно. — А болит с непривычки…
Пока я бегал в канцелярию и в каптерку, ребята уже ушли в столовую, в роте пусто. Забрав зубную щетку, пасту, почтовые конверты с карандашом, быстро идем со старшиной к медпункту.
На улице ветрено, прохладно.
Зеленый Газик с красным крестом ждёт уже, пыхтит выхлопной трубой. Меня передают лейтенанту-медику, старшина вручает мне пакет с моими документами, и я, попрощавшись только со старшиной, выезжаю к месту своей будущей службы. Ни с ребятами не успел попрощаться, ни позавтракать… Жаль.
В машине, кроме водителя и лейтенанта трое солдат и один сверхсрочник-медбрат. У двоих солдат огромные флюсы, причем с одной и той же стороны. В глазах кипит неуемная боль. Они, постанывая, баюкают рукой грушевидные, подвязанные тряпкой щеки. У третьего солдата рука уложена в грязного цвета гипсовую повязку.
УАЗик, выскочив за ворота КПП, лихо понёсся вперед, непрерывно взбрыкивая кузовом на неровностях дороги. Пассажиры привычно и равнодушно смотрят кто в пол машины, кто в окна. В машине холодно. Тонкие железные стенки легко пропускают холод, из дверей и окон дует холодный ветер. Но, не успели ноги окончательно замерзнуть, окоченеть, как мы въехали в город.
Замелькали большие и малые жилые дома, перекрестки со светофорами… Рядом, громыхая и дзинькая скрипучими сигналами, навстречу друг другу, проскочили трамваи и разбежались в разные стороны. Улицы широкие, вокруг много машин. По тротуарам, кутаясь в теплые платки и воротники зимних пальто, движутся люди. Люди…
Город. Пожалуй, даже большой город. Хабаровск-хибаровск…
Никогда здесь не был… И знать о таком не знал, и слыхом не слыхивал… За каким он мне, в принципе, Хибаровск-хабаровск? Судьба? Конечно, она, кто ж ещё! Не по своей же воле. Судьба, значит. Злодейка? Счастье? Не знаю… Поживём… Да, конечно, надо пожить, надо узнать. А вдруг да… счастье! Хорошо бы. Чтобы не спугнуть, одёргиваю себя, не надо бы и загадывать, не надо…
А пока едем.
Повиляв по улицам, машина уперлась носом в зеленые железные ворота с красной звездой на каждой половинке. После пары длинных нетерпеливых сигналов ворота неспешно отворил дежурный солдат в шапке, валенках, чёрного цвета полушубке подпоясанный солдатским ремнём, с красной повязкой на рукаве, с красным же от мороза и ветра лицом. Извилисто проехав по территории, машина остановилась у крыльца длинного пятиэтажного здания.
— Выходи, бойцы, — весело командует лейтенант. Мы выбираемся из холодного и тесного кузова. Всей толпой заходим в санчасть. Там старшина и трое солдат остаются, а мы с лейтенантом быстро поднимаемся по широкой лестнице, топаем.
На первой площадке, внизу, стоит огромный белый бюст Ленина. На втором этаже — красиво! — в стеклянном футляре установлено знамя и рядом стоит часовой в парадке и с автоматом. Вся стена за ним раскрашена патриотической символикой. На одной стороне от знамени она дополнена крупными силуэтами военнослужащих разных родов войск, смотрящих влево, а на другой — силуэтами рабочих-сталеваров, крестьянок и молодого инженера с циркулем и длинным рулоном бумаги в руке, смотрящих вправо. Все лица на картине одинаковы и по размеру, и по их плакатно-рубленным выражениям и состоянию. Причем, тип лица, у всех почему-то не очень русский, с едва уловимым азиатским уклоном… По краям лестничной площадки большие двери и налево, и направо. Лейтенант, проходя мимо часового, отдал честь и повернул направо. Мне буркнул: — Там штаб дивизии, здесь штаб полка.
Мы, значит, в полк.
По широкой лестнице, на всем пути — навстречу нам, догоняя и обгоняя, туда-сюда снуют офицеры, солдаты, сверхсрочники, даже женщины в армейской форме. Народу!.. Сплошной муравейник. В штабе у дверей стоит солдат — дежурный (или посыльный) по штабу, с повязкой. Он без автомата, только штык-нож на поясе. Отдал нам честь, но меня осмотрел с ног до головы почему-то подозрительно и полупрезрительно. Я, как ни в чем не бывало, мешок-мешком, топаю по коридору за лейтенантом мимо то и дело открывающихся и закрывающихся дверей с табличками: «Нач продслужбы», «Зам по строевой», «Нач штаба», «Командир части», «Заместитель по политчасти», «Секретный отдел»… Ух, как много! Конечно, — полк! Не батальон даже… Из кабинетов тонко тянет табачным дымком и — совсем странно — духами! Вокруг очень шумно. Как перед собранием… Туда-сюда снуют щеголеватые, разного возраста офицеры и сверхсрочники.
Протопав строго сбоку, у стеночки коридора, мой сопровождающий резко сворачивает в открытую дверь с табличкой «Строевой отдел». Заходим. Передо мной барьер, такой же, как там, в каптерке. Так же отполирован и затерт локтями почти до блеска.
В помещении, как и в коридоре, очень тепло и так же тонко пахнет духами и еще чем-то очень неуловимо женским. В глубине комнаты, за столами, сидят люди. Старший из них — офицер, — пожилой, в больших очках, лысый и грузный, сидит, навалившись локтями на стол. В руках у него подшивка бумаг. Он сосредоточенно сверяет каждый отдельный листок с записями в большой амбарной тетради. Он без кителя, рубашка по-домашнему расстегнута, галстук вяло, бесформенно повис на галстучном зажиме. На мятых погонах два светлых просвета и одна звезда. Майор, значит. Его китель и портупея небрежно и свободно свисают со спинки его же стула. Напротив и рядом с ним, за своими столами работают: одна пожилая прапорщика и два молодых сверхсрочника с сержантскими лычками. У женщины на крупном носу очки, причёска уложена волнами заколота гребнем, губы накрашены, китель расстёгнут, под рубашкой видны объёмные груди. Сержанты сверхсрочники от бумаг не отрываются, похоже, недавно здесь, стараются.
Ближе к дверям, почти у барьера, за столом, лицом к нам, сидит кругленький пухленький солдат ефрейтор, срочник. «У-у, ефрейтор! — отмечаю я. — Писака». В смысле писарь. Склонив голову, с тонким пробором в аккуратной короткой прическе, он с выражением глубокого высокомерия на лице старательно заполняет какой-то служебный бланк.
Все неотрывно заняты своей бумажной работой. Столы и почти всё вокруг них плотно завалено папками с документами. На нас, вошедших, коротко, с мгновенно погасшим интересом — а, лейтенантик, летёха, значит, и еще кто-то — глянула только женщина, — остальные, ноль внимания. Только после довольно громкого повторного приветствия лейтенанта, майор рассеянно глянул на нас поверх очков и вдруг длинно и сладко зевнул во весь рот. Затем, помолчав, через паузу, вяло произнес:
— Борис, оформи.
Разрешил, таким образом, ефрейтору принять меня в армию, взять мои документы и оформить как вновь прибывшего. Писарь, повернувшись на майорский голос, бодро и услужливо кивнул ему:
— Сейчас, товарищ майор, — ответил он, и прилежно склонив голову набок, вновь продолжил старательно что-то писать. Лейтенант, усмехнувшись, больше не стал ничего ждать, повернулся и вышел, а я остался оформляться. Ждать, в общем.
Оглядываюсь. В комнате несколько сейфов разной величины со множеством печатей и бумажных наклеек на створках возле замка. Высокий — до потолка — закрытый пристенный стеллаж с большими дверцами — для папок с документами, догадываюсь. Вешалка для верхней одежды с кучей шинелей, шапок, шарфами и четырьмя сумками противогазов. Прямо напротив входа на стене, с хитрым прищуром, портрет Ленина в мятой фуражке. На другой стене политическая карта мира и целая вешалка каких-то таблиц. На подоконнике горшки с цветами. Окно забрано в железную, окрашенную светло-голубой краской решетку. В углу, к стенке прижался маленький шахматный столик. На нём старый, слегка помятый электрический чайник, три стакана в подстаканниках, большая алюминиевая ложка и сахарница. Почему я всё это так подробно разглядел? А потому что ждать пришлось. Они же все заняты…
Ещё я заметил… В воздухе друг за другом весело гонялась стая шустрых и бесцеремонных мух. Время от времени они резко пикируют вниз и проводят свои совещания на тарелке с куском белого хлеба и одинокой булочке там, на столике. Сорвавшись с продсклада, они, весело повиляв друг за другом по комнате, садятся то на политическую карту мира, другие на портрет Ленина в кепке, некоторые даже на амбарную майорскую книгу пытаются планировать, но испуганные майорской рукой, мгновенно меняют траекторию полёта, прячутся в цветках или садятся высоко на дверцы шкафов, но через пару секунд вновь принимаются летать в комнатном пространстве. Чехарда такая, карусель.
В принципе, как и мы в казарме. Например, перед каким-нибудь построением, в столовую, на занятия, перед отбоем…
Всё это я успел раза два или три, в разной последовательности, пересмотреть, пока ефрейтор закончив дело, наконец, смог переключиться на меня. Коротко глянув, он углубился в мои бумаги и соответствующие папки с документами и реестрами. Я опять несколько раз расписался в каких-то бумагах, и ефрейтор, солидно выставив себя в коридор штаба, баском крикнул кому-то:
— Пос-сыльны-ый!.. Шыу-шыу, — присвистнул сквозь зубы. — Подь сюда!
Посыльный, тот, который с повязкой и штык-ножом, бодро прогрохотал к нам сапогами по длинному коридору и махнул широкой ладонью к шапке:
— Посыльный по штабу…
— Ясно, ясно, — вальяжно и пренебрежительно отмахнулся от доклада ефрейтор. — Значит так, Жирнов, отведешь «молодого» в первую роту, сдашь старшему лейтенанту Коноводову. Понял? — В речи и интонациях ефрейтора безмерное высокомерие и безмерное превосходство.
— Есть, сдать Коноводову, — в широкой улыбке расплывается посыльный.
— Всё, вал-лите, — небрежно заключает пухлый с пробором, и сует мне узенькую бумажку. — Это отдашь Коноводову.
— Пошли, молодой, — посыльный хлопает меня по плечу своей широченной лапой, и мы гуськом движемся из штаба.
22. Ты это откуда, чмо?
Рота находится где-то наверху. Бежим — почему-то бежим?! — проскакивая через две-три ступеньки, поднимаемся на пятый этаж. Здесь, как и на других этажах, одинаковые большие двери. Только оформление торцевых стен разное, но все с однообразной военной тематикой. Наша большая дверь в роту тоже направо. У этих дверей вид сильно побитый, поношенный. Ими, видимо, пользуются не только часто, но, главное, бесцеремонно. В подтверждение этого, мой сопровождающий лихо открыл её сильным пинком сапога, даже не задерживаясь при этом. Мы вваливаемся в спальное помещение роты.
Огромная длинная (кишка) комната на весь этаж. Широкий просторный проход, те же спортивные турники справа и слева от прохода, рядом гири, самдельная штанга, те же длинные ряды двухъярусных коек, ряды тумбочек и коричневые массивные табуреты. Одинаковые конусы подушек и светлые пятна развешенных полотенец. Единообразные полки и вешалки с солдатскими шинелями. Всё, как и у нас там, в учебке. Всё аккуратно заправлено и выровнено. Те же тёмно-коричневые, серые, серо-зелёные тона, ряды голых и больших окон с левой и с правой стороны казармы. Тот же стойкий стандартный казарменный запах. Рота!
Да, она!
Посыльный, войдя, громко и весело кричит в пустое перед нами пространство, даже не кричит, а пугающим голосом орёт:
— Днева-альный-й, ёб… в рот, опять спишь, бля! — Злобы или угрозы в голосе нет. только крик, и ухарство. И на одном дыханииЮ без запятых. — Встать-смирно-вольно, бля! Где Батя?
— Облезешь! — издалека, вяло огрызается дневальный.
Он находится напротив нас, но далеко-далеко, в конце длинного прохода, у тумбочки. На звук открывающейся входной двери в роту он едва успел выпрямить колени и чуть-чуть спину, а на лице изобразить готовность и старание. Но, увидев нас, мгновенно погас, как лампочка с падением напряжения, опять привычно сгорбился и полуприлёг на тумбочку.
— Чё орешь?.. Там он, в канцелярии. — Абсолютно спокойно и вяло кивая на дверь, информирует дневальный, равнодушно глядя мимо нас.
— Я смотрю, ты совсем у нас оборзел, салага, да? Страх потерял? — светло замечает посыльный.
— Сам козёл! — без интонации парирует дневальный.
— А по тыкве?
— Ага, щас…
Мы гулко топаем по пустому проходу. Проходим мимо дневального.
— Закурить есть? — не глядя на нас, всё также равнодушно и вяло просит дневальный.
— Са-ам стреляю, — не глядя, громко и весело отвечает мой сопровождающий и, почтительно согнувшись, осторожно стучит в тёмно-коричневую дверь с табличкой «Канцелярия 1-й роты». «Да-а», — слышится за дверью. Посыльный осторожно приоткрывает дверь и, всунув голову внутрь, осторожно спрашивает:
— Разрешите, та-ащ старший ле…
— Какого х…? Чё тебе? — раздраженно несется из комнаты, и, повернувшись на стуле, офицер узнаёт посыльного. — А, это опять ты, Жирнов? Слушай, ты зае… меня сегодня своим на х… штабом.
— Не-а, не в шта-аб, та-ащ старш-лант, — резко взбодрев, оправдывается солдат, и голосом, как на сцене, раскрывает цель своего появления. — Я пополнение вам привел, — широко распахивая дверь, показывает меня, стоящего сзади. — Во!
— Какое на х… пополнение? — недоуменно, с тем же наигранным раздражением спрашивает офицер.
За столом, боком к нему, сидит офицер лет сорока. Короткие взъерошенные волосы, блёклое капризное лицо, выцветший мятый расстегнутый китель, мятые погоны. В комнате очень накурено. Сбоку от стола сидят, нога на ногу, еще три офицера. Двое тоже старшие лейтенанты, один капитан, но все гораздо моложе командира Коновалова, внешне аккуратные и подтянутые. Они с полуулыбкой слушают этот диалог. Все неторопливо с удовольствием курят.
— Ты откуда, чмо? — спрашивает старший лейтенант. Его товарищи, наклонившись вперед, весело меня разглядывают. У меня от удивления и от обиды (какое такое чмо?) заполыхали уши.
— О, о! Ты посмотри, оби-иделся он. Гу-убы наду-ул. Цаца нашлась какая. — Ёрничает офицер. — Как стоишь, ё… твою…ть? — во весь голос вдруг орёт командир. — Ну-ка выйди на х… отсюда. Зайди и доложи, как положено. А ты (посыльному) — пи…уй в штаб, на пост… Разболтались, понимаешь! — Офицеры одобрительно засмеялись. Посыльный выскочил из дверного проёма, прикрыв за собой дверь. Как ни в чем не бывало, весело и глуповато улыбаясь, уже на ходу, бросает мне:
— Не обращай внимания, это он так — пузыри пускает, — и вприпрыжку, зацепив дневального по шапке, одновременно ловко увиливая от ответного пинка, гулко загрохотал сапогами по длинному и пустому проходу в штаб, на свой пост.
Поправляю шинель, шапку, стучу в дверь. За дверью бурлит оживленный разговор, меня не слышно. Стучу еще раз и захожу. Разговор прекращается и я, как учили, докладываю:
— Товарищ старший лейтенант, рядовой Пронин для дальнейшего прохождения службы…
— Вижу, что явился не запылился, — обрывает командир и протягивает руку. — Давай бумагу.
Развернув её и далеко отставив от глаз, молча читает.
— Ну вот, опять, на х… прикомандированный, — бросая бумагу на стол, возмущенно всплескивает руками. — У меня, бл… не рота, а сплошные спортсмены, музыканты, писари… Х… его знает, что такое!
Я стою как оплеванный и ничего не могу понять, что там в бумаге? Бумагу-то я не читал, некогда было. Со мной никто, и ни о чем не разговаривал.
— До каких пор будет продолжаться это бл…во, а? — обращается за поддержкой к своим друзьям капитан. — Ну как тут службу нести?
— Что, опять спортсмен? — озабоченно и наигранно-сочувственно переспрашивают офицеры Коновалова.
Стою! Ошарашен! Уши горят! Слушаю и не пойму, что случилось, в чем я виноват. Куда я попал? Какие «командированные»? Почему старший лейтенант такой злой?
— Какой, на х… спортсмен, — музыкант! — Презрительно вытянув губы, громко сообщает он, и все сочувственно смотрят на меня: и как это тебя, парень, мол, так сильно угораздило?
Только теперь понимаю, я попал служить в полковой оркестр, в тот, который так красиво и мощно играл у нас на присяге. От этой радостной и приятной догадки я неожиданно для себя счастливо, во весь рот расплываюсь в улыбке.
— Ты смотри-и, он еще и придуряется, — поражается Коновалов. — Чего лыбишься, артист?.. Днев-вальный! — Громко кричит в закрытую дверь. — Дежурного ко мне…
23. Земеля
За дверью эхом доносится: «Дежур-рный! К командиру р-роты».
Сразу за этим слышен громкий, потом глухой, затихающий где-то вдали топот сапог. Это он за дежурным, наверное, понёсся, догадался я. Но через несколько секунд звук с резким нарастанием возникает, топот уже слышен двойной, дробный. Один из них прерывается, а с другим, громким, шумным, в канцелярию вбегает, поправляя сползающую на большой голове, звездочкой к виску, новенькую, но маленькую шапку сержант в выгоревшей добела хэбэшке. Хэбэ на нем или село, или ушито. Ткань плотно обтягивает выпирающие мышцами и другими мужскими деталями тело, как мокрое спортивное трико. На крутой груди блестит множество разных армейских и военно-спортивных значков. Сержант — лицо красное — судорожно давясь, что-то по ходу проглатывает, останавливается, вытянув длинные, лопатой, руки по швам сообщает.
— Я, та-ащ старш-лант. Вызывали?
— Всё жр-рёшь, а в р-роте бар-рдак, — с ядом в голосе вдруг заявляет командир.
— Какой бардак? — наконец почти целиком проглотив всю булочку, поражается сержант. — Где? Шутите, да, та-ащ старш-лант? — заискивающе улыбаясь, пытаясь свести все к шутке, мнется с ноги на ногу дежурный.
— Обтянулся, как пидар-рас. Смотреть пр-ротивно. — Продолжает «красоваться» перед своими друзьями офицерами старший лейтенант. — Что это за фо-орма? Почему уста-ав нарушаешь, а? — распаляясь, гундявит командир.
— Так я же, это, она сама села… — мнется сержант.
— Как докладываешь? Какой пример молодым подаешь, а? — продолжает сбивать с толку командир.
— Так я же доложи-ил, — краем глаза замечая меня, мямлит сержант. И, распрямившись в струнку, вдруг громко и четко докладывает: — Товарищ старший лейтенант, дежурный по роте сержант Голованов по вашему приказанию прибыл.
— То-то! — мгновенно смягчается командир. Гости в канцелярии одобрительно улыбаются: знают здесь дисциплинку, боятся Батьку, любят.