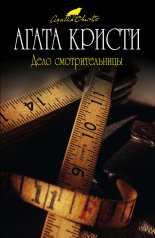Кирза и лира Вишневский Владислав
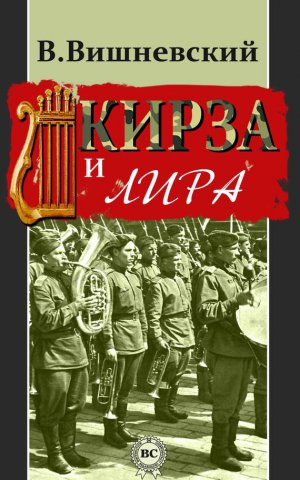
А методов и реальных способов управления старослужащими у ротного — вагон и маленькая тележка.
Ну, например:
— возможны еженедельные увольнения (Один из сильнейших рычагов управления);
— можно реже ставить в наряд или вообще не ставить, а если и ставить, то туда, где служба — не бей лежачего. Как бы, все в наряде и все пашут — и ты тоже в наряде! — но как раз ты — наоборот, совсем не пашешь, а «с колокольни х… машешь, разгоняешь облака»;
— возможны разные послабления в форме одежды, — в распорядке дня…
Да много, очень много у ротного способов поймать на крючок любого солдата от старика до молодого. Но самый главный рычаг в руках ротного — заветный дембель в первой группе или даже раньше. О-о! Дембель!!
Тут уже слов вообще не нужно, тут из солдат можно веревки вить… «Не беспокойтесь, та-ащ стар-шлант, всё сделаем, все будет в порядке. Отдыхайте. Будет в роте порядок, будет…»
Старики, желая показаться ротному, в благодарность за «доверие», ночью гоняют «салаг»: подъем-отбой, подъем-отбой, например… (ну, а когда же еще их гонять-то?), а все они вместе: и командиры, и старики, и салаги, уже открыто, отвязываются на «молодых» — тех, бедняг, почти год, воспитывают и днем и ночью… так смену достойную себе воспитывают. А как иначе? Совершенно простая логика и годами отработанная, стадная система управления подневольными людьми, чего уж проще. Такая же простая и задача: вышибить у «молодого» чувство собственного достоинства, отключить «на х… разные там…» мыслительные центры и прочие навыки, переориентировать центры сопротивления, возможно быстрым способом добиться послушного и безропотного подчинения… конечно, на патриотической основе. Только на патриотической! На ней, родной, ни как иначе. Без патетической базы он не наш солдат, он «всехный» солдат, не советский, значит, чужой. А нам это надо?.. Нет, конечно, не надо! «А ну-ка, тогда, молодой, тридцать секунд… подъём!..»
Вольно или невольно, таким вот образом наше уважение к службе замешивается на униженности, доминанте физической силы, силе власти и затаенной ответной глухой злобе. Но тут, как говорится, что посеешь, то и, сами понимаете что.
Понимать и принимать это, было невероятно трудно, особенно в начале службы. Самое трудное — это моральный фактор проблемы: выдержать, выстоять, не сломаться. Так часто, очень часто становилось обидно, больно за себя, невыносимо тоскливо в этой своей горькой безысходности, что хотелось превратиться в бесчувственного истукана, робота, и ничего не видя, не слыша, и не чувствуя, только механически бы, думалось, дотянуть бы на хрен, этот почетный срок службы до конца, не натворить бы чего дурного и не свихнуться. Молодой мужской организм, как известно, физически мужает быстрее, а вот дух, душонка, часто не выдерживает в руках «опытного» командира или ему подобных — ломается.
Но хватит о грустном. Хватит!..
Я расскажу об отдушинах.
Об от-души-на-х… на-х… ах… х-х!
27. Военной музыки оркестр… Ух, ты!
Почему наш штатный полковой оркестр состоял не из одних только сверхсрочников, не знаю, То ли ставки были маленькими, то ли вовсе на них денег не хватило, то ли именно так это и задумывалось, чтоб было кому пол, например, в оркестровке мыть, да на телефонные звонки внутренней связи отвечать, но несколько должностей в оркестре было заполнены нами — срочниками. В оркестре нас таковых было несколько человек.
Один — валторнист — Валька Филиппов призван был из Чувашии, первогодок. Круглолицый улыбчивый парень с круглыми оттопыренными ушами, полными губами, хитренькими глазками, прячущимися под сонным выражением лица, ершистой, коротко стриженой головой. Валька что-либо говорит редко, всё остальное время или «раздувается», или учит партии. А оторвав от мундштука вытянутые вперед напухшие и свернутые еще в трубочку губы, говорит обычно быстро, скороговористо, часто даже непонятно — что и на каком языке. Как сам себе. Чуваш он, потому что, и говор у них такой. Сам он не высокий, сбитый весь, с тонкой талией, и мешком сидящих штанах-галифе. Это если говорит про внешний вид. А так, в общем, старательный… нормальный парень. Нормальный. Хотя сам он о себе говорит, что от звуков своей валторны в бошке своей замечает какие-то странные закидоны, опасные для общества. «Вот, щас… щас, смотри, Пашка… Не заметно?» — спрашивает меня. — «Нет, вроде, — отвечаю. — А что?» А он, обреченно так: «А я вот, вижу». Для духачей-валторнистов, мол, это вполне естественно. Да! Очень сильная нагрузка на мозг к вечеру концентрируется. Он, мол, за себя и не в ответе потому, заметьте, к вечеру. Такие вот, странные пироги с ним, с Валькой Филипповым. А я, например, не верю. Косит, наверное, или это защитная маска такая, на случай казарменного выживания, не поймешь. Хотя, если посмотреть, ничего удивительного: полтора-два часа посидишь с ним рядом в оркестровке, когда он «раздувается» — запросто можно «съехать». Его длинные монотонные «тянучки», на разной высоте и силе звука, через пару часов ступорят кого угодно. В это можно поверить. Тут, главное, не вслушиваться в эти звуки, не подпадать под частотные воздействия, — я где-то читал об этом. Главное, не попасть в разрушительный резонансный режим звука, это опасно. Поэтому, на репетициях мы слушаем только себя, свои инструменты, а кайфуем только от общей, совместной музыки. Отметьте — совместной музыки, то есть совместимой для слуха и для жизни, не как у Вальки. Тут можно кайфовать, тут гармония, тут… Он из Чебоксар. Кстати, он же ритм-гитара в нашем ансамбле песни и пляски. Да, чуть не упустил: еще и в хоре он поёт, если где не играет. Вундеркинд он. Я серьезно. Да у нас все такие. Увидите.
Малый барабан — Юрка Володин из Москвы. Уже «старик». Он же аккордеонист, он же дембель, он же уважаемый в полку, не только в оркестре и ансамбле, солдат-срочник. Шутка ли сказать (он мой наставник) Володин, уже кандидат в члены Коммунистической партии страны. Во, как! Считай, чуть ниже Героя Советского Союза для нас, молодых. Правда, почему-то, в отличие от других стариков, которые на дембель уходят в звании не меньше старшего сержанта, на худой конец просто сержантами, наш Володин выше ефрейтора не поднялся. Почему так? Не знаю… Загадка какая-то. Надо понимать, разгадка затерялась где-то в двух предыдущих годах его службы.
Он вообще для нас, для меня, если уж говорить конкретно, сплошной ходячий пример. И спокойный парень, и музыкант техничный и грамотный, и подчеркнуто дисциплинированный солдат, и не жадный, и начитанный, и немногословный, и не курит, не матерится, и не самовольщик… Это на третьем-то году службы, представляете?! (Кто понимает, о чём это я!)
Держался он всегда в сторонке, обособленно, и от нас, молодых, и от музыкантов-сверхсрочников, — одно слово дембель. Сверхсрочников он, как я заметил, недолюбливал. Вспыхивал, ругался — за их частое соответствие сленгу: верзать-сурлять-берлять. Особенно за способность — только ради хохмы, чуваки, только ради хохмы! — громко, весело и с чувством, верзануть во время совместных учебных занятий, либо в оркестровом строю, в подвернувшейся какой паузе. Вы не знаете, что такое верзать? Ну и хорошо. Хотя, что хорошего, вы же не поймете, почему Володину и мне тоже, не нравились некоторые, мягко сказать, поступки наших сверхсрочников. (Я этого не хотел, но придется, пожалуй, раскрыть для вас суть этих загадочных слов). У слова верзать, в музыкантской среде может быть два известных значения прямого их действия: верзать, значит, на толчке испражняться, и второе, испускать задним местом неприятные запахи и соответствующие этому неприятные звуки разной высоты и силы. Пусть уж меня простят за такие подробности. Сурлять, значит отливать, мочиться, а берлять, это вообще безобидно, кушать: обедать, завтракать, ужинать, — без разницы. Там ещё другие расхожие слова есть: чувак, башли, ксивы, мура, лажа, кондуиты… При обращении друг к другу звучало только одно слово: чувак, — мягко, весело, агрессивно… не товарищи, не друзья, не какой-нибудь там товарищ сержант, например, а просто: эй, чувак, либо — ну, что, чуваки по «Борману»? О девушках или женщинах: «Там были такие чувихи, чуваки!.. Короче, чуваки, одни марухи-барухи собрались, и я там с ними!..» и прочая, подобная словесная дерьмотень. И это несмотря на совместно создаваемый высокий штиль звучания патетической военной духовой музыки!..
Володин на это морщился, злился, делал язвительные замечания, но у сверхсрочников ноль реакции, как об стенку горох. Хихикали только. У них это было игрой, своеобразной реакцией на несоответствие формы содержанию. И мне, признаться, за три года службы, не удалось с этим смириться. Я тоже потом бунтовал. Но это потом. А сейчас о Володине.
И старше он нас был, срочников, Юрка Володин, на много старше, как потом выяснилось. А о том, что он старший музыкант, а, значит, ефрейтор, я вообще узнал, можно сказать случайно. Даже ушам не поверил, когда дирижер, при всём оркестре, поздравлял его с досрочным — на целых три месяца! — увольнением на гражданку. Почему-то этих, ефрейторских, лычек на его погонах я вообще никогда не видел. Стеснялся он их, это точно, и ушел он от нас, можно сказать, совсем рядовым. Закрытым он был человеком, почти для всех. То ли характер такой, то ли потому что дембель, то ли потому что старше нас был, говорить ему было не с кем, и не о чём… или возможно всё это вместе, не знаю. Если коротко, то так.
О нем я ещё расскажу, но чуть позже. Кстати, чуть не упустил главного: ему на замену меня и выдернули из учебки. Его срочно нужно было увольнять, а замены — нет! Тут я случайно и подвернулся. Повезло! Больше, конечно, Володину. Обо мне — после.
Еще один солдат, тромбонист — Евгений Копейкин, из Иркутска, он же ударные инструменты в инструментальном ансамбле. Высокий худой парень меланхолического вида. Внешне, глядя на таких, говорят: «задумчивая нескладушка». Среди нас, музыкантов срочников, он был большой профессионал: кроме музыкальной школы успел закончить один курс консерватории, правда с шумом отчислен за случайный залёт в вытрезвитель и протестное потом — не покаянное! — выступление на комсомольском собрании курса. «А, пошли они все на… — продолжал он серчать на возмущенную его поступком комсомольскую общественность своей Альма-матер. Мама его, кстати, тоже музыкантша, только пианистка. «Знаменитая пианистка, в общем, — небрежно бросал Женька, — заслуженная и лауреат… всякого там разного, классического». Весь шлейф её званий на различных конкурсах он и не помнил. Да нам это и без разницы. Главное, Женька играл еще и на фоно, на «пианине», как легко язвил Ара — Артур, то есть. Прилично, причём играл. В начале своей службы на фоно Женька играл редко, времени не было. Но когда всё же садился за инструмент, играл очень здорово, причём, играл страстно и сумбурно. «Раздухарившись», он из классических кусков запросто делал дико интересные импровизации и пародии в джазовом ключе. Нам, срочникам, это жутко нравилось. Мы сразу загорались, разгорались, бросали напрочь свои военно-духовые марши… Женька, скоренько набрасывал партитуру какой-нибудь залихватской, запрещённой политотделом, мелодии. «Когда святые маршируют», например, и мы, закрывшись в оркестровке на ключ, быстренько, с азартом ляпали квартет, секстет, с уклоном в вокал, если было возможно, и запросто копировали «Битлов», «Червоны гитары», «Песняров»… Играли жутко заманчивые инструменталки из программы «В панораме Америка», еще какие-то другие, не знакомые мне, но точно напрочь запрещенные у нас в стране. Это всё, и необычная мелодика, непредсказуемое сочетание их звуков, интересная гармония, вкусные аккордовые «пачки», ходы, сложная ритмика, чужой, латиноамериканский дух в мелодиях и аранжировках, завораживал, и влюблял. В них, чувствовался абсолютно необузданный беспредельный простор, созвучный нашему внутреннему неукротимому молодому ритму, как в бескрайнем поле или на вершине жутчайше высокой горы, не как в привычной и родной, совсем уж знакомой нам «плоской» комнате… Полный восторг души, образов и фантазии. На концерте такое мы играть не могли, нет, конечно. Политотдел даже намёка на ту музыку не разрешал. «Ни-ни!.. Не дай Бог!» — округлял глаза дирижёр, хмурил брови и укоризненно качал головой старшина оркестра. — Ни в ритмах, ни в гармонии, ни в темах!» На то и «особый отдел» есть, ежели что. Вот!
Но мы всё это играли, правда, закрыв двойные оркестровые двери на замок, и почти всегда на «пиано». Чтоб не услышали.
У Женьки еще было одно отличительное достоинство — собственный тромбон. Причем, фирменный, импортный, и естественно, дорогой. Не у каждого нашего сверхсрочника-музыканта был свой инструмент вообще, а импортный тем более. Кроме, конечно, мундштуков. Тут уж, хвастались удобством, легкостью мундштука, кто, где, как и за какие «башли» достал. Хвастались, наравне с количеством одномоментно, зараз, на спор, выпитого пива… Тромбон у Женьки из белого металла, с желтой, золотом, витиеватой эмблемой. И собственный, специальный какой-то, под Женькины губы, мундштук. Высший класс музыкантской оснастки. Женька держал его строго в жестком футляре или в руках, или на коленях — берёг таким образом. У старших наших музыкантов, у сверхсрочников, было своё мнение на этот счет, вернее два мнения: Одно: «И на хера это было в армию везти такой дорогой — свой! — инструмент!..» — в смысле, дурак. И второе: «Молодой» еще иметь такие вещи!» В смысле, не заслужил ещё, потому, как молодой, сопляк. Но, это было их мнение, не больше. Мы видели — завидуют. Завидуют, конечно! Иногда сверхсрочники брали, с разрешения, попробовать «звучок» Женькиного инструмента. Он давал, но без мундштука, и стоял рядом, оберегая от небрежности. Отгудев, вслушиваясь, поджав губы, удовлетворенно покачивая головой, сверхсрочники возвращали, говоря: «Ни чё инструментик… ни чё. — Сохраняя «статус-кво», добавляли. — И лучше бывает. Вон, у Сёмина, из окружного оркестра, видал тромбончик, да?». Женька, понимая их «деликатность», хмыкал, мол, тромбон, как тромбон, дело, мол, не в этом, а в яйцах, которые тому танцору мешают. В общем, пусть завидуют. Тромбон Женьке привезли родственники из дома.
Еще один срочник — большой барабан — Алексей Светлов, он же контрабасист. До армии учился в ДМШа (детской музыкальной школе) по классу виолончели. Родители когда-то, говорит, как насели, как насели… Изнасиловали, можно сказать, морально и загнали в музыкалку, заставили. Лёшка, естественно, говорит, жутко стеснялся этой своей «балалайки», и непременной бабочки под горлом. О том «чудном» времени он вообще вспоминает только с кислой миной, как о сплошной «детской великой освободительной войне». Так уж, говорит, трудно далось досидеть до конца школы. Мы представляем, искренне сочувствуем, если каждый поход в музыкалку под властным конвоем бабушки (ефрейтора, как её называл Лёшка) и все отчёты потом — бой в осаде. Полностью отсидев программу, сдав там всё, как бабушка-ефрейтор велела, Лёшка неожиданно увлекся игрой в Доме культуры «Железнодорожников» в эстрадном оркестре на младшем родственнике виолончели — на контрабасе. Вроде разница только в размерах инструментов, а вот увлёкся. «Руководитель оркестра — вот такой вот мужик, чуваки! — классическим джазом увлек. Представляете?! Вот это музыка. Вот была жизнь, чуваки, как во-сне: Дюк Эллингтон, Глен Миллер, Цфасман… Такие имена, такая музыка, чуваки!.. Одно слово — джаз». Запросто «пилил» там, говорит, и смычком.
У нас конечно не джаз, поэтому он в ансамбле играет на домре бас. Ну, понятно, что это далеко не то. Что ж делать? Родине виднее, где служить нашему Лёхе Светлову. На то она, как говорится, и Родина. Свою фанерную треуголку он не уважает, не эстрадный контрабас, как-никак, но в русском народном оркестре он на месте, незаменим — руки поставлены, техника хорошая, читает ноты с листа, артистичен. «Наша школа! — говорит старшина оркестра Харченко, гордясь хорошим музыкантом, — виртуоз парень. Кстати, берите пример, товарищи срочники. Далеко пойдет рядовой Светлов, далеко». В этом месте всегда кто-нибудь из сверхсрочников обязательно добавляет: «Пока милиционер не остановит, ага». Ха, завистники! Понятно, они. Мы-то знаем, Леха просто балуется на этой домре, природный артист потому что. А в военном духовом оркестре он небрежно машет колотушкой. С равнодушной миной шлёпает, плющит бычью шкуру барабана. Там вообще ему просто.
Теперь о нём самом. О внешних отличительных данных. Ну-ка, Лёха, повернись-ка, отрок…
Что вам сказать… В общем-то, и нечего вроде пока. Метр восемьдесят, худой, поэтому кажется ещё выше. Прическа — под «ноль», под машинку значит; уши естественно торчат; глаза большие и серые, ввалились, — не с блинов парень, с учебки только что, но блестят любопытством и озорством. Нос чуть коротковат и курносится. Курносится не сам по себе, а часто принудительно. Алексей постоянно шмыгает носом, и коротко проводит ладошкой снизу вверх, проглаживает нос, задирает зачем-то. Привычка, говорит, такая, с детства. Музыканты-сверхсрочники язвят: «Это пройдет, — друг-другу подмигивая, говорят, — женится, руки найдут другую забаву. Ага! У бабы, промеж ног! Ха-ха». Мы их не слушаем. Такие «взрослые» пророчества мы пропускаем про меж ушей. Кстати, руки у Лёшки длинные, пальцы рук тоже, но сильные. Это понятно, подергай-ка, тугие струны год за годом! Что еще?.. Про одежду можно не говорить, у всех она одинаковая — мешком. У него, к этому, еще и ноги худые, значит, голенища болтаются. «Велосипед» Лёха крутит, кто это видел, здорово и эмоционально. Что еще за велосипед такой в армии? Ну, это шутка у нас такая, кто не знает, с учебки, классная причем — бросишь незаметно в голенище окурок, и через пять минут, наблюдаешь мощный финишный спурт «велогонщика». Не в прямом, конечно, смысле велогонщика, а парня этого, у кого ноги в голенищах тонкие и болтаются. Весело так всем, ага! Да ничего особенного, игра такая… У него шаркающая пятками сапог походка, сутулые плечи — как бы обнимающие женские формы любимой виолы… нчели. На лице маска скуки и глубокой меланхолии… Тут понятно, мы все такие — замеланхолишь, когда впереди три года строгой изоляции от… да-да, именно от жизни, девочек, горячих и желанных, и от джаза тоже, и от нормальной еды, от мороженого, крем-соды… Короче, это Лёха Светлов. Хороший парень, нормальный пацан.
А вот нам на встречу, как по заказу, «скачет» и Артур. Почему скачет? А иначе он еще ходить не может. Стиль, говорит, такой у него с гражданки сохранился «попрыгучий», боксерский. На Сахалине и на Камчатке все так, он говорит, ходят, точно. Потому что все лучшие боксеры именно там, и именно с детства… (а я думал, там все прыгают, чтоб не замёрзнуть!) В этом и философия, и стиль его жизни.
Об Артуре.
Артур Дорошенко, с Сахалина, девятнадцать лет, — баян, альтушка, гитара и вокал. Жизнерадостный, симпатичный парень с налетом какой-то жутко северной национальности человек. Весьма сложный, по первому взгляду, сплав холодных ген и горячих хромосом, при резком взбалтывании дающих эффект горячего южного темперамента, с элементами небольшого землетрясения либо взрыва. Меньше атомного, правда, но всё же в тротиловом эквиваленте. Как эти невидимые ХГ и ГХ (холодные гены, горячие хромосомы) неведомым образом соединились в нём, предстоит отдельное научное исследование Нам сейчас некогда этим заниматься, пусть уж его потомки разбираются — потом, не сейчас. Подвижный и энергичный, как ртуть, пацан, накачанный через край свободолюбивыми и честолюбивыми амбициями и жизненной энергией. С лицом и фигурой начинающего боксера, с соответствующей внешней визиткой — приплюснутым носом, толстыми губами, резкими и задиристыми движениями рук и ног, как на показательных бойцовских выступлениях. Тут же, мгновенно, что называется — не отходя от кассы, готовый постоять за честь и достоинство неведомого нам какого-то далёкого Сахалина, вместе с его заливом Лаперуза и еще чем-то там неведомым и туманным, и за себя самого, естественно.
На репетициях же и концертах у него наоборот — умильное, прилежное выражение лица, сосредоточенно приподнятые бровки, наморщенный лоб, в знак слияния с гармонической канвой музыкального произведения, изящные скромные ямочки на толстых щеках, чуть заостренное к подбородку вытянутое лицо, чувственный, искрящийся задором и скрытой хохмой взгляд, дополняют едва сдерживаемую, возвышенную артистическую натуру. Это Артур. Или Ара, по-нашему. Тоже вундеркинд или самородок, не знаю, что точнее.
У нас все такие. Да!
И я — тарелки, — круглые такие, большие, блестящие, турецкие — Павел Пронин, баянист, значит. О себе, если откровенно, как о других ребятах, я так «бодро» не могу сказать, это точно.
В музыканты я не собирался, в артисты, тем более, что еще хорошего о себе сказать и не знаю. Так же коротко острижен, так же одет, как и все, так же задирист, так же внутренне и внешне дезориентирован на привычные жизненные ценности и установки… Поясню.
Случается, — резко бултыхнёшь закрытую банку в крепких руках, раскрутишь в ней всё содержимое, что там в ней было, к чёрт… в смысле вверх тормашками, и поставишь резко потом на стол. Внутри в ней всё ещё дико кувыркается, перемешивается. И не понятно пока, где верх, где низ, и вообще, за каким это х… в смысле к чему это всё было?! Это я в натуре и есть сейчас, армией раскрученный, на голову поставленный, если образно. И не знаю я еще себя, только же все начинается. Ещё утро моей жизни, если образно. Ещё не встал человек, не поднялся… Именно! Не встал, не поднялся, только глаза раскрыл, а тут тебя, оба-на, мешком по башке, бабах, в смысле в армию, и смотрят, ну как она тебе, наша жизнь, пацан, ничего или еще добавить по тыкве?.. Если образно…
Есть ли ещё какие таланты у нас? Да есть, вроде… Конечно, есть. А у кого их нет, в наши-то годы?
Вот теперь можно рассказать и об оркестре. О дудках…
До армии с военным духовым оркестром я никогда не встречался. Правда, обычный духовой оркестр иногда приходилось слышать, но мимоходом. В лучшем случае, когда он из оркестровой ямы играл «Гимн» страны на торжественных мероприятиях, либо «Туш» на награждениях, и еще, быть может, какой-нибудь вальс — «На сопках Манчжурии» или «Осенний сон» с «Тоской» вместе. А в основном, в худшем, это были надрывно скребущие, жалобные звуки похоронных процессий. О-о-о, как увидишь на улице блеск белой или желтой меди, хитро закрученного какого-нибудь духового инструмента, сразу понимаешь: где-то, значит, похороны. Ууу… Уши затыкаешь, глаза в сторону и быстренько-быстренько так сваливаешь куда-нибудь подальше от этих звуков и этого места. Похороны — очень и очень неприятное зрелище для живого мира, тем более молодого. Такое вот негативное отношение у меня воспиталось «гражданкой» к духовой музыке и духовому оркестру на момент прихода в армию. Причём — помню! — звучали оркестры всегда не профессионально, не стройно, как-то визгливо… невкусно и противно. Да и выглядели музыканты как разномастный и разноцветный сброд: молодые, совсем молодые, старые, совсем старые, длинные, низенькие, средние, толстые, худые, лысые, патлатые. В шляпах, фуражках, в рубашках, костюмах, туфлях, ботинках, штиблетах. Кто — как, и во что горазд. Жалкое и убогое зрелище.
То ли дело «джаз-бэнд», «биг-бэнд», «диксиленд», «инструментальный ансамбль», наконец. Это эталоны! Это да! Ну, например, оркестр Глена Миллера или Олега Лундстрема, или Тбилисский ансамбль «Орера», или Белорусские ВИА «Песняры», или… да мало ли.
Но первая встреча с военным оркестром (там, в учебке) перевернула и изменила представление о месте военной духовой музыки в моем сознании. Не оценить значение, красоту и достоинство военной духовой музыки я, музыкант, безусловно, не мог. Судите сами: почти безупречная стройность и чистота звучания оркестра — это раз. Бравурный, жизнерадостный, патриотический репертуар — это два. Единая форма одежды, причём, военная, с погонами, портупеями, начищенными сапогами — это три. Внешняя слаженность действий, серьезность и дисциплина музыкантов — это четыре. Блеск и нищета… Стоп! Что-то не то вписалось! Причём тут какой-то роман о каких-то куртизанках?.. Конечно же, не при чём! Созвучность подлая ненароком выскочила-проскочила, подвернулось, так сказать, ёлки-палки, извините! Конечно, у наших музыкантов «блеск начищенных инструментов», вот что я хотел сказать, блеск инструментов, да — это уже пять. Непременное участие военного оркестра во всех торжественных мероприятиях, как самого полка, так и военного гарнизона в целом — это шесть… Что ещё? Уже не мало, говорите? Согласен. Достоинств действительно набралось на вагон и маленькую тележку.
И вот я, никогда не думая и не мечтая, неожиданно для себя попадаю служить в военный оркестр. Притом, заметьте, в важную его часть: в ритм-группу. Буду играть (представьте!) — на круглых, больших медных тарелках! О, эти тар-ре-елки! Э-это пе-есня! Теперь я точно знаю, какой в военном оркестре самый важный инструмент… Люди, все знайте — это тарелки! Причем, я это утверждаю на полном серьёзе. Я полюбил военную маршевую музыку сразу, а через полгода и эти тарелки. Я даже берусь утверждать, что тарелки в военном оркестре — это как томатная приправа в борще. Яркая вспышка неукротимой (не побоюсь этого слова) сексуальной энергии! Чёткий ритмичный штрих! Игривая синкопа! Темперамент! Блеск! Украшение и вдохновение всего оркестра. Причём всё это в одном месте и всё сразу. Прелесть! Кстати, кто с этим будет спорить, и отрицать, достоин дуэли, причём, немедленно. Оружием я выбираю — тарелки. Только они. Кто сильнее бабахнет, тот и победил.
Я утверждаю, оркестр без тарелок — это не оркестр, борщ без приправы — это не борщ, рыба в море, но без плавников — просто бревно. И всё в жизни фигня, если вы не играли в военном духовом оркестре.
Не буду отрицать, к этому убеждению я пришел не сразу (это было бы не честно), не в один момент. Это, выпив натощак стакан «Зверобоя» можно мгновенно из вертикального положение перейти в горизонтальное. Это да! Это запросто! Это я проходил, — плавали, знаем. А в случае с военным оркестром, я бы, наверное, сказал так: я попал в военный оркестр, как будто случайно и неожиданно для себя схватился за поручни вагона скорого поезда, чуть не вырвав при этом обе руки, от неожиданности и удивления, когда он пролетал мимо меня на всем своём ходу. Вися на руках с внешней его стороны, я долго и с трудом болтался, телепался, держась за тонкие, холодные и скользкие поручни. Старался не упасть, сучил ногами, подтягивался, рискуя сорваться, бился об железо, пока всё же сумел-таки, забраться в этот подвернувшийся для меня случайный вагон… Если образно, то, пожалуй, что так.
Попав в военный оркестр, мне пришлось в очень быстром для себя темпе, всё заново в музыке переосмысливать, осваивать, учить, запоминать. Да-да, и ведущие партии тарелок, конечно: ис-та, ис-та, ис-та, ис-та, ис, пш-ш-ш, цык, бздынь, цык!..
Пока я все это осознал и освоил… О-о! Дирижер не одну сотню раз останавливал оркестр и, серьезным образом, на сложно переводимом языке, прививал мне любовь и уважение к этому инструменту. Так, например, в сердцах, сквозь зубы: «Ёп…тыть, Пронин! Ну, что ты, там, понимаешь, шлёпаешь этими своими тарелками… Что, а, я спрашиваю? Это же тарелки, Пронин, тарелки! Понимаешь? На тарелках играть, Пронин, это тебе не по пи…де ладошкой хлопать! Понятно, я говорю, нет?» Этот пример меня ставил в тупик. Я не мог понять, а зачем вообще по… в смысле, по этому мягкому женскому, нежному и желанному органу ладошкой хлопать, вроде ж не для того! Непонятно. Да и вообще, о таком приеме никогда и нигде я раньше не слыхал… ни в шутку, ни всерьез. И опыта, откровенно сказать в этом, у меня, вообще никакого, чтоб опереться… Но, раз говорит дирижер, значит, знает. Не уточнять же, тем более спорить, — засмеют. Я говорил, — «так точно!» — и бабахал ими, шипяще-звенящими, невольно размышляя о том заманчивом и желанном органе, по которому даже ладошкой можно. А как это?
Именно так, целых полгода меня мудро и терпеливо наставлял военный дирижер оркестра майор Софрин, при поддержке и активном участии старшины Харченко и других талантливых воспитателей музыкантов-сверхсрочников: «Да-да, парень, это конечно… это тебе не ладошкой по… ней, понимаешь!»
Запомнить на память весь большой и сложный репертуар оркестра вначале было очень нелегко. Казалось бы, что мне, баянисту, почти свободно читающему с нотного листа, выучить однострочную партию каких-то тарелок. Конечно, ерунда, конечно, запросто! Да, говорите вы? Ну, ну! И я тоже так вначале думал, пока не открыл нотную тетрадь. А там — епись её ети! — китайская грамота! Попробуйте, не зная всего произведения, запомнить мелодию, обращаю ваше внимание — мелодию! — партии тарелок в партитуре из сплошных: тсс! тсс! тсс! тсс!.. (так вот тридцать два или шестьдесят четыре такта шлепанья), тсс! тсс!.. Потом два такта: тсс! тсс! тсс! тсс! пш-ш, цыт! пш-ш, цыт! Затем, опять: тсс! тсс! тсс! пш-ш, цыт! пш-ш, цыт! и снова тридцать два такта: тсс! тсс!.. и так далее! А всего в репертуаре оркестра двадцать пять— тридцать произведений.
За полдня, так намашешься этими красивыми, блестящими медными тарелками, глаза от удивления становятся такими же круглыми, как и сами тарелки. Спина, плечи, руки болят и вся грудь в синяках. Почему грудь в синяках? О, это знают только музыканты-тарелочники, и это наш профессиональный военный секрет. Секрет! Нет-нет, я сказал секрет, и не просите!.. В конце концов, я же в армии служу, ни где-нибудь. Должен же у меня быть хотя бы один военный секрет или нет? Конечно, должен. Вот я и говорю, граждане-обыватели, завидуйте: это и есть моя настоящая военная тайна!
На освоение всего репертуара у меня ушло ни много, ни мало, всего каких-нибудь полгода, пока я, наконец, смог вот так вот свободно и (почти!) без ошибок играть в военном оркестре, куда бы его потом не заносила воля командования и коменданта военного гарнизона. Уже достойно и на память знал не только свои партии, но и партии большого и малого барабанов, вот! Нет, я не вундеркинд. Здесь всё просто — эти три инструмента всегда работают в одной связке. Да и сами марши я уже знал наизусть — такую-то красоту, да не запомнить!
Своим упорным трудом и правильным шлепаньем, добился-таки я достойного места своим тарелкам между буханьем большого барабана и дробной сухой россыпи малого.
Кр-расота-а, братцы-товарищи!
Военный оркестр, потому что… Военный!!
28. Святая святых. Да это ж оркестровка!
Военный оркестр в полку располагал двумя большими специальными рабочими комнатами. Одна из них — каптерка-канцелярия. Просторная комната с двумя, по боковым стенам широкими стеллажами. В одном из них, за глухой зеленой шторой-портьерой, на полках, хранились музыкальные духовые инструменты и складные пюпитры. Там, в тёмной, тихой и спокойной глубине стеллажа, часто, в основном после ухода домой дирижера и старшины оркестра, спокойно «гасились», в смысле спали, старослужащие музыканты-срочники и некоторые из сверхсрочников-музыкантов. Те из них, кто по тем или иным причинам плохо ночью спал, или совсем не довелось, не был дома. Ну, например, на внеочередной «тревоге» был, или срочной какой «рыбалке»!
С другой стороны комнаты, тоже в стеллаже, тоже за зеленой портьерой, висела наша начищенная парадная форма и всякая разная ансамблевая и концертная амуниция, включая противогазы, портупеи и разную сменную обувь сверхсрочников, включая их дежурные носки.
В каптерке — это неофициальное название канцелярии оркестра, находились еще два больших тяжелых шкафа очень древнего возраста со стеклянными дверцами. Шкафы были доверху набиты нотной литературой настолько, что задние стенки их постоянно выдавливались, местами отрывались, и часть нужной (вот чёрт, ну где же она, понимаешь?) музыкальной литературы неожиданным образом с полок куда-то исчезала. По требованию старшины, мы, срочники, подняв пыль, переворачивали вверх дном всю каптерку (ну куда же она…), неожиданно находили пропажу за шкафами. Энергично руководимые старшиной оркестра и частью сверхсрочников, очень хорошо понимающих толк в руководстве любыми видами работ, мы, срочники, тужась и кряхтя, отодвигали шкафы и доставали эту злосчастную бумажку или нотный сборничек. Затем уж, восстанавливали общий порядок в канцелярии — но не в шкафу. Шкафы с нотной литературой — «не моги!» — это хозяйство и богатство концертмейстера оркестра, старшины Харченко. Никто, кроме него, не знал, где и что там лежит, и, главное, саму систему, по которой нужно было искать ту или иную партитуру в этом нотном хранилище. Производственный беспорядок в шкафах, от разного постороннего любопытного глаза вышестоящего проверяющего начальства, скрывали закрашенные белой краской стекла с внутренней их стороны, и маленькие надежные навесные замочки, свободно открывающиеся любым подвернувшимся гвоздиком.
В комнате находился ещё один, не менее важный для музыкантов предмет — небольшой канцелярский стол. Относительно цвета скатерти вы уже догадались? Правильно, тоже, в гармонии со стеллажами, под зеленой, но выцветшей и затертой локтями, накидкой. Это рабочий стол и бесспорное место дирижера и концертмейстера нашего оркестра, почти трон, святое место. И куча младших родственников к нему, то бишь стульев. Стулья, в отличие от добропорядочного стола, от старости или небрежного к ним отношения, могли неожиданно, совершенно легкомысленно и свободно разобраться на мелкие детали, и незадачливый военнослужащий резко, и с грохотом, оказывался на полу. Конечно, под восторженный вой и радостный хохот всего состава оркестра. За это мгновенно и достойно, в устной форме, конечно, попадало Володину, как старослужащему-срочнику (а кому же еще?). «Почему так плохо ремонтируются стулья у нас, в конце концов, понимаешь, а? У вас что, Володин, времени нет или руки не тем концом вставлены, я спрашиваю?»
Нет, руки у нас, по крайней мере, у некоторых, вставлены нормально, так сказать, как задумано, по партитуре. И эти подлые стулья мы клеили постоянно, и очень добросовестно — это точно. Еще и верёвками их стягивали, для прочности закрепления. Но сверхсрочникам нравилось таким вот образом хохмить друг над другом. Специальным образом ими подготовленный стул-подлянка, был одним из невинных методов развлечения для всех музыкантов оркестра. А что такого? Скучно же…
Тут важно было одно, чтобы майор или старшина, даже случайно, не сели на очередной стул-заготовку, и чтоб стул развалился не в первую секунду, а попозже, во время репетиции, например. Это был высший музыкально-хохмический пилотаж. В середине звучания какого-нибудь величественного марша, с шумом падающий на пол музыкант, отлетающий пюпитр с ворохом разлетающихся нот, горохом сыплющиеся деревяшки стула, «напольная» поза и беспомощное выражение лица незадачливого музыканта, неожиданно для себя, да и для некоторых других, вдруг грохнувшегося на пол — это, конечно же, что-то! Это нужно видеть! А тот аккорд, который от неожиданности взял и на котором завис оркестр, не один в мире концертмейстер-аранжировщик не запишет. Это вам не простая банальная «кикса», это всегда — нечто! Со вкусом, и вздохом! Дирижер же, вздрогнув от испуга, в сердцах швырнув дирижерскую палочку в угол комнаты, с яростным возмущением набрасывается на всех сразу:
— Что вы себе, ё… вашу мать, позволяете? Обнаглели, понимаешь. Детский сад тут развели мне, понимаешь. Это репетиция, понимаешь, а не бардак тут… или что? — возмущенно кричал он, вытирая пот с лица, лысины и багровой шеи.
— Беспорядок…
— Ну, наглость…
— Чёрте что!.. — как биллиардные шары стучат, щелкают возмущенно друг о друга и о борта слова. Старшина, да и все остальные, с раздосадованными и сердитыми лицами, с негодованием крутят головами, ищут наглеца, подстроившего эту неожиданную неприятную пакость оркестру.
— А кто это?..
— Чёрте что!..
Конечно, это не мы, это не срочники. Срочников, это точно не касается. Все знают — это может быть кто угодно, только не срочники.
— Товарищ старшина, — гневается, серчает, как всполошенный петух, дирижер, — найти мне немедленно! И немедленно же наказать этого наглеца: пять суток ареста от моего имени. Понятно?
— Так точно, — вполне искренне рапортует старшина, — Найти и пять суток…
— О-отпуска… — чья-то тихая, язвительная, шёпотком, подсказка.
Ну что ты будешь делать!.. Ехидный смешок, разливаясь по смущенно-раздосадованным лицам музыкантов, напрочь портит картину расправы над «барабашкой».
— Кто это щас сказал? Кто это, а?.. Это вы, Краснов?
— О, опять Краснов! Я-то причём здесь, та-ащ майор? Я вообще молчу.
— Вот и молчите, если не хотите пять суток ареста.
— Хмм!
— Хмыкает он еще тут… инструмент бы лучше почистил.
— А что инструмент-то вдруг виноват?!
— Ма-алчать всем! Разболтались, понимаешь… Никакой дисциплины, никакого порядка. Товарищ старшина, обратите внимание на дисциплину… внешний вид и готовность оркестра к занятиям… Бардак, а не оркестр.
— Есть!.. — Мямлит старшина, теряя причину и следствие.
— Так, вот!.. — Внешне успокаиваясь, ставит командирскую точку майор.
Весь оркестр аж дважды возмущен, взбудоражен. Все крутятся на местах, ищут вроде бы хулигана. Но найти злоумышленника, по его — должно бы — радостному или ухмыляющемуся лицу здесь, в оркестре, не возможно. Как говорят: «Чуваки, не тот Агдам!» Музыканты, как все артисты, умеют лицо держать, — будь спок! А уж, военные то… я вас умаляю! У музыкантов на лицах сейчас, у всех до единого, неподдельное возмущение и явное осуждение. Угадать злоумышленника невозможно. Все чисты и невинны, как ангелы. Получается, что его здесь, мягко сказать, вредителя, просто и быть-то не может. Помитинговав, спустив пары, в конечном счёте, всегда сходятся на одном: «А и нечего было, понимаешь, задницей елозить!.. (Это в адрес пострадавшего) Сидеть нужно было аккуратно, как все, и не срывать людям репетицию, понимаешь». Попадало, естественно, пострадавшему. А кому же ещё! «На стуле тихо сидеть надо, аккуратно, не дёргаться…»
— Десять минут перерыв. — Устало машет рукой дирижер.
— Орке-естр-р… — энергично дублирует старшина…
Автор же этой хохмы, злодей тот подколодный, радостно и с удовольствием открывается всегда сам и только после занятий, за пивком или «борманом». На всякий случай уточню: борман, это не тот, который партайгеноссе Борман у немцев, а тот, борман, который вино-бормотуха у нас. Попросту говоря, тоже — «борман», но свой, как Агдам. Вроде не одно и тоже, а всё одно получается, что враг, но приятный для «организму сперва». — Именно так сверхсрочники обычно о «бормане» отзываются. Это к общему сведению про нашего и ихнего Бормана.
29. Здравствуйте, товарищи музыканты…
По прямому, канцелярскому назначению сам стол-трон использовался мало: когда дирижер был в комнате, когда Харченко раздавал нам задания срочно размножить, переписать от руки новые партии из партитур или когда выписывал увольнительные в город, пожалуй, и всё.
Все предметы в комнатах-классах по-хозяйски основательно, жирно пронумерованы чёрной, с потёками краской, соответствующими инвентарными номерами. Наличие и свежеокрашенность всех предметов в канцелярии, и в оркестровом классе тоже, периодически проверялись разного рода и уровня очень серьезного вида комиссиями — всё ли у них здесь на месте?..
Большую же часть времени на этом столе сверхсрочники, до работы или после неё, играют в карты — яростно расписывают «пульку». Играли на деньги по-маленькому. Это естественно, откуда у сверхсрочника могут быть деньги, к тому же лишние, а уж, тем более, большие… Ставки были не большими, но играли всегда азартно, проигравший покупал пиво — летом из бочки, зимой в бутылках. Непременно, как пить дать! О том, что бочку со свежим пивком уже подвезли (можно начинать играть), со всей ответственностью информировал Петр Кабанов. Заядлый картежник, бабник, говорят, любитель дармового пива (на халяву прокатиться у нас любят не только музыканты) и хороший трубач. Он («чуваки», только для дела!) был тесно знаком с толстой продавщицей того пива на углу кинотеатра «Молодежный». Уже по дороге на работу он предвкушал приятный, мягкий и прохладный глоток пивка… или, что совсем не хуже, стаканчик «Агдамчика» либо какого другого «бормана». Одно было плохо — это произойдёт только после работы. Но кайф, есть кайф. Кайфовать ведь, товарищи-лабухи, можно и от ощущения предстоящего кайфа, да? Вот!.. Это как вечный кайф получается. Короче, Кабан уже с утра балдел.
Утречком, вваливаясь в каптерку, он, потирая руки, тут же провоцировал не разогретую ещё толпу музыкантов-сверхсрочников на карточную пулечку: ну что, «товарищи-лабухи», распишем, быстренько, пока майора нет, а?
«Кабан» был всегда в курсе: когда и какое пиво-свежак привезут. Бочка ведь у него всегда была и на пути к работе и, естественно, обратно. Любитель пива и «Агдама», но, часто не имея на это личных средств (моя Лялька, падла, опять заначку всю вычистила!), он пользовался чужими. Всегда, всеми правдами и неправдами старался выиграть или занять деньги, под клятвенные, естественно, обещания всё вернуть с получки или с пайковых. Большая часть сверхсрочников оркестра дружно и с азартом разделяла основные жизненные принципы «кабана»: непрерывно стреляли деньги друг у друга и где могли, где получалось… После репетиции музыканты группками, в разных вариантах, под одним главным лозунгом: «А не вмазать ли нам винца?..» с энтузиазмом кучковались в этом направлении. И получалось…
Часть наших музыкантов отлеплялась от той бочки уже в сумерках, около девяти вечера или чуть позже… «Ни-ичего подо-обного, чувак, как-кой на х… патру-уль, мы же по гражданке. Ну и что, что галифе и хромовые сапоги — а мы без погон. П-пусть это никого не беспокоит. Чуваки, у нас же личное вре-емя… А говорим мы только за дружбу, и ни к кому не пристаём… Кто матерится? Я?! Никогда!.. Мы о рыбалке говорим. Кстати, а вы, товарищ, не рыбак, нет? Ну, значит, охотник. Тогда, слушай сюда, земляк, у тебя башли с собой есть?..»
На следующий день на разводе, командир полка с высоким презрением и тяжелым сердцем в голосе, делает дирижеру, а значит и всем музыкантам, очередной, последний втык, относительно музыкантов-сверхсрочников, которые: «…Опять позорят, понимаешь, честь военнослужащих. Честь нашего полка! Вечером в нетрезвом виде пристают к гражданским, понимаешь… Стреляют у них деньги на вино, понимаешь. Позор! Хорошо, что их опять задержали дружинники, а не патруль, па-аешь, вот уж тогда бы я… Кстати, пятый — а кто пятый? — мне докладывают, товарищ майор, там было пять ваших музыкантов, пять! Так вот, пятый из них убежал! Струсил! Не по-мужски поступил, не по-военному это… Может, скажете нам, всем здесь, товарищи музыканты, сейчас, честно, кто этот пятый с ними был, а? Кто?.. Молчите!.. А еще музыканты… Не стыдно? Товарищ майор, предупреждаю в последний раз — в последний! — еще раз попадутся ваши музыканты, всё… Получат от меня на всю катушку. Ясно? По десять суток!»
С периодичностью раз в неделю, всё повторялось. Менялись только нюансы историй, их гармония, а канва произведения, действующие лица, и «втыкающие» — от зама по строевой, до командира полка и обратно — оставались.
Когда денег не было, а это было почти всегда, музыканты-сверхсрочники играли на шалбаны по носу или по ушам. Весело получалось, но всегда серьезно. Проигравшие, пару дней с расстроенными лицами светились потом вспухшими лбами, красными, с фиолетовым уклоном носами и пухлыми, с малиновым отливом ушами. Их дружески, чуть свысока и ехидцей, поддерживали: «Крепись, «чувак», такова «се ля ви»! А не умеешь играть, не х… садиться! Хи-хи!» В любом случае эмоции перехлестывали через край, как среди игроков, так и среди болельщиков. Шум, дым, хохот и подначки, распирали объём комнаты, как пар под крышкой кипящей кастрюли. Только самые взрослые из сверхсрочников, Фомин и Харченко, старшины, снисходительно морщились и ехидно усмехались, глядя на этих взрослых «дурил» со стороны, и никогда в этом не участвовали… Да ещё мы — срочники. Мы не играли, нет. А на что сверхсрочникам, извините, с нами играть — «дай, дядя покурить», что ли? Нет. Все знают, денег у нас вообще нет, да и в город мы не выходим… совсем уж редко.
В комнату, 8.45 (неожиданно, как ему всегда кажется), входит дирижер и останавливается. За пару секунд до этого карты сметаются со стола по карманам играющих. Присутствующие и активные зрители успевают раза два— три махнуть в воздухе руками, как лопастями вентиляторов, взвинтить сизый табачный дым, и привести лицевые мышцы в подобающее встрече с начальством приличествующее, уважительное состояние.
«Орке-естр, смир-рна! — зычно командует старшина — он всегда ближе к двери, и, в наступившей тишине, делает несколько шагов навстречу офицеру. — Товарищ майор, за время вашего отсутствия, — торжественно сообщает старшина Харченко, — в оркестре происшествий не произошло. Старшина оркестра старшина Харченко». Майор, держа руку чуть на отлете, как Сталин на трибуне Мавзолея, стараясь не дышать ядовитым воздухом, укоризненно оглядывает своих подчиненных:
— Ууу!.. Всё игра-аете… — как приговор, с безысходной грустью угадывая, устало произносит он. Искоса оглядев всех, всё же здоровается. — Здравствуйте, товарищи музыканты!
Музыкантов учить здороваться не надо.
— Здравия-желай-та-арщ-майор! — мощно и слаженно рубят музыканты. Получается это у нас всегда здорово — громко и чётко, как наш ответ Чемберлену или… кто там сейчас нашей стране жить мешает?.. Нака-сь, мол, выкуси. То бишь знай наших!
— Во-ольно, — почти умиротворенно отмахивается майор. Он знает, наше радостное образцово-показательное приветствие слышно, наверное, даже за пределами города, не то что в штабе полка, но и Политотделе дивизии, что более важно, Такой слаженный рёв, да не услышать! Можно бы и на голоса, кстати, расписать… прищурившись, майор смотрит на концертмейстера Харченко.
— А накури-или-то… Филиппов! — Найдя взглядом своего любимчика валторниста (они оба из Чувашии), дирижер, по-барски недовольно морщась, дает указание. — Что такое, Филиппов, понимаешь, дышать нечем, а?.. Проветрите помещение. — Фф-фу!..
До обеда мы репетируем в своём оркестровом классе. Это наверху, на четвёртом этаже.
Оркестровка — большая пустая комната, задрапированная таким же зеленым бархатом для звукоизоляции. Стулья, пюпитры, небольшой дирижерский помост-возвышение, дирижерский же пульт и крепкий стул. К этому можно добавить имеющиеся, но не существенные для репетиций предметы: двойную дверь, выключатель, четыре люстры и два больших окна на городскую улицу, наглухо закрашенных белой краской, чтоб, значит, музыканты света белого не видели. Но мы, срочники, с этим не согласны, процарапали там, где и сколько надо, чтоб визуальную связь с внешним миром не терять, быть в курсе, ежели чего! Хоть и третий этаж, а женские фигуры разглядеть можно, когда нужно!
До начала занятий музыканты, разбредясь по классу группами или поодиночке, «раздуваются». Специальными упражнениями, извлекая звук, разогревают мышцы лица, губ, «дыхалку». Разогревают и пальцы… В начале духовики на разные лады берут каждый свою нотку и с разной силой тянут этот звук, прислушиваясь к нему и настраиваясь. К всеобщей громкой какофонии примешивается… Стоп! Кстати, о какофонии. Вы представляете, из каких двух слов состоит слово какофония?.. Да, да, именно! Теперь, вам понятно, какая музыкальная громкая «фония» стоит в это время в оркестровом классе? За-бал-денная! Так вот, к всеобщей громкой какофонии примешивается резкая прерывистая дробь малого барабана и громкие хлесткие удары большого… То мягко, то агрессивно, прорезая общий музыкально-шумовой кавардак, звучит глиссандо на тромбоне… вверх, вниз, вверх, вниз. Николай Эпов балуется, выпучив глаза и надув щеки, прогоняет на своей «тубе» звучание самых низких её звуков — бу, бу, бу, бу, бу-у-у! Просто так, для «разогреву» шлепают, шипя и звеня, тарелки… Трубачи, взяв терцию, разогреваются попеременно на мажорных, минорных гаммах, гоняя их в разных темпах вверх-вниз, тоже настраиваются. Кларнетисты, саксофонисты, флейтисты, на разные лады, в разнобой, соревнуются в скорости исполнения форшлажистых пассажей. Упражнения у них звучат то связно — легато, то отрывисто — стаккато. И темп, соответственно, то быстрый, то медленный. Альтушки, поддакивая, тянутся за своим старшим братом, баритоном — ис-та, ис-та…
Заняты все. Музыканты готовят свой амбушюр, пальцы, память и инструмент к исполнительской работе.
Минут через двадцать, старшина оркестра, щёлкая дирижерской палочкой по краю деревянного пульта, властно прерывает музыкальный хаос-беспорядок, приступает к настройке всего оркестра. Взяв одну нотку, все музыканты подстраивают звук своего инструмента до возможного абсолюта его точности. Старшина Харченко, чуть склонив голову на бок, чутко прислушивается к звучанию… у него самый-самый, говорят, абсолютный слух! Он, чуть недовольно морщась, показывает рукой: кому подтянуть звучок, а кому нужно чуть-чуть занизить. Потом настройка оркестра проверяется на звучании в общем аккорде. Прислушиваясь, старшина поднимает дирижерской палочкой звучание оркестра на «форте», затем, резко опустив, слушает исполнение на «пиано»: «Так, так… Угу… угу!..» — Удовлетворенно кивнув головой, ставит точку — пойдет! — уступает место дирижеру. Если майора нет (где-то ещё, понимаешь, ходит там, в своем Политотделе, светится), сам начинает репетицию.
Час сорок минут упорных занятий, и мы прерываемся на первый перекур. После высоко возвышенной музыки, как-то неудобно сразу говорить о прозе. Нужен какой-то бы мягкий здесь переход, к низменной прозе солдатской жизни. Очень бы вот хорошо бы… Но его, перехода, в реальной жизни нет, скорее наоборот… И мы обойдемся без переходов… Ради правды жизни. Ради неё.
«Ур-ра, перерыв!» — это видно в блеске глаз музыкантов, суетливых движениях их рук, быстренько укладывающих инструмент на свое место, на свой стул, и ног, заплетающихся в растопыренных ножках своего пюпитра, и попутно в других… Мы — срочники, бодро подпрыгивая несемся в туалет и, с определенной надеждой, в «курилку». Сверхсрочники же наоборот, важно и солидно, идут не спеша, не торопясь. Тому есть причина. Они знают, что мы, срочники, опять сейчас будем у них клянчить в худшем случае — закурить, в лучшем случае — докурить. Наших-то, солдатских, денег хватает на сигареты (кто еще этого не знает?) не более чем на два дня, и всё, потом — голяк! Мы мгновенно переходим в разряд активных и назойливых «стрелков». Это конечно неприятно, но приходится клянчить, надоедать и унижаться.
— Ты, чувак, не обижайся, — почти спокойно, как школьнику, постепенно накаляясь, разъясняет очередному «стрелку» сверхсрочник, — сам, понимаешь, прикинь хер к носу. — Загибает пальцы. — У нас в день два-три перерыва помноженное на пять — вас, курящих, пять стрелков, так? Так. Это все умножить на пять-шесть дней в неделю… Да всё это потом перемножить на четыре… Сколько уже получилось?.. О-о, чувак, можешь и не считать — до хрена и больше! — Сам уже удивившись результатам даже приближённых подсчётов, с раздражением отмахивается сверхсрочник, — ни хрена себе, сколько тут действительно денег на ветер получается! — И совсем уже распаляясь. — Тут только на вас одних горбатиться надо. А мне еще родной жене нужно что-то отдать, детям, алименты, и долги кое-какие вернуть, и себе на сигареты отложить, и на заначку — на пивко, с «Агдамчиком», и… О-о! Всё, хорош, отъеб…! Заеб…ли! — Орет. — Нет у меня больше закурить! Нету, сказал… — Видя, что, пожалуй, перегнул палку, к срочникам ведь тоже очень часто приходится обращаться, а это чревато равноценным отказом, что конечно же не желательно. Понимает, нужно делиться. Чуть мягчеет. — Ладно, тебе — только тебе! — курнуть дам. Но, чувак, последний раз. Всё, больше никто не подходите ко мне, и не просите. Нет! Понятно? Все отъеб…! Нету у меня. Вон, у Пилы стреляйте, у него еще целая пачка (Пила это, надо понимать, Геннадий Пильщиков, сверхсрочник, альтушечник).
— Чего-о-о? — взвивается неожиданно подставленный Пильщиков, видя, как пять пар глаз срочников, разом вилкой втыкаются в него. — Какая пачка? Откуда она у меня взялась, чуваки, вы что? Я сам уже неделю без денег, сам, как падла, стреляю. Да он понтит, чуваки, не верьте, на меня стрелки переводит, ну! Вот хитрый, гад! Нету у меня ни одной. Даже бычка. Вот, смотрите! — хлопает руками чечетку по карманам. — Дупль-пусто. Клянусь!.. А у него, жмота, точно есть, и в заначке еще одна. Я видел… Ха, ха!
Шутки шутками, но очень часто сверхсрочники раздражаются вполне конкретно, на полном серьезе. Нервными все становятся, злыми, как собаки, особенно ближе к концу месяца, перед их зарплатой.
Да всё мы, срочники, понимаем, чего там, не тупые. Но, сами-то они ведь курят… Значит, надежда есть. Вот и ходим за ними, как хвосты, вот и канючим, преследуя… Может, они где и бросят неосторожно окурок, может и удастся кому выпросить… когда… Но обычно докуриваем всё то, что оставят нам сверхсрочники. Так вот.
Проза.
Конечно, проза, голимая, к тому же!
Солдатская…
30. Вхождение в канву…
Первое время, в связи с моим приходом в оркестр, дирижер гонял весь репертуар оркестра — вводил меня в состав. Сверхсрочники ехидничали по поводу моих ошибок, нервничали: «Това-арищ майор, ну чё одно и тоже играть, пусть «молодой» отдельно всё выучит и сдаст старшине, а потом и будем все вместе играть…» «Р-разговоры, пожалуйста, прекратите!.. — обрывал дирижер, щелкая очередной, еще целой, дирижерской палочкой о пульт. — Внимание! Приготовились… Третья цифра, вторая вольта, из-за такта… все вместе… Тара-ра-ис!..»
Несколько позже, в феврале, из оркестровой службы округа пришел очередной утвержденный репертуар к майскому параду. Нужно было срочно готовить несколько новых маршей и несколько видоизмененных трактовок старых. Все, естественно, отвлеклись на новые вещи, срочно начали разучивать майский репертуар. Работы у оркестра всегда было очень много: и разводы на занятия, и строевые, и репетиции, а к параду добавились еще и сводные, и даже ночные… А у меня нагрузка была итого больше, ведь после обеда я садился за баян.
Юрий Володин, серьезный взрослый парень, он был действительно для нас стариком (почему-то призывался на службу с двухгодичной отсрочкой!), срочно передавал мне свои музыкальные партии в ансамбле. Он тогда исполнял все ведущие аккомпанирующие партии от хора, до солирующих в инструментальном квартете, во всех жанрах ансамбля песни и пляски.
Партии порой были довольно сложными, требовавшими хорошей техники, легкости и определенного мастерства. А я ошибался, сбивался, не тянул темп — нервничал. Пальцы долго не хотели приходить в норму, в рабочее состояние. К тому же, всё написанное нужно было запомнить, знать наизусть, играть без нот, только на память…
Подгоняло ещё и понимание того, чем быстрее я заменю Володина, тем у него больше шансов (хоть на неделю!) раньше уйти на дембель. Дирижер не один раз, при всех, хитро улыбаясь, обещал Володину: «Ну, а что я, что я? Как вот Пронин тебя заменит, Володин, так вот и сразу, ну!..» В этом, я всей душой стремился «старику» помочь. Юрка, подбадривая меня, похлопывал по спине: «Давай, давай, моя смена, старайся, молодой, служи. Родина и я, тебя не забудем!»
Мы все, и не только в оркестре, знали и гордились, что наш Юрка Володин, в числе очень и очень не многих ходит в город в вечернюю школу, в десятый класс. Учится! Представляете? Невидаль! Экстраординарный случай! Каким-то невероятным образом Политотдел дивизии взял да и разрешил нескольким солдатам третьего года службы, естественно отличникам боевой и политической подготовки (а Володин точно был отличником) посещать, под определенным контролем Политотдела полка, вечернюю школу — неподалёку от самой части, в районе какого-то завода. Где это, я не знал, из части я тогда еще не выходил — не было времени, да и к чему… У Юрки получалось, что именно к своему дембелю и должен был он тот аттестат получить, и уволиться из армии. Относительно этой учебы, Юрий мне по-секрету сообщил, что один аттестат у него уже дома есть, но второй не помешает, да и перед поступлением в институт хорошо бы кое-что вспомнить — уже пять лет после школы как…
Серьезность его намерений, сама учеба в армии, в вечерней школе, причем, на отлично, и выбранный им ВУЗ нас всех (и сверхсрочников и майора, и Коновалова — нашего ротного) просто потрясали. Мне, например, даже представить себе было трудно, что он готовился поступать в московский университет, причем, не куда-нибудь, а на физический факультет. Представляете, солдат-срочник, из Хабаровска и в Москву, в МГУ и на физфак. Каково, а? Обалдеть! Очень уж высокая была, на наш общий взгляд, поставленная Володиным планка, невероятно высока… Мы все, а я так уж точно, гордились и уважали нашего Володина. Вечерами он, правда иногда, отвлекался от занятий, но только на вечернюю зарядку, и на кинофильм в клубе. Так-то ж кино!
Кинофильм, причем любой — это большой солдатский праздник! Только больные его могли пропустить, которые «лежачие» в санчасти, и то не все, некоторые все же приползали, в смысле, добирались. Да еще те не присутствовали, которые на «губе», на гауптвахте, то есть. Просто под замком потому что.
Кино — это огромный праздник не только солдатской души, но и тела. Это как пить дать. Аксиома, — железная, при чём! Почему — и тела, чуть ниже… В начале, про душу. Мы, солдаты-срочники, от всей души — руками, ногами, чем хотите — поддерживаем мудрый лозунг, что из всех искусств, для солдата, важнейшим является — кино. Это точно, это для нас. Мы, любое кино можем смотреть хоть сутками, да хоть и неделями, только давай! Потому что, почти на два часа! — в зале можно забыться от угнетающей серой монотонности, отупляющей армейской обыденности, запахов, положений уставов, и прочих матов. В кресле или на полу, в проходах или на подоконниках, можно прямо с головой, не раздумывая, бултыхнуться в яркие и сильные киношные страсти. Можно страстно любить и ненавидеть, великодушно прощать и достойно мстить, можно мечтать, строить, завоевывать… Можно сопереживать! Можно жить! Да-да, жить! Лишь бы… женщин там было побольше, молодых и красивых, и чтоб хватало на всех. Товарищи-люди, какое это счастье, почти два часа! — жить другой, не такой противной, яркой человеческой жизнью. О-о-о!.. Это если про душу… Но кино вещь очень оказывается универсальная, она и на «физику» солдатского тела очень хорошо влияет — «плавали», знаем! — на биохимические и психофизические его параметры… от каждой отдельно взятой боевой единицы, до, суммарно, значит, всего подразделения, далее, всего полка, потом соединения, армии… И, страшно сказать, всей обороноспособности страны! Представляете? Потому что в кино, люди, можно спать! Да-да, спать! И это не протест авторам и кинопроизводителям, наоборот, большое им спасибо! Для восстановления расшатанной психики и уставших солдатских ног и тела, не дожидаясь пока свет в зале погаснет, можно сразу же уснуть, что невероятно солдату полезно То, что надо! Это здорово! Это «цымус»!
Часть благодарных зрителей всегда так и поступает, сладко храпит на любом фильме. Хоть свежий киножурнал «Техника молодежи» показывай, хоть «Ералаш», хоть «Зелёный фургон», хоть… — без разницы. Половина благодарных зрителей всегда спит. Но они, это обычно молодые и часть салаг, сидят не у экрана, от середины зала и дальше, и практически никому не мешают. Храпят себе и пусть храпят на своей галерке, не орут же, правильно, не пинаются и не дерутся. Жаль только, что во сне — спал, знаю, — эти два часа пролетают как одно мгновенье… Мгновение, мгновение, мгновение!.. Как сон, как утренний туман… Короче, люди, правильно там кто-то говорит: кино — для солдат — мощное воспитательное средство… Главным образом правильно потому, что помогает солдату отвлечься и забыться. И не важно, что в сотый раз показывают «Броненосец Потемкин», или «Солдат Иван Бровкин», или «Ленин в Октябре», опять же «Карнавальную ночь», «Оптимистическую трагедию» или какой другой часто рвущийся на склейках фильм… Не важно. Лишь бы он, фильм, был не вообще, а в частности, здесь и сейчас. И чтоб не рвался, и чтоб долго… И чтоб свет не включали… И чтобы сразу две-три серии. Тогда это вообще класс, тогда… Потому, что кино… А кино… Кино — это, вам, братцы, не только, па-аешь, кино… а мощный воспитательно-восстанавливающий психику и физику солдата фактор.
Всё остальное время Юрий Володин усиленно занимался: геометрия, тригонометрия, математика, физика, органическая химия, неорганическая химия, литература, история… Его книги и учебники, портя армейский антураж, громоздились обычно на подоконнике, в углу, в каптерке. Служебные наряды?.. Какие наряды, вы что? Он же «старик», кто и куда его может поставить? Разве только сам. А он же не дурак, с чего бы? Нет, он всё время что-то читал, штудировал учебники или решал разные задачки по физике. Внешне Юрий, вроде не очень складный: высокий, с узкими плечами, правда развитой грудью — слава гантелям! — сильными руками, мосластыми худыми ногами, с худой кадыкастой шеей. Володин упорно по утрам бегал кроссы, таскал у нас в каптерке разборные гантели и большую холодную гирю. Даже обливался ледяной водой по пояс! Готовился таким образом к дембелю. Как из космоса на землю!.. Или наоборот! Зрелище было потрясающим! Такое самоистязание для меня, например, было просто не понятно, кроме занятий на инструменте, конечно.
Вот в таком рабочем состоянии я и служил, с октября по май месяц следующего года. Днем видел только ноты, вечером, в роте еще пару-тройку часов «танцевал» в наряде, чтоб служба, значит, мне медом не казалась. Где-то тёр, что-то мыл, но, уже старался сачковать. А как музыканту иначе? В армии иначе нельзя. Нельзя сидеть на двух стульях — и сам напряжён, и задница устает… Я уже очень хорошо понимал: мне, мои пальцы рук нужно обязательно беречь, хотя бы ради досрочной демобилизации Володина. Они только-только начали отходить от болячек той «учебки». Только-только сошли зудящие, шелушащиеся серо-фиолетовые цыпки. Ох, как стыдно было перед музыкантами за мои руки! Как стыдно!
Эти полгода и вообще весь первый год — никаких для меня праздников, никаких выходных! — слились в одну тонкую, больную струну на одном нерве. До вечера я, музыкант-срочник, живу почти как человек, в хорошем творческом исполнительском режиме, а потом… Эх-х, б… вспоминать не хочется!
Унизительные для нас условия были, в основном, созданы почему-то командиром роты и, с его ведома, поддерживались сержантами. Причём доставалось, повторяю, только первогодкам, особенно нам, прикомандированным. В этот свой первый год, я вообще ничего в полку не видел, кроме сложных и интенсивных репетиций днём, а вечером грязной работы. Из расположения части не выходил, на свежем воздухе до весны практически и не был, за исключением разводов на занятия, строевой подготовки и разной вечерней и ночной беготни вместе с ротой.
Оркестровка! класс! столовая! каптерка! плац! казарма! туалет! курилка! плац! класс! туалет! оркестровка! плац! каптёрка!..
Вечный кайф называется. Как в анекдоте про слона и зайца.
31. А где Лиманский?
— Р-рота-а, стро-оиться на вечернюю прове-ерку-у! — с некоторыми элементами проскакивающей бодрости, громко кричит дневальный.
Вечернюю проверку здесь, как правило, проводит ротный, поэтому гремим сапогами, резко торопимся в строй. Встают все, и прикомандированные, это само собой. Дежурный быстро наводит внешний порядок в строю, идёт докладывать в канцелярию. Через пару минут появляется ротный — брови насуплены, на белёсом лице написано яркое недовольство. Шапка (летом фуражка) висит где-то на затылке, кокардой чуть набок. Правый погон кителя над ремнем портупеи дыбится изломом. Звездочки на погонах вышарканы и своими концами развернуты в разные стороны. Широкие мятые пузырящиеся галифе, на ногах старые, подбитые толстой резиной, разношенные хромовые, гармошкой собранные сапоги. Выражение лица и внешний вид говорят сами за себя: перед нами офицер-неудачник, гундежник и зануда. Мы, солдаты, заранее уйдя в себя, предусмотрительно чуть отключившись, с тоской, настраиваемся на долгий ритуал предотбойного экспромта-представления. Что будет сегодня? Кого будут е…?
— Чё качаемся в строю, давно не тренировались? — Риторически справляется старший лейтенант, неспешно, с пятки на носок, прогуливаясь вдоль строя. — Спа-ать ещё, я вижу, нам ра-ано, — внимательно приглядываясь к стоящим в строю солдатам вроде раздумывает вслух ротный, советуется, и совсем уж мирным тоном интересуется. — Дежу-урный, кого нет на проверке?
— Все, товарищ стар-шлант. — Четко докладывает дежурный, уже зная что дальше последует. Знаем и мы. — За исключением: суточного наряда, двух в санчасти, один на губе, трое в командировке, один работает.
— Как это работает? В это время? Кто? — запнувшись, через недоумённую паузу, удивленно вскидывает брови ротный.
— Ефрейтор Лиманский, в штабе, — мгновенно рапортует дежурный.
— Лима-анский?! — ротный, как бы споткнувшись замирает, через секунду гневно и громко кричит. — Нем-медленно его в стр-рой. В строй этого поганца-«писца». Бег-гом, я сказ-зал! Бег-го-ом!
— Есть, в строй! — кидает руку к шапке дежурный сержант, поворачивается к дневальному. — Эй, дневальный, Егоров, ёпт, бегом в штаб за Лиманским. — копируя интонации ротного, громко дублирует команду сержант. — Р-ротный приказ-зал, мол, бегом его в стр-рой. Бегом!
Дневальный, а он уже давно в позе «на старт», срывается с места, гремит сапогами по проходу, хлопает дверьми и исчезает в лестничных и коридорных лабиринтах.
— Р-рабо-отает он, понимаешь… Я покажу ему… Работник тут, понимаешь, нашелся, — заметно накаляясь, ворчит себе под нос командир. — Я ему щас… — Заложив руки за спину, нервно прогуливается вдоль строя. — Все подшили подворотнички? — думая о своём, это видно, спрашивает дежурного. — Все приготовились на завтра?..
— Так точно, та-ащ стар-шлант. — С показной обидой и стопроцентной убежденностью в голосе, сообщает дежурный, сопровождая командира. — Все!
— Ну, ну. Ща-ас посмо-отрим… — усмехаясь, скрипит командир.
С дальнего левого фланга его неожиданно перебивает чей-то осторожно-спокойный, но явно недовольный голос:
— Товарищ старший лейтенант, ну, отбой вообще-то… Пора.
— Кто это там?.. — Не оборачиваясь, останавливается ротный, отлично понимая, кто его может так вот нагло прервать. — А-а, это ты, Егоров… — угадывает ротный, и, ёрничая, благодарит. — Спасибо, что напомнил. — И через паузу, серьёзно и спокойно командует. — Третий год отбой! — Милостиво разрешает старослужащим переместиться в свои койки.
На левом фланге возникает сдержанное оживление, шум, неторопливое шарканье сапог, клацанье расстегиваемых блях ремней, легкий смех, одобрительные возгласы: «Давно бы так… Дембелей уважать надо… Спокойной ночи, Родина. До дембеля осталось…»
— Ну-ну, там!.. — Коротко отмахнув от себя дембельский шум, ротный поворачивается к строю, — Так на чем мы остановились?..
В строю, остро завидуя дембелям, остались стоять срочники второго и первого годов службы. Салаги и молодые. Солдаты стоят чуть раскачиваясь и переминаясь с ноги на ногу. Строй тупо, отводя глаза, ждёт.
На лестнице и в коридоре возникает громкий усиливающийся топот, словно два железных сейфа кто-то спешно по ступеням сверху самокатом кантует.
Резко, как вышибленная, распахивается дверь…
Кстати, о технике безопасности молодого воина при прохождении такого рода дверей… Важный вопрос. Но всё очень просто: один, два раза получишь в полный рост, хотя бы одной створкой, сразу научишься. Запоминаем, если за дверьми казармы тихо — можешь влетать. Свободно, и легко. С любой скоростью. Хоть туда, хоть обратно. Если за дверями доносится нарастающий шум, лучше отскочи, пережди. Целее будешь. Солдатская мудрость. Аксиома.
Так вот…
Как вышибленная распахивается дверь, влетает дневальный, за ним, чуть отстав, катится холёненький, на ходу спешно застёгивая ворот гимнастёрки, колобок, трудяга писарь. Это Лиманский.
— Това…
— Та-ак!.. Лима-анский! — Перебивая доклад, радушно разведя руки в стороны, улыбается ротный. — Ты, дорогой наш, пач-чему не в строю? — любезно вопрошает, как бабушка за столом любимого внука за случайно не вымытые руки.
Вся рота, не поддавшись дружескому тону, наблюдает встречу крокодила — на его территории — с зазевавшейся на водопое сухопутной добычей. Кабанчиком, например, на которого и похож сейчас взъерошенный ефрейтор Лиманский. Хоть и осоловело, но невольно все улыбаются… Что-то будет!
— Так я это… приказ же командира полка же выполняю, товарищ стар-шлант. — Чуть обиженно, с легким волнением, пытаясь сохранять личное как бы достоинство, но с вызовом, почти убедительным тоном сообщает писарь.
— Какой еще такой приказ… же?.. — продолжает придуриваться командир уже понимая, что у Лиманского снова приготовлена железная отмазка. Но безнаказанно, просто так пропустить нарушение ему, командиру, никак нельзя, «люди» командира не поймут. «Народ» же-ж не поймет, па-аешь.
— К утру готовлю сводные ведомости на подпись… — уже назидательно, как ребенку, сообщает писарь, и подчёркивает. — Командиру полка.
— Ах, к утру-у… — вроде не замечая, на кого он руку поднимает, иронизирует ротный.
— Вы это о чем, та-ащ стар-шлант? — обижается писарь.
— Ни о чё-ом! Что ты в погоны вшил, а? — Находит-таки серьезный повод для разноса командир. — Что это такое у тебя, я спрашиваю, а? — тычет пальцем в аккуратненькие, с едва заметным отклонением от уставных, погончики ефрейтора. — Зайдешь ко мне в канцелярию, после отбоя, вот о чём. Понятно?
— Так точно! — ефрейтор злыми глазами смотрит на ротного, просто ест его.
— Встать в строй! — Не глядя на «наглеца», грозно отмахивается ротный, понимая, с Лиманским у него прокол, выстрел в молоко.
Писарь обиженно надувает губы и с недовольным видом, показательно вразвалку, встает в строй. На его лице четко написан приговор ротному: «Хорошо-хорошо, я встану. Но завтра ты за меня будешь отвечать… Будешь, будешь! Как миленький. Вот тогда и посмотрим, кто кого на култышку натянул».
Он служит уже второй год, мы знаем, причем, не где-нибудь, а в штабе полка, и некоторые его вольности, в плане нарушения режима дня, например, или щеголеватости в форме одежды, он это знает, ему все равно простят. Такое уже было, и не один раз… Все, да и ротный хорошо это знают.
«Ну хотя бы видимость абсолютной беспристрастности и своеобразной справедливости командир соблюсти же должен, да? — это мой внутренний голос разговаривает со мной, пока ротный голосовые связки перед строем разминает. — Должен! — сам с собой соглашаюсь. — Если ротный не наорет, кто ж его тогда боятся и уважать будет, а? Да никто. А как же тогда командовать? А никак! Так, что ж тогда в армии будет? А ни хрена тогда в армии не будет… бардак будет, вот что! О-о, а вот это уже плохо! Этого допустить нельзя. Конечно нельзя. — Соглашаюсь. — То-то! Пусть себе орёт, пусть придирается ротный, если ему надо… Да пусть, кто ему мешает орать-то?! Никто! Ну вот!..»
К этому мы уже привыкли, мы понимаем. Армия — это такая большая-большая игра… для наших командиров. А мы — маленькие-маленькие такие оловянные солдатики… для них. Да так мно-ого нас, тут, це-елое войско! Двигай туда-сюда фигурки на доске, воюй, па-аешь!..
Вот и смотрим на нашего ротного как бы со стороны: да пусть себе пузырится, всё равно впереди «отбой». Понимающе переглядываемся в строю.
Таким вот образом — по разным мелким поводам — мы стоим уже около часа. Из глубины спального помещения опять слышится тот же недовольный и капризный голос:
— Ну, това-арищ старший лейтенант! Ну отбо-ой же, пора же спать!
Ага, это нашим дембелям яркий свет под потолком мешает.
— Ты еще не уснул, Егоров? А говорил, спать хочешь? — по-бабьи хихикает ротный, иронизирует так.
— Тут уснешь с вами. — Несколько дембельских недовольных голосов вразнобой, громко подхватывают, ворчат со своих коек. — Пробежались бы лучше что ли, чем людям мешать спать!..
Вот засранцы, сами уже в койках, а нас подъёб…
— Ох, ох! Ты посмотри, какие они нежные, уснуть они не могут, понимаешь… — И, приняв какое-то решение, резко поворачивается к строю, зычно горланит. — Р-рота-а, сми-ир-рна! — Подтянувшись, строй немо замирает. Неужели, гадство, бежать придется, написано на лицах. — Та-ак, — наслаждается ротный командир произведенным эффектом. — Второй го-од… отбой! — резко, как из ружья, выпуливает команду, и с преувеличенным вниманием смотрит на свои наручные часы. — Та-ак, та-ак… Время идёт… Идёт!
Второй слог главной команды ещё не отзвучал, а из строя уже срываются — ошпаренные так не смогут! — сшибаясь в проходах солдаты второго года службы. Ну, наконец-то! Их задача сейчас одна, быстро и в нормативе отбиться, чтобы «Коноёбов» не доё… в смысле не доставал, даже случайно чтоб не зацепился. Чтобы отбой для них прошел без дополнительных тренировок, чтобы быстрее уснуть, чтобы быстрее забыться. Мы, молодые — нас это никак не касается — вяло стоим, наблюдаем это представление, тяжко вздыхая и жутко завидуя, устало переминаемся с ноги на ногу, понимаем, подходит и наша очередь.
Второй год службы, салаги, уложились в норматив, уложились, ёлки-палки, к сожалению, говорит кислое выражение лица командира роты, а жаль! но, ещё же молодые, извините, есть. Вот они, голубчики, стоят, покраснев, тараща глаза… Спать, они, понимаешь, хотят, баиньки, да? А вот хрен вам! Щас!
— Ну, что, — обращается к более чем на две трети похудевшему строю командир, — проверим внешний вид или сразу в наряд пойдем, а?
Мы чётко понимаем, никаких других «или» не предполагается, в вечерней программе нас ждёт только наряд, а уж потом…
— Лучше бы спать… товарищ стар-шлант, — просительно, как в школе, произносит кто-то… Действительно, чего терять!..
— Ни хрена себе! — как ждал, удивленно восклицает ротный. — Спать им хочется! А мне что ли не хочется? — Глубоко засунув руки в карманы галифе, назидательно, с пятки на носок прохаживаясь перед строем, с воодушевлением поясняет. — Я в ваши годы, например, на вашем вот месте, знаете, как пахал? О-о! Не дай вам Бог, понимаешь! А они — спать!.. Спать, это… — заметно распаляясь, начинает философствовать ротный, — это, понимаешь, нужно еще заслужить. Я вот…
— Ну, това-арищ старший лейтенант… Ну сколько ж можно, а? Ну, отбой же давно, а? — это уже по настоящему сердятся недовольные дембеля. — Вас же молодая жена дома, ждет, ну!
Вот сейчас они молодцы! Хорошо тут сказали! Могут здорово нас сейчас выручить. Мы уже едва стоим… Осоловевшие от усталости, сонливости, нудности, униженности и бесправности нашего положения. А впереди — мы знаем — нас все равно ждёт ещё главный воспитательный процесс — работы во-внеочередном наряде. У кого-то наряды идут в количественном накоплении. У других — одни гасятся, другие появляются. Но всегда ясно одно — в нарядчиках недостатка у ротного нет. Хоть, пожалуйста, все, хоть половина их, хоть любая часть строя, но они есть всегда. Как не быть? Вот же ж они… Голубчики… чики… чики!
— Ни хрена, жена подождёт. Ты, Егоров, за мою жену не беспокойся, там всё железно.
— Ага, уже всё давно заржавело, наверное… — доносится громкий шепот с тех коек. В дембельской стороне одобрительный хохоток и смех. В строю явное понимание и ехидная поддержка: «А действительно, чего он здесь делает, если молодая жена дома? Мы бы, на его месте, сейчас, ни секунды бы не размышляли, уже бы съеб… убежали бы к ней. Точняк! А он?!»
— Та-ак, р-разговор-рчики в стр-рою! Я вот дам вам сейчас… заржавело, понимаешь. Ишь, ты, заржавело! У нас не заржавеет, не боись. — И вдруг зло рычит на стоящих в строю солдат. — На-апр-ра-ву… В распоряжение дежурного по роте шаго-ом, марш, — все!
Давно бы так… Вяло повернувшись, понурив головы, шаркаем сапогами в сторону дежурного. Лучше уж так, чем стоять и мучиться. Раньше начнем работать, раньше закончим.
— Днев-вальный, свет, бл-л…! — зло и коротко несется с коек дембелей.
— Ну хватит уже ора-ать, а то щас всех подниму, — еще по инерции грозит ротный, давая отмашку дневальному, — гаси, че смотришь, балбес!
Гаснет свет…
Наконец-то всё же гаснет. По этому приятному поводу слышатся одобрительные комментарии «стариков»: «Дошло!.. Наконец-то… Спокойной ночи, Родина!.. Дневальный, бля, не вздумай ночью — «рота, подъем», громко орать… пиздюлей получишь!» Ну, это они всегда так, это нормально, хотя угрозы не без основания.
Где-то еще слышится возня и скрип коек под умащивающимися телами солдат. Вразнобой доносится тяжелый надсадный кашель. Громкое и сладкое позёвывание. В дембельской стороне, под одобрительные комплименты, испустив неприятные газы, громко бабахнула чья-то дембельская задница. В противоположной стороне, в стане салаг, кто-то осторожно повторил, получилось это позорно слабо, как пародия на предыдущий звук, так верещит детский надувной шарик, спуская. Легкий, вспыхнувший было смех, в поддержку ответной акции, мгновенно утух, прибитый прилетевшим с дембельской стороны тяжелым с подбойкой сапогом, с грозным наставлением: «Не умеешь, cалага, не берись без разрешения. Еще раз повторишь, будешь со свистком в жопе до нашего дембеля ходить!»
Бурный дембельский одобрительный смех, льстивое хихиканье, чей-то громкий невнятный шёпот…
Тёмное душное марево сна накрывает солдатские койки.
В стороне туалета, и всех рабочих комнат наоборот, возникает и повисает шум начинающейся обычной вечерней работы нарядчиков. Гремят вёдра, тазы, хлопают двери, шаркают пятки сапог… Всё как всегда, всё как обычно.