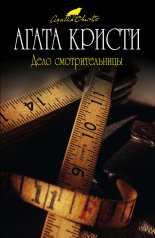Кирза и лира Вишневский Владислав
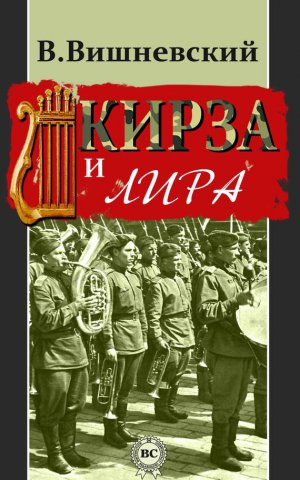
Тцц!
Не хорошо получилось. Лажа, называется.
«Опять Пятин, гад, виноват! Не туда бросил, не точно!.. Хорошо, хоть не в зал запулил, как прошлый раз!» — Отмечаем мы, музыканты, глядя на кучку солдат-артистов, радостно и в обнимку быстро удаляющихся за кулисы. Не менее героически, извините, на наш взгляд, вытащивших из-под огня прожекторов, и глаз, желанную папиросу.
Под гром аплодисментов занавес закрывается, затем, сразу же снова открывается. На авансцене в глубоком поклоне стоят наши исполнители…
Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.
Мы, скорее бросаем свои инструменты — сейчас номер чтецов — бросаемся вдогонку, может ещё и нам достанется, курнем?!
42. Про НЛО
— Чуваки, слышь хохма…
Сегодня понедельник, утро. Начало солнечного теплого июньского дня. Наши музыканты-сверхсрочники два предыдущих дня отдыхали и сегодня, в понедельник, на перекуре, собравшись в курилке, делятся впечатлениями о прошедших выходных. Здесь собрались почти все сверхсрочники и несколько нас, ожидающих «докурить» срочников.
— Ну, в общем, чуваки, завтра же суббота, да? Это я говорю про пятницу, — азартно и торопливо начинает младший сержант Смолин. Он, в отличие от всех, почему-то в фуражке, необычно заломленной на левую сторону головы, к затылку. — Я Афонину и говорю, чё дома-то сидеть? Давай, говорю, чувак, в кабак сходим. А что? Встряхнемся: кирнём, чувих снимем… Он мне, а деньги? А х…ли, говорю деньги? Деньги что навоз, сегодня нет, а завтра — воз! Во, говорю, смотри, мне Кабан долг вернул, и у Лёхи я ещё чирик стрельнул, — хватит. Он мне опять, а моя Валька? Я говорю, а х…ли, Валька? Скажешь, что на тревогу пошёл, и всё. Он опять: а как я ей это скажу, как?.. Не какай, говорю — это мы сделаем! Короче, мужики, я срочно договариваюсь с Петруней из второй роты… Ну, этот, вы его знаете! Петруня, корефан мой. Он еще на прошлой неделе с нами в Парке кирял. Помните?
— А!.. Мордастый такой… Ну-ну!..
— Баранки гну! Это ты мордастый, а он, между прочим, нормальный парень, и не такой жадный, как ты.
— Чуваки, глянь, это я-то жадный?
— Кабан, отъ…сь от Смолы, пусть рассказывает дальше. Давай, Смола, чеши. Что, что дальше?
— Петруня как раз помдежем по части заступил, чтоб, значит, часам к девяти вечера, он — втихаря, посыльного, ко мне и к Афоне домой прислал — боевая тревога, мол, труба зовёт, проверка, и всё такое прочее… Ну, как обычно, в общем.
— Ну, ну!..
— Баранки гну!.. Короче, чуваки, я, значит, вечером дома деловой такой — Таньке табурет, для понта, починил, чтоб теща не пиз… — Тут он, вдруг, замечает наши очень любопытные глаза и уши. — Так! Срочники, ну-ка, закройте на х… уши, или шли бы вы куда подальше. Не для вас тут рассказ!
Мы, срочники, не успеваем достойно отреагировать, за нас вступаются уже разогретые рассказом сверхсрочники: «Ты не отвлекайся, не отвлекайся, пусть салаги на ус мотают. Ещё спасибо потом скажут. Пригодится. Рассказывай давай. Чеши. Ну!»
— Я и говорю, тёща всё время соседям жаловалась, что ножки качаются, что починить тут в доме некому. Жаль, что так и не п…лась.
Это вызвало одобрительный смех и острое сожаление у присутствующих: зря починил, пусть бы все же она того… У всех сверхсрочников тещи были на особом счету, все ходили под одной карающей статьей. По общему мнению, взять бы их всех, и… утопить, как Муму, например. Мы, срочники, этого еще не понимаем, нам, как говорят сверхсрочники, повезло, мы еще живой п…ы не нюхали и, к счастью, не женаты. И почему с мамой жены у всех потом так плохо складывается, не понимаем. Но уже солидарны…
— Чуваки, а моя вот тоже вчера…
— Да подожди ты, Кабан, со своей тёщей, отстань, у нас у самих такие. Не мешай!
— Это я мешаю? Я слова не сказал. Я слушаю! Ну, вообще… Пусть говорит.
— Продолжай, Смола, не слушай. Еще раз Кабанов встрянет, мы ему яйца в дверях прищемим, чтоб не мешал. Давай Смола, продолжай.
— Ага… Ну, значит, после ужина, пока тёща телик смотрела, я, как обычно, втихаря Таньке, на скоряк, в комнате, одну палку стоячка бросил, первую, чтоб, значит, в тонусе быть и всё такое, чтоб она на ночь без вопросов… не гундела, в общем, ага!
Легким одобрительным ветерком пронеслось в адрес Смолина: «О!.. Молодец, Смола. Это хорошо. Это правильно. Всегда с ними так надо. Это святое…»
— Ну и как вроде спать уже собрались. Тут звонок в дверь. Тёща, конечно, в дверь — к телефону или к двери она всегда, падла, первая: кто там? — спрашивает. Там — «посыльный, мол, из части к старшему сержанту Смолину, он дома?» Я, для понта, значит, как будто злюсь: какая, мол, на хрен тревога? Достали уже с этими, понимаешь, проверками, дома человеку с семьей побыть не дают. А сам хватаю свой тревожный чемодан — тёща, вот шустрая, пока я собирался, успела-таки термос с горячим кофе сунуть и бутерброды…
— А потому, что табурет починил.
— А не починил бы, хрен бы тебе, а не бутерброд…
— Ага!..
— Ну, в общем, чуваки, всё как по маслу. Тороплюсь, время в обрез, тревога… Подбегаю к части, смотрю, и Афоня уже со своим тормозком летит. Значит, всё, вижу, сработало, порядок! Чемоданчики мы к помдежу закинули, лыжи на Север, — аля-улюм, в кабак. Подлетаем к «Березке», ёптыть, мужики, там всё под завязку. Аншлаг. У дверей толпа — пятница! Кое-как пробились к швейцару — мол, Матвеич, ты же нас знаешь, пусти. А он же, знаете же, наш чувак, бывший лабух, орет: «Нет, нет, мол, никому и никак нельзя, вот только ваши, заказанные два места — товарищи! — как раз вас и ждут — проходите». Нормальный мужик… Короче, проскочили мы в кабак. А там, чуваки, дым коромыслом, музыканты лабают, Танька поёт… офицера (с ударением на последнюю гласную) из Волочаевского, видим, день рождения чей-то вроде справляют. Кабак уже на взводе. У нас настроение уже на двенадцать смотрит… Мы к администраторше, Нинок, куда, мол, присесть? В общем, то сё, ля-ля, тополя — она нас подсадила к каким-то старым девам, лет по сорок… А нам хули, чуваки, за неимением барыни, как говорится… Мы, им галантно так — Шампанское, девочки, яблочки, то сё… А они — ничего оказались, — нам, значит, ставят водочку, селедочку… И понеслась душа в рай! Киряем, чуваки! Музыка, ля-ля, то сё… Короче, чуваки, я смотрю, не поверите, у одной зад, как наш большой барабан, у другой бюст, что два арбуза… Афоня, значит, уже окосел, вижу, привязался к той — покажи да покажи, что там? Мол, таких не бывает… Я уже тоже у своей между ног рукой под юбкой вовсю шарю, уже смотрю, чуваки, всё нормально. Катит! И лица у них уже вроде совсем приятные, и всё остальное… Закайфовали, короче. Вокруг музыка, шум, то сё… Вдруг к нам два каких-то хмыря подошли, мол, можно ваших дам пригласить? Я рот не успел ещё открыть, как Афоня, не глядя, мы к ним спиной сидели, громко отвечает: «Пошел, поц, на х… наши не танцуют!» Я поворачиваюсь подтвердить это, — о, ни хрена себе! — там два бугая стоят. Один майор, другой подполковник из Волочаевки… Тоже подшофе… Они сразу в бутылку: «Встать, как разговариваешь, свинья, мол. Встать!» Афоня им, не поворачиваясь: «А ху-ху, не хо-хо!» В общем, тот, который майор, неожиданно так, без подготовки, как пи…т Афоню, боковым, в лоб! Афоня, через спинку стула и под соседний столик, брык, и уехал! А там, за столиком — никто ж не ожидал! — ноги вверх, посуда на пол, бутылки полетели… Грохот… Полный атас! Визг, крики: что, мол, это такое, что это вы тут делаете, хулиганы, как вы здесь оказались?.. А я смотрю, чуваки, хохма, Афонин по полу в овощном салате в размашку плавает, ага. Я вскакиваю, бросаюсь к этим, как это, мол! Это что же такое, наших бьют, да?.. Ах ты, падла, кричу, вонючая, козёл! И локтем, подполковнику, он ближе стоял, ха, так, в челюсть — я кулаком-то не могу, пальцы, вы же знаете, беречь же надо, — бабах! Короче, хрясь ему в челюсть, и майору вмазал, чтоб, значит, не успел развернуться. Только и успел пинка сапогом в живот дать, как тут меня кто-то сзади по башке и оглоушил чем-то… По-моему, бутылкой. И я отключился…
— Ни хрена, у тебя, Смола, калган какой крепкий оказался, а!
— А я смотрю, чё ты, думаю, сегодня всё время в фуражке?
— Ну-ка, покаж… Сильно расхерачил?
— Да нет, я только почувствовал удар, что-то посыпалось сверху, и я отключился. Шишак только, вроде.
Сняв с рассказчика фуражку, слушатели с интересом рассматривают пострадавший затылок товарища.
— Ого! Глянь, чуваки, как мозги вспухли. Вот это да!
— Ну-ка, ну-ка!..
— Ни черта себе, какой здоровый.
— Всё, Смола, теперь у тебя оттуда рог будет расти. Как у мамонта, только вверх. Точно. — Заметил Кабанов, и тут же успокоил. — Не переживай, мы на него потом жёлтую фиксу наденем, чтоб лучше сверкал. Будем тебя за деньги в городе показывать… У пивного ларька…
— Кабан, ты выпросишь сегодня. Что ты к человеку пристал. Он и так пострадал.
— Ты не обращай на него внимания, Смола. Он тебе завидует. Давай дальше. Ну-ну! Интересное кино у вас получилось!
— В общем, чуваки, пришел я в себя на каком-то диване, в подсобке. Смотрю, рядом Афонин лежит. Китель, морда лица, штаны, всё измазано… и у меня тоже. Ф-фу! На лбу у него синяк, но, вижу, губы целы. Хоть это, думаю, хорошо. А у меня всё, как в тумане, голова болит, но губы и пальцы вроде в порядке. Играть, думаю, сможем, а остальное ху… До свадьбы заживет! Вижу, около нас какая-то женщина вроде суетится. Я Смолу толкаю: «Ты живой, эй!» Он вдруг вскакивает, глаза как у бешеного таракана, и на меня: «Где этот майор?» А у меня башка трещит, ни хрена не соображаю. Чувствую — мой шишак, на голове сзади, слева, уже с кулак вырос, да болючий такой, гад! Ладно!.. «Какой майор, говорю, ты чё? Отползли живыми и ладно». Тут вдруг откуда-то появляется Матвеич, швейцар, тоже весь всклокоченный и шепчет нам: «Ну вы — орлы! Ну вы даёте. Меня теперь уволят из-за вас! Точно уволят. Весь кабак разнесли…» «Ты что, Матвеич! — не пойму, когда это мы успели. — Мы же пять минут как зашли!» Он: «Не вы разнесли. Из-за вас». Я ему: «А! Тогда не боись, говорю, Матвеич, не уволят. Только покажи нам, говорю, кто тебя обидел, и всё! Мы с ним разберёмся! Где мы?» Оказывается, когда мы со Смолой скапуздились на полу, — там, в кабаке, такая махаловка началась, общая, причём. Кто кого бил — не понять! Но махались, говорит Матвеич, все. Наши чувихи — ну, молодцы, девки! — нас со Смолой быстренько на кухню волоком оттащили и исчезли. А там уже Матвеич нас, по-одному и перетащил в подсобку. Молоток, Матвеич, а то бы нас эти… динозавры пьяные, копытами затоптали. Скажи, Смола, да?
— Да, — соглашается Смолин, осторожно кивая головой.
— Ну!.. А тут и шухер, в смысле патруль. Кто-то звякнул, короче. Этих, Волочаевских, кого увезли, кого переписали, кто сам убежал. Но это ещё, чуваки, не всё. Матвеич дал нам по-полстакана водки, на посошок, чтоб легче было, и убежал к себе, пост что ли там сдавать, не знаю. Я, вроде, от водки опять закемарил, опять отключился. А дальше пусть Афоня рассказывает. Он помнит. Его бутылкой по башке не били.
— Ага, не били, а кто из нас в лоб получил?.. Как кувалдой в лобешник прилетело! Я же там не спички под столом искал. Нет! Я правда встать не мог. Лежу и не могу сообразить — где пол, где потолок. Так уж он меня, гад, здорово саданул. Зайчики до сих пор перед глазами прыгают…
— А не хрен было товарища майора, старшего по званию, поцем обзывать. Не прилетело бы! — опять ехидно резюмирует Кабанов.
— Ага! — осторожно кивает головой сержант Афонин. — Я ж не видел.
— Ну всё, Кабан, достал… Ещё одно слово, и тебе такая же плюха прилетит! Продолжай, Афоня.
— Значит, я, это, выпил водку и меня опять повело. Опять забалдел. — Продолжает рассказывать сержант Афонин. Он, как и Смолин в фуражке. Правда она у него наоборот, низко надвинута вперед, на лоб. Он, к тому же, в больших зеркальных солнечных очках. Переносица у него заметно опухла, расплылась, жёлто-салатовым цветом стыдливо прячется за тёмными стеклами очков. — Потом, — продолжает сержант, — чувствую меня кто-то вроде тащит, ведет, то есть. Чувствую свежий воздух, ветерок меня обдувает… приятно. Я, значит, на улице. Идем какими-то закоулками в полной темноте. Ни рядом, ни под ногами, ни хрена не вижу. Темно. Ночь же… Ладно. Я говорю Смолину, я думал, это меня Смола тащит, говорю ему: «Только не домой. К моей Вальке не надо. Ни-ни… Ещё и тёща там… Я на тревоге». Молчит мой, слышу, Смолин, сопит только. Что такое, думаю, почему молчит? По башке получил и глухой что ли теперь? Поворачиваюсь! Темно… Только чувствую, чьи-то волосы вдруг мне мазнули в лицо, как метелкой, и запах духов. О-о! Думаю, стоп, чувак, это, не Смолин. Смолин так пахнуть не может, нет. Похоже на женщину. Одна рука у меня занята, на том плече лежит, а вторая свободная. Вот я другой рукой и полез проверять, Смолин это или нет. Нащупал в темноте вроде как грудь. Чувствую, мягкая такая, но точно, чуваки, женская! Да!.. Правда, не такая большая как, помню там, в ресторане, но, всё равно женская. Не Смолинская, главное.
— Тебе надо было за его нос хвататься или за член. У Смолы всё остальное отсутствует. — Весело хохочут музыканты.
— Да, наверное. — Натянуто улыбаясь, соглашается Афонин, и продолжает повествовать. — Ну я и успокоился, чуваки. Баба же, думаю, хорошо, это ж не патруль. К себе, наверное, и тащит — а куда ж ещё! — мне и лучше, не жалко! Опять, то ли задремал, то ли отключился… В общем, чуваки, очнулся я уже на кровати, в смысле, чувствую, что лежу. В комнате темно! На мне лежит влажная и горячая чувиха. Фигура, чувствую, классная… И грудь, и бёдра, и живот, и руки, и губы!.. А запах духов какой обалденный, чуваки… Это!.. А как целуется она!.. А какой темперамент!.. Бля буду, чуваки, такой бабы у меня еще не было… В жизни не было! Вот те крест! Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. Я её, как никогда, как ни одну бабу в жизни, помню, всю ночь целовал! Верите?.. Всю, с ног до головы! Сколько уж палок бросил и не помню, но, короче, чуть с ума не сошёл… Так мне было хорошо с ней! Потом устал и уснул.
Афонин задумался, умолк.
Музыканты застыли, не прерывая тишины, с задумчивыми лицами размышляли над услышанным.
В той или иной мере, сверхсрочники уже проходили через разного рода любовные, мягко сказать, развлечения, даже не один раз. И по пьянке бывало, и по-любви, и на спор, и случайно где, как-то подворачивалось, всякое бывало. У всех уже есть свой, личный опыт, есть что вспомнить. Но с такой вот болью, чувствами, с надрывом, никто из них ещё не встречался. Только вот Афонин, оказывается. Повезло парню. О такой встрече и не мечтали… разве что в глубоком сне. А тут, на тебе… Раз, и повезло парню. Ох, повезло!
— Ну, и что дальше? Что? Рассказывай, не тяни!..
— Кто она? Кто?
— В том-то и дело!.. — трагическим голосом продолжает Афонин, с трудом выходя из, видимо, сладостного оцепенения. Вздыхает. — Ладно. — Продолжает. — Самое интересное сейчас… Вернее напрочь это, непонятное, необъяснимое… Так вот. Просыпаюсь. Утро, солнце светит, красиво так… в щели. Ага! Вижу, какой-то грязный сарай, посредине кровать. Вокруг вонь, мочёй пахнет… Не поверите! Я лежу на какой-то кровати, на грязном вонючем матрасе, голый. Рядом, у меня под мышкой, на животе лежит тоже голая, дряблая, седая, лохматая старуха! Я, чуваки, просто, ох… напрочь! Болты у меня повываливались от столбняка, ни чего не пойму! Я испугался! Что это?! Приподнимаюсь — где это я, куда это я попал? Не поверите. Чувиха поворачивается ко мне — вижу, улыбается маленькая, старая, седая беззубая нанайка. «Доброе утро, говорит, любовничек!» Ё, мое! Меня аж стошнило. Тьфу ты, бл… Я как увидел всё это! Как подскочил! Хвать, скорее свои вещи, ноги в руки, и бегом из этого вонючего сарая. Тьфу! А она мне ещё кричит, падла, вдогонку: «Служивый, подожди! Куда же ты? Эй? А поцеловать утром?» Представляете? И смеется… беззубая. Полный п… Тьфу, ты, мать честная! Как вспомню!.. И как вам, чуваки, такая история, а?
Ну… Зависла тупая пауза — какой тупее не бывает. Такого именно поворота никто, конечно, не ожидал. Да нет, такого не могло быть, читалось на их лицах… После такого красивого, романтического вступления, это было полной неожиданностью, словно той кувалдой по башке и бабахнули, причем, всех сразу. Даже сильнее чем кувалдой, сильнее! У всех словно замкнуло.
— Понимаете, чуваки, не пойму!.. Откуда она, старая эта нанайка-то взялась, а? Ведь я хорошо помню — это я, бля буду, чуваки, помню как наяву, я ж не совсем пьяный тогда был, хорошо помню — молодая чувиха со мной была. Молодая! Я что, совсем, что ли, того, ку-ку, да?.. Уж молодую-то, от старой-то бляди, в каком угодно состоянии отличить смогу. Смогу-смогу! Точно! А вот… Я что, получается, всю ночь старуху целовал взасос?! Всю-всю?! Сверху донизу… Эту… старую… Да?! Тьфу! Поверить не могу… Да нет! Не может быть! Я до сих пор не в себе. Наваждение какое-то… Или что?.. Что это со мной было, а, чуваки?
— Слушай, Афоня…
— А может это…
Возникшие было версии, неожиданно прерывает майор Софрин. Он, коротко глянув на музыкантов, шустро проскакивает мимо них в туалет и пристраивается к писсуару. Суетясь руками в районе ширинки, озабоченно спрашивает Афонина:
— Афонин, что такое, почему в очках?
— А он, товарищ майор, сварки нахватался, — предупредительно ставит диагноз Кабанов.
— Нет, Кабанов, там, по-моему, что-то другое. Опять синяк, да, товарищ Афонин? — ехидничает майор.
— Да, товарищ майор, в общем… — уныло тянет сержант. Он еще под впечатлением своего рассказа, и той странной, необъяснимой загадки. — Сначала сварка, а потом это… на грабли наступил.
— Ах, грабли… Ну, тогда понятно! — энергично встряхивая низом туловища, констатирует дирижер, — Знаю я, Афонин, ваши грабли, знаю. Ох, доиграетесь вы у меня, Афонин, ох, доиграетесь. И Кабанов тоже…
— О! Опять Кабанов! А я-то тут причём, товарищ майор? — удивляется неожиданному повороту Кабанов, — Кабанов-то, между прочим, тёмными огородами не ходит, как некоторые, и на грабли, понимаешь, разные не наступает. — С тонким намеком, обиженным тоном заявляет Кабанов.
— Ну, значит, Смолин… — попадая в десятку, охотно соглашается майор. — Знаю я вашу братию, знаю. — Выходя, бодро заявляет майор, застегивая ширинку.
— Товарищ майор, а можно вопрос?
— Что такое, Кабанов, спрашивайте?
— А НЛО женщиной может быть?
— Да, конечно! Любые формы. А что? — не задумываясь, докладывает майор.
— Да нет-нет, ничего. Я это… так просто. — Булькающими звуками в горле давится Кабанов.
— Ну, тогда всё, закончили перерыв. Все на репетицию. — Ставит точку майор.
Музыканты, вежливо пропустив впереди себя дирижера, потянулись в оркестровый класс, задумчиво и многозначительно переглядываясь.
— ?!
Вот, тебе, Афонин, и ответ:
— Трахнул, значит, наш Афоня, втихаря, марсианку, трахнул. А она, хитрая, прикинулась, значит, потом нанайкой. Чтоб эффектнее концовка у Афони была. Экстаз, чтоб, значит, такой особо сексуальный получился… Ох, же ж, и подлые бабы!.. Раз, два, и всего делов — окрутили Афоню.
Ух, ты! Неужели так?! Вот это да!..
Марсианский такой, значит, эксперимент был!.. Межпланетный! Кулаком в лобешник, и к марсианке в койку!.. Довольно странный, правда, контакт, но… Что вы хотите — другой разум, другие нравы, привычки… не адаптировались может. Времени, наверное, не было… Да и не каждый день Афоня в такой «форме» — там, где надо! — ошивается… Вот и… Что ж…
Главное — марсианка! Если марсианка, это другое дело. «Это, вам, не то, что почем зря, и что в мешках!..» Повезло Афонину. Коллеги музыканты остро завидовали товарищу: таких «сладких» марсианок ни у кого ещё не было… Не было, не было. Об этом бы даже срочники знали… Афонин — первый! Да!
Как всегда всё испортил тот же Кабанов.
— Классно, чего уж! Жди, — говорит, — теперь, товарищ Афонин, марсианские алименты. Ага! Вот уж Валька-то твоя, с тёщей, обрадуются!.. Вот уж тебе пиз…лей навешают!
Это уж точно, это уж как пить дать. Мы достаточно наслышаны и про его Вальку, и про цербера тёщу, и вообще… Жалко, товарища, но ещё больше завидно.
Ничего, синяки пройдут! Зато вот, парень лично участвовал в межпланетном эксперименте! Причём, наш парень, музыкант, сверхсрочник… Кому ж так повезёт?
Не как, в общем, некоторым…
Армия! Армия-армия!..
43…Три, два, один… Пуск!
Сегодня на отбое наши дембеля отхохмили.
Только мы провели вечернюю перекличку, ротный, как обычно, дает команду: «Третий год, отбой!» Мы слышим, как старики солидно зашаркали сапогами к своим одноярусным койкам. А наш старик, танцор Пятин, как всегда, расстегиваясь на ходу, разбегается, и ласточкой, через две койки в ряд, прыгает на свою третью. Мастерски прикроватившись там, широко и сладко обычно потягивается, зевает, и, победно оглядев вокруг — все ли видели! — только после этого начинает раздеваться. На третьем году, он, всегда так летал. Полетел и сегодня.
…Разбежался, и-и, р-раз, ласточкой пролетев, плюхнулся на живот, почему-то, при этом, глухо хрюкнув. И замер на койке в какой-то неестественной, для радостного и долгожданного сна, позе. Что такое? У нас у всех стоп-кадр. Заклинило. Мы замерли в недоумении — что-то не то. Но, мы же в строю стоим, мы же не можем спросить его, мол: «Эй, что там у тебя?» На этот полёт мы, салаги и молодежь, имеем право только восхищенно смотреть, причем молча, и без комментариев. Иначе, помним, ведро с тряпкой всегда свободно, в одном шаге. Мы только издали, со стороны, имеем право насладиться всеми этапами представления: от разгона до приземления, и мощным эффектом традиционного воздушного дембельского перелёта в койку. Молча, восхищайся и завидуй, молодой, стой и не вертись — закон такой. Иначе, он в койку, а ты в наряд!
Но не сегодня.
Весь строй замер, глядя на лежащего Пятина. Что такое? Там, ни звука… Но вот, дрогнула нога. Пятин с трудом повернулся на бок. Морщась и кривясь от боли, кое-как сполз с кровати. Выпрямился — метр шестьдесят восемь! — сдерживая стон, резко сдернул с койки одеяло. Мы, хоть и издали, но видим совершенно чётко, как на киноэкране: на белом фоне простыни спокойно отдыхает чёрная тридцатидвухкилограммовая чугунная гиря. У нас в роте только такие…
— Ни-и хрен-на себе!.. — одноврменно выдохнули почти все в строю.
Это… шутка?! Шутка… Конечно, шутка. Кто-то пошутил так. А Пятин не знал, так вот, животом в неё и бухнулся, спланировал называется. Пятин стоит, пополам согнувшись, держась за живот. Только-только у него дыхание кажется восстанавливаться стало. Губы, руки, ноги дрожат, на лице гримаса боли. Со-второй попытки он, наконец, выуживает тяжелую гирю из продавленной сетки кровати. Не удерживает её — гиря громко бухается на пол. В строю, в казарме, ни звука. Все замерли и смотрят. И комроты старлей Коновалов тоже. Пятин с трудом, почти волоком, тащит гирю почему-то к окну… в абсолютной тишине казармы… кое-как подтягивает гирю к коленям, приподнимает её, с трудом заволакивает, заталкивает на широкий подоконник… У нас уже и челюсти от удивления отвисли!.. И… не глядя, сталкивает тридцатидвухкилограммовую гирю вниз, за окно. Пуск состоялся! Поворачивается, и падает на кровать. Почти в ту же секунду, всё наше здание, пол в казарме, и мы все, резко содрогнулись от глухого и сильного удара-встряски. Еще и челюсти наши, громко щелкнув, захлопнулись!
— Ёп…тыть! Пятый этаж!
— Бля-а!..
Дикий вопль снизу, а затем громкий отборный мат на три голоса, переходящий в грозную трехголосую арию, как из скорострельной зенитной пушки, ответным атомным грибом и ударной волной влетают в наши окна.
— А-а!.. Ё… — и тому подобное. Снизу! Очень много!..
Мы все ахнули: «Кого-то пришиб?!»
Как мы тогда удержались и не рванули к окнам посмотреть, уж и не знаю. Спасла, наверное, железная армейская дисциплина! Кстати, этим мы и ротного спасли. Там, внизу, в это время, как раз, чуть-чуть под гирю не попал подполковник, химдымовец, дежурный офицер по полку. Он, не спеша, с обходом, прогуливался со своими помощниками. Как обычно: он чуть впереди и руки за спину, они, двое, чуть сзади и тоже не спеша и вразвалочку, руки там же. А куда им спешить, считай, только ж заступили. И вот, как раз в метре перед ними, она, наша гиря, и плюхнулась. Масса на ускорение, «эм» умноженное на «жэ», как говорится, и на высоту… Бабах, она перед ними! Ушла, родимая, по самую ручку в асфальт. Потом, уже, через три-четыре секунды, дежурный и взвыл. Заорал сразу, как только смог сообразить и представить себе, что вот так вот, сейчас бы он мог быть вбит этой железякой, по-самую свою маковку. А вместо фуражки торчала бы эта гиря из-под асфальта,
— Ёпт…!!
В его яркой и образной речи, там, внизу, а ему еще активно помогали два его помощника, все слова имели один смысл. Переводить практически было и нечего. Понятно было одно — очень сильно расстроились люди! Они орали, думая, что мы сейчас все выскочим, и признаемся им — ой, извините нас, пожалуйста, это мы уронили… Ага, щас! Что мы, дураки, что ли? А попробуй вот сам определи, с какого этажа она соскочила, когда их пять, и у всех окна настежь… Ну, первых два, пожалуй, можно исключить — это понятно, удар не такой бы был — а остальные три?
А пока внизу шум и тарарам, ротный, как никогда, вот, падла, молодец, всем отбой сделал! Мол, мы, тут, ни причём! Мы давно уже спим! Вот повезло нам! Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
А Пятина, конечно, было жалко. Не только потому, что он наш старик и из ансамбля, а потому, что он действительно хороший, веселый парень. Ну, правда, маленький. Такие уж у них, стариков, дембельские шутки. Что поделаешь? Шутка! А кто это сделал, в роте вообще не найти…
На часах у дневального 01.05. ночи.
Не спится летом в душном мареве казармы, не спится. Бессильно лежишь, ворочаешься с боку на бок и так и эдак… Нет сна, хоть тресни! Голова как чумная, всё тело вялое, варёное, и сна нет. Только злишься на себя. Мысли всё время, как заколдованные, к тому женскому общежитию возвращаются, к тем девчонкам. Вот бы туда сейчас, к ним! Под одеяло. У-ух! Как бы, сейчас бы, хорошо бы… Всё время помню, как девчонки дразнили, призывно махали нам руками — именно мне, как раз! точно-точно! — мол, давай, солдатик, иди сюда… «Ну, что ты? Ну!.. Иди… иди!.. Слабо, да? Эх, ты!..» И весело смеялись.
Там, кстати, и забора к тому же нет. Интересно, а почему же забора-то нет, а?
— Генка! — Cвешиваюсь с верхней койки, — а почему там забора-то нет, а?
Генка Иванов, он мой ровесник, я знаю, тоже не спит. Тоже ворочается, как вентилятор, — койка ходуном ходит. Генка тут же отвечает:
— А чтоб штаны не порвали, наверно.
— Ну, я же серьезно… Там же, до общежития, всего двадцать метров.
— Да, близко. Я вот, тоже, лежу и думаю… а не сбегать ли посмотреть, как там они живут без нас, а?
— Хорошо бы!.. Ротный, я видел, около двенадцати домой свалил. И старики, кое-кто, уже давно дернули в самоход.
— Так, может, и мы… рванем, а? — приподнимается Генка.
— Давай! — вдруг соглашаюсь я. — Посмотрим для начала, как там и что… Хорошо?
— Давай! — соглашается Генка. И мы, в едином объединяющем порыве, быстренько поднимаемся с коек. И правильно, чего кота за яйца тянуть… за хвост, то есть. Загорать тут? До подъема ещё — о-го-го! — пять часов. Самое то!
Кстати, о загаре. Нас, солдат, в армии даже в темноте можно по загару определять, кто какой год служит. Ну, смотрите. Третий год — старики! Они все загорелые аж до черноты, от головы до пяток. У некоторых даже вообще всё… У других только узенькая белая набедренная повязка незагорелого тела светит. Так сказать, пляжный вариант. Жизнь — малина! Загорай, не хочу. Второй год — «салаги»! Почти все черные, только сверху: от пилотки, до брючного ремня. Всё остальное молочного цвета. Смотреть противно. Первый год — «молодые»! Наоборот, всё сверху донизу молочного цвета. Черные только лицо, шея и кисти рук. Да, ещё нос, как правило, обгорелый и шелушится. Вот я, «салага», как раз такой вот сейчас — до пояса — тёмнолицый-белый. Или наоборот — белый-тёмномордый. Не поймешь, как правильно… А, не важно.
Мы уже цокаем с Генкой на цыпочках мимо дневального, чтоб дежурный по роте не заметил. Заговорщически, по-свойски, подмигиваем дневальному, мол, ты нас не видел — мы тебя! В округлившихся глазах дневального ужас, зависть, и восхищение. Это, конечно, наглость — «салаги» и в самоволку?!
— Ну, вы даёте… Ну… — И понимающе пожимает плечами, конечно не видел, и отворачивается в сторону, — «дуйте»!
Понятно, глаза не видят — проход открыт.
Выходим в гулкий лестничный коридор…
Тихо, почти темно… Начинаем осторожно спускаться. Полутемные марши винтом уходят вниз, в темноту. Их, оказывается, так много у нас, если ночью?! Утром или вечером летишь по ним — три секунды, совсем не заметно. А сейчас… А вот и дверь. Двери у нас в полку все классные. Они открываются в любую сторону, в зависимости от того, куда мы несёмся… Сейчас дверь приоткрываем на себя, чтоб с улицы не очень было заметно. Прислушиваемся! Шагов нет, голосов тоже. Где-то, с центральной улицы слышен редкий шум проезжающих машин. Вокруг тихо. Выглядываем, всматриваемся в слабоосвещенное пространство за крыльцом подъезда. На обход бы не нарваться… понимающе переглядываемся с Генкой. Никого. Не сговариваясь, пригнувшись, на цыпочках, затаив дыхание, мы, с Генкой, как две тени, скачками преодолеваем освещенное пространство, и в темноте — а дорогу-то мы, о-го-го, как хорошо знаем, с закрытыми глазами помним — несемся в сторону несуществующего забора. Мы так торопились с Генкой, что споткнувшись, едва не перевернулись через живую изгородь из мирно сидящих на земле солдат, нашей и не только нашей, оказывается, роты. Слегка только так помяли этот плетень-посиделки.
— Пашка, атас, назад! — барахтается, поднимаясь, Генка. Но уже поздно, я тоже влетел. Нас заметили. Да и как не заметить, когда воткнулись в засаду, как два бегемота.
— О-о! Ещё двое! Ну, хорошо. О-очень хорошо!
Голос ротного!.. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ… «Писец» нам пришел! Залетели!
— Та-ак! И кто это к нам пришел? — голосом воспитателя в детском саду, радостно вопрошает ротный, приглядываясь в полутьме.
Точно, это он! Ротный! Старший лейтенант Коноёб… эээ… Коноводов! Нам, с Генкой, хана! Как же так, он же, вроде, домой ушел, я же видел? Оказывается нет, не ушёл. Засаду нам, гад, устроил. Точно, что засаду. В самой середине живого забора из солдат, сидит наш ротный, старший лейтенант Коноводов.
— Так, кто это там, я спрашиваю?
— Рядовой… Иванов. — Мямлит Генка.
— Рядовой Пронин. — Вторю я.
— О-о! Это уж точно свои… наши. Что-то вы задержались, ребятки! Задержались— задержались, я говорю, давно вас тут ждем. Присоединяйтесь пока, рядком. Присаживайтесь-присаживайтесь, не стесняйтесь. — Радуется нам, вроде, как родным. — Отдыхайте. Так о чем это мы сейчас говорили? Салаги прервали…
Чей-то вялый, скрипучий голос в темноте тянет:
— Вы рассказывали, как на заводе учились напильником работать.
— Да, точно! — подхватывает ротный, и поправляет, — только не напильником, а рашпилем.
— Да как-кая на х… р-разница, нап-пильник, р-рашпиль… — вспыхивает тот же злой, недовольный голос, видимо дембеля.
— О-о!.. Не скажи, мил друг, не скажи. Значит, ты, Филимонов, ничего и не понял! Как с такими знаниями и на дембель?!.. А разница, скажу я тебе, ох, какая большая. Хорошо, начну с начала.
— Нет, нет, не надо!.. — взвыл умоляющий, посиделочный хор голосов. — Не надо.
— Товарищ старший лейтенант, может спать пойдем, а?
— Уже второй час тут сидим…
— Какой спать? Вы что? — оскорблённым тоном восклицает командир. — Если человек, ваш, можно сказать товарищ, не сегодня — завтра на дембель, — не понял разницу между напильником и рашпилем, как же так? Мне стыдно за него будет… Да, вон, еще двое салаг, почему-то опоздали… вообще не слыхали. Так что, я щас, быстренько, еще раз всем объясню. Да, и до подъема-то осталось… Сколько?.. О-о! Совсем ничего. Можно и вообще не ложится…?!
— Так, значит, на чем мы остановились?
— На… напиль… — устало тянет кто-то, отчаянно борясь с зевотой. Тут же спохватываясь, обрывает себя, — тьфу, ёпт… на этом, как его? На рашпиле! Вот!
Громкий хохот солдат нарушает тишину ночи.
— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! О-хо-хо!
— Проснулся, сынок? Ну, молодец! Правильно, на рашпиле… — смеется и ротный.
Напильник… Рашпиль… Ну, бля, прогулялись по девкам, называется.
А все равно весело!
Скоро подъём.
44. Как Генка друзей кормил
— Эй, оглоеды, всё, пошли в ресторан, жрать охота. — Бодро заявляет Генка Иванов, вызывая нас в тамбур плацкартного вагона… — За мной.
Мы возвращаемся из какой-то там по счёту концертной командировки.
Наши ребята, танцоры, чтецы и другие, как обычно, разбрелись по вагону кто-куда, и отдыхают. Кто на гитаре играет, кто девчонкам «мозги пудрит», кто просто спать завалился. У нас всегда так, если нет реального интересного объекта внимания, и если не очень голоден — значит, нужно спать. Так до дембеля быстрее! Это знают все. И не важно — вагон, самолет, автобус, вокзал, казарма… скорее спать! И мы бы сейчас тоже спали, но больше, пока, жрать хочется. Так, что, как говорится: «Первым делом, первым делом «по-берлять бы». Ну, а девушки? А девушки потом». В обед мы вообще сегодня — как никогда! — голодными остались… Причём, из-за Генки, из-за него.
Подвел нас Генка, облажался. Говоря прямо — провинился он перед нами. А мы еще тогда, дураки — а ведь нам предлагали! — вежливо отказались присоединиться к обеду с пассажирами нашего вагона. Генка сказал: «Не будем мелочиться, чуваки! Тут и так, без нас, ртов много, да и еды что-то сегодня, я вижу, маловато, да? Пусть эти проглоты за нас едят (Это он об остальных ребятах-срочниках из нашего ансамбля песни и пляски). Мы на станции себе еды купим». И хитро так подмигнул. А, понятно!.. Мы, тогда, и отказались, спасибо, мол.
И вот, тебе, что называется…
Короче!..
Только-только поезд затормозил, мы бодро выскочили на станции — Генка, я, Ара Дорошенко и Валька Филиппов. Машинист, конечно, не рассчитал, наш вагон опять до станции не дотянул. Мы же обычно в хвосте поезда едем, а рынки располагаются где-то в середине перрона. Это неправильно, не справедливо. Пока до рынка добежишь — из нашего-то, общего — там же всё смести, к этой… понимаешь, бабушке, могут. Короче, рынок опять где-то впереди нас. Мы, естественно, в галоп — надо успеть, времени-то совсем мало. А там, на рынке — шум, гам и дым коромыслом. Всякие разные дедульки и бабульки бойко и с азартом торгуют… Нас ждут, пассажиров.
Подбегаем…
О!.. Как тут много еды всякой!.. Всё домашнее, всё горячее, свежее. С печки, с жару!
«Горя-ячая карто-ошечка, — зазывно кричит пожилая женщина в платке с узелком на лбу. — Све-ежая горячая карто-ошечка. Подходите, покупайте… А то щас поезд уйдет!»
«Малосольненькие огу-урчики, малосолё… — кричит другая, — На, скорее, касатик… Пробуй, пробуй», — протягивает на вилке ломтик влажно блестящего рассолом огурец.
«Свежее молочко, свежее парное молочко…»
Чего тут только нет! И лучок, и куры жареные, и помидоры, пирожки, варёные яйца, разная синяя и красная ягода, свежие и маринованные грибы, семечки жареные, головки подсолнухов…
Вокруг крик, гам, и суета. Все куда-то бегут, страшно торопятся, всем всё нужно получить быстро и только без очереди. Хотя все с одного поезда, но многие нервно убеждают окружающих, что вот их вагон, как раз уйдет именно сейчас, и обязательно — вот-вот! — раньше других. «Да вот, представьте себе, раньше вашего, да!» И поэтому, их непременно нужно пропустить без очереди. «Понятно вам?»
Из всех вагонов, как куры из курятника, рассыпалась во все стороны по перрону толпа разных любопытных и озабоченных пассажиров. Мужчины разной комплекции и возраста в пижамных штанах, майках и шлепанцах, покуривая, важно прогуливаются, с интересом оглядывая окружающих их женщин. Женщины тоже фланируют почти по-домашнему, не стесняясь, в бигудях, многие в халатах. А кого б тут стесняться, красноречиво говорят за хозяйку бигуди. Юлой, ужами крутятся в толпе местные любопытные пацаны, маленькие, с хитрыми глазками, дети цыганской национальности, разные мелкие проворные собаки…
Пассажиры, кто с пакетиками, кто с термосами, бутылками, бидончиками, свертками — снуют туда-сюда, шустро носятся по маленькой привокзальной площади. Успевая при этом, и на вокзал заскочить, ещё быстрее и выскочить — там же ж голяк! — и кипяточку набрать, и в общественный туалет сбегать. И даже вчерашнюю газету «Гудок» купить, местную какую, «Правду». И, конечно, по сторонам поглазеть… А как же! Вокзал же ж, станция!
Да, станция.
А вот нам не до станционных красот… Ни туалет, ни кипяток нас не интересуют. Мы, четверо, сквозь толпу, как нож в масле, проходим к торговому прилавку, начиная с дальнего его края. Я и Ара с боков. Генка, как всегда, на острие. Валька Филиппов сзади. И только мы это, красавцы, возникаем перед прилавком, как на нас обрушивается волна соблазнительных предложений: «это обязательно купить», «вот это обязательно попробовать», «и это…», и…
Мы в фуражках, темно-синих гимнастерках ПШ, красных погонах с лирой, портупеях. Ярко блестим армейскими значками, ещё ярче голодными глазами. Ниже пояса нас можно не представлять, ниже прилавка нас продавцы не видят. Красавцы, одним словом! Да, и наши, извините, молодые розовые лица, с налетом любопытства и легкой голодной грусти, располагают к себе и приводят к мысли: бедные солдатики… голодные, поди, а денег-то и нет, наверное!..
Генка, тот, смущаясь, у него это всегда здорово получается, говорит:
— Нам бы, бабушка, на рублик, чего-нибудь… Можно и картошечки.
Торговцы, видя перед собой молодых солдат, сразу тают, вспоминая, наверное, своих детей и внуков. Именно так вот, когда-то, а может и сейчас, мающихся с голоду где-то далеко от дома, на чужбине, на государевой какой службе… Суют нам, от этого, сердобольные, еды даже немного больше, чем на наш, тот, железный рубль. Генка — он расплачивается! — осторожно передает нам один или два мягких и тёплых, вкусно пахнущих бумажных свертка с едой, и расплачивается, громко брякнув своим железным рублем. Вежливо благодарит, улыбается и кивает головой: «Спасибо вам, бабушка (когда, дедушка), спасибо!..» Мы тоже вежливо благодарим, и скорее, обратным ходом. Теперь уже Валька впереди — все остальные за ним, выскакиваем из очереди. Пройдя вдоль этого рынка метра три-четыре, выбираем глазами недостающие в нашем меню продукты, и опять мягко, но уверенно врезаемся в толпу. Там, у прилавка, всё повторяется: Генка с грустной физиономией скромно просит чего-нибудь на рублик. Мы, с благодарностью, отовариваемся… Генка расплачивается… Быстренько выбираемся. И опять всё с начала… Обычно количество продуктов и их ассортимент, зависят от длины торговых рядов и времени стоянки поезда.
Так и сегодня…
С первого захода мы быстренько отоварились вкусно пахнущей, горячей картошечкой и несколькими огурчиками… Генка мастерски расплатился, бросив, как обычно, в тряпочку продавца, свой железный рубль. Мы, уже повернули на выход… Как Генка тут взвоет вдруг, сдавленным голосом:
— А-а!
Ара чуть ту картошку от испуга не выронил. Поймал, правда, но напрочь испортил товарный вид, размяв пакетик всмятку на своем животе.
— Чё такое? — Мы встали.
— Ты чего?..
Генка стоит, как в штаны наложил, голова, плечи, руки повисли, сам чуть не плачет. Мы его в кольцо: «Ты чего, что случилось? На ногу, что-ли кто наступил?» Торопим его, оглядываясь вокруг, давай, мол, Генка, говори быстрее, а то поезд сейчас пойдет, а мы еды ещё не набрали.
— Ну? Что?
И очередь уже нас тут выдавливает, торопит, мол, не мешкайте ребятки, не мешайте, выходите быстрее, коли уже купили. Вываливайтесь, ну!..
— Ру-убль оборва-ался, — чуть не плача, едва бормочет Генка.
— Ка-ак оборвался?! — В один голос, уже вместе, орем мы.
— Ты что оху..?.. — Мы не верим своим ушам. Что он говорит? Наш единственный, спасительный, продовольственный рубль… — Да ты… Ты, серьезно?
— Да-а! — тянет Генка, виновато кивая головой и шмыгая носом.
— !!
Это катастрофа!
— Ну, бля-а!..
Такого у нас еще не было.
В поездках у нас всё было: рынки были малюсенькими… рынков вообще на станциях могло не быть… продавцы, как бы это сказать, могли, видимо, вообще не иметь в своих родственниках никаких солдат или военнослужащих… Но такого… еще не было.
— Как это… получилось? Ну!
— Рези-инка… оборвалась!.. Перетёрлась, наверное!
— ?!
— Оборва-алась! — втягивая голову в плечи, мямлит, вдрызг расстроенный Генка. Так ведь и мы сильно расстроены, даже более того…
— Дать бы тебе щас по шее… Чтоб бошка твоя…
— Резинка у него, понимаешь, перетерлась!..
Что уж теперь говорить об этом… Бей — не бей, рубль не вернешь! Наелись, называется! Ну, Генка, гад! Мы, а для нас это действительно трагедия, и неожиданно это и неприятно, как мешком по голове саданутые, обречённо и расстроено вываливаемся из толпы. Всё. Приехали. У нас еды — как раз одному человеку, на один зуб. Ну, что ты будешь делать, а? И поезд уже сейчас пойдет… Всё! Голодные и злые на Генку, плетемся к своему вагону. И там уже, поди, всё без нас, понимаем, съели…
Таким вот образом Генка и провинился перед нами. Оборвался у него, видите ли, при расчете, единственный наш, спасительный наш железный, на резинке рубль. Генка обычно, держа его двумя пальцами за краешек, там, где тоненько просверлено и привязана резинка, протягивает его продавцу. А потом, как бы, щедро так — без сдачи, мол! — сам бросает его на кучу мелких денег лежащих перед продавцом. Там, обычно, всегда есть горка всякой меди и железа, в смысле денег. При этом, даже мы слышим, как наш рубль, чётко и железно, брякается о горку своих собратьев там, в железной денежной кучке. Но… тонкая желтая упругая резинка, ещё быстрее, мгновенно и совершенно незаметно, возвращает наш рубль обратно, к нам. Блюм, значит, в Генкин рукав, и порядок, начинай сначала. Этот Генкин фокус красиво работал и на сцене, и в быту, в смысле, кормил нас. Всегда всё было четко, всё отработано, как по инструкции, как по чертежам. И вот, тебе на — облом. Да полная катастрофа, а не облом! По шее Генке дать, что ли?