Асистолия Павлов Олег
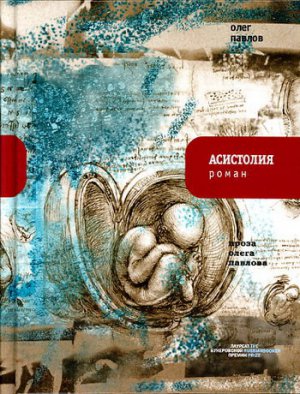
“Сам ты собака и совесть пропил, а это — друзья человека!”.
Порция оладий, кипяток — и мука, жир, вода, соль растворяются в желудочной кислоте так, что хочется спать…
И многие, кто пьяненькие, клюют в тарелки, уже дремлют, будто и пришли сюда не выпивать, а поспать, как за легкой смертью…
Хлоп!
“Cпите, спите, пока бесплатно!”.
Уехать… Скорей… В Москву! В Москву! Но баба расположилась за своей стойкой, будто на первом ряду… Все ей одной видно. Все перед ней, и кто вошел, и кто засобирался… У нее и муха не пролетит… Хлоп! “Москве в жопу — едем на работу!”.
Когда все же вышли, пес увязался за ними — наверное, самый глупый. Вышмыгнул сдуру на холод, сам не зная, для чего это сделал… Поскуливал, заглядывая в глаза, будто и просил нижайше объяснить, только и понимая, что просит у людей. Хотелось, чтобы унялся, отцепился. Но вдруг Саша как будто перестала понимать, что это собака. С ней что-то творилось. Присела на корточки, прилипла к ней, к этой грязной вонючей псине, гладила, говорила нежные слова, порывалась прижать к себе, согреть… Пес взвизгнул и отскочил, как ушибленный, весь сжавшись. Оскалился жалко, пугая, защищаясь. Куда-то шарахнулся — и сразу пропал.
Пустой вагон электрички… Темнота проносится и воет… Мчится, мчится в Москву… Он целует ее, обнимает… Она же прощается, спешит сказать все главное… Приготовилась, ждала… “Я старше вас, вы станете известным художником, я верю — а я совсем другая, обыкновенная, поймите, вы все обо мне придумали, вы полюбите, а это все не нужно, ни вам, ни мне… Вы полюбите, полюбите, я в это верю… свою ровесницу, незаурядную прекрасную девушку, с которой вам будет интересно, которая сделает вас счастливым, поймет вас…”. Он молчал — и она замолчала. Молчали, как будто осталось мало слов и нужно было их беречь. Не выдержав — уснула у него плече. Или притворялась спящей до самой Москвы. Когда открыла глаза, стала отрешенной, чужой. Хозяйка, устала, вернулась с работы — а тут гость пригрелся, то есть он. “Я вас не забуду… Но это ничего не значит”. Прощаясь — прямо на вокзале, целует в щеку, дотягиваясь, почти утыкаясь… Теперь уже он — ни мертвый, ни живой. Все чувствует, все понимает. Вот она с ним прощается… Целует… Гладит по щеке… Так близко она — и так далеко. И будто он кричит, орет ей что-то — но не слышит она, горе у нее.
Только не смогла похоронить… Пришла, через несколько дней. Вечер. Звонок в дверь. Стоит пред ним… Знала, что это должно случиться. Он ждал. И она так долго его ждала. Он стал ее первым мужчиной.
Но не осталась. Хотел поймать такси — отказалась. Проводил до метро — и это все, что позволила. И вот он трепетал, что не раздастся телефонный звонок и что не услышит больше даже ее голоса. Ворох презервативов — тех, что купила мать. Провожая, возвращался один и чувствовал уже не счастье, а тоску. Сказал: “Я хочу, чтобы ты стала моей женой”. Услышал: “А если я умру, ты женишься на другой?”. И потом она исчезла… И он, совершив невозможное, отыскал, вернул…
Что-то такое же темное, будто предсказание, с детства, когда пропал в земле отец, бродило в его душе. Ребенком он мучился, чувствуя приступы одиночества, страха: стоило подумать, что те, кто забрал отца, придут за ним, и что мама знает об этом, знает: скрывает от него что-то тайное и молчит… Но когда любовь светом и воздухом ворвалась в душу, понимал лишь то, для чего теперь живет… И, обессиленный, но обнимая свою женщину так, будто тело срослось с ее плотью, испытывая блаженство, упоение, судорожно отдышался смешками, слыша весь этот бред… Кто может отнять ее у него, ну что за бред! Нестерпимо хотелось воды, холодной, чтобы погасить не огонь, а жар во всем теле. И хоть изнывало оно от жажды, дрожал в ознобе, предвкушая как бы еще одно возможное, почти райское наслаждение: пить, пить! Но не смел оторвать себя от нее, страшился оторваться… Было это, когда всю ее видел… Было, как еще не было, будто исполнил каждый последнее желание. Для того чтобы раздеться и лечь в одну постель, они ловили те часы, когда Алла Ивановна, могло показаться, понимая это, освобождала квартиру. Остаться на ночь, хоть упрашивал, вообще — остаться после того, как это с ними случилось, Саша отчего-то не могла себе позволить, отказывалась и уезжала в свое общежитие, где уже ему не было места. Пришла — а он больше не мог ее отпустить. Все другие слова отдали себя. Он сказал: “Я хочу, чтобы ты стала моей женой”. Услышал: “А если я умру, ты женишься на другой?”.
И тогда он сказал, как много раз, нарочно, уже шутливо, говорил и потом, зная, что случилось… “Ты будешь жить вечно”.
Все в ней вдруг отвердело, он это чувствовал. В заполненном пустотой молчании, похожая на кончившую позировать натурщицу, Саша встала и закрылась спиной. Минуты, нет, секунды отбивали дробь в стянутых болью висках. Скользнули вверх трусики… Вот лифчик вспорхнул своими лепестками и принял форму захлопнувшихся твердых бутонов. Скомканное, тоже сброшенное прямо на пол любимое платье раскрутилось и тенью заглотило по самое горло, как наживку, свою же теплокровную владычицу… Все, что сняла, отдала, положила, сбросила, переступив порог, совершив весь этот медлительный обряд, похожий на птичий танец, взвинченное какой-то силой, лишь убыстряясь, кинулось куда-то вспять, застывая в бездушно-опустошенных, повторяющихся с точностью до наоборот жестах…
И вдруг время остановилось! Обрушилась тишина! В комнате стало пусто. Почему-то казалось, что исчезли вещи — все ее вещи, и только после этого пропала она сама, так бесследно, как если бы ее даже не существовало; а он, оглохший и немой, бродил голым по своей квартире и что-то искал, пока не разрыдался как ребенок… За что?! Как отыскал, вернул? Это вместо мужа помнила Саша. Знала с его же слов и хранила предание о себе самой… Искал, нашел, среди тысяч и тысяч, увидел ее лицо, но даже не скажешь “увидел”, этого не передать: встретились взгляды, и оно явилось ему одному… Нет, без тени переживаний, хотя бы растерянности… И не радостью или жалостью просияло… В ее глазах увидел он торжество… Торжество… В общем, бессмысленное упоение победой, но не над ним одержанной, а будто бы над судьбой, вызов которой бросила, безжалостная к нему, к самой себе, не задумываясь, зачем же было нужно пройти такое испытание. Это было такое хладнокровие, которое его ужаснуло еще при мысли, что она там, в своем медицинском институте, расчленяет трупы, изучая их анатомическое строение, и это просто учебный предмет, просто какая-то анатомия. Приучила себя — и приучала его. Но что найти ее было почти невозможно — вот что уже никогда не забывалось… Торжество, торжество!
Время притупило все… То, о чем они оба помнили.
Как же мало они хотели: больше не расставаться друг с другом. Это было лишенное уже всякой страсти желание, даже устраняющее ее, страсть: вместе ложиться спать и просыпаться. Только в детстве было так страшно во сне одному. И, казалось, тот же страх, возмужав, наполнился вдруг потребностью любить, быть любимым, а таинство это, когда двое как будто согреваются в телесной тесноте — без него нельзя было ничего почувствовать. Обнявшись, сжавшись в комок, чувствовать — а иначе стать совсем бесчувственным и омертветь. Как мертвело в конце время свиданий, скомканное… Короткие замыкания любви — и чужой порядок, убранная тут же, как вагонная полка, постель. Противное чувство вины — не то, когда стыдятся себя, прячут… У них и не было для этого темноты. Не прятали… Прятались. Мать возвращалась с работы, но к ее приходу они успевали расстаться, пережить это состояние, когда все кончено. Было, заплакал ночью. Ничего не мог. Даже любимой, самой любимой — ей, Саше, был нужен, казалось, другой человек. “И я имею право на существование! Я знаю, что могу быть совсем другим человеком! Какую же пользу могу я принести, чему же могу я служить? Во мне есть нечто, но что?”. Шептал в черной, непроглядной пустоте, но уже умоляюще, как если бы просил… Через несколько дней студенту сообщили в деканате, что его работу отобрали для выставки молодого искусства. Она, такая, была первой. Отбиралось для нее сто, почему-то именно сто молодых со всей страны, но еще из Италии, Польши, Швеции, Финляндии, что делало ее не просто студенческой — открытой, международной, в духе времени.
Саша взволновалась и посерьезнела. Ходили на выставку. Еще и не жена, но держалась так, будто все кругом должны были знать, что это — ее муж, она — его половина. Столько людей, столько картин, пестрый шумный хаос, в котором все, чудилось, лишь терялось, исчезало! Но вдруг: приз! Самый молодой… Интервью… Поздравления… Приглашения… Похожие на свадебки знакомства… Призеров то ли почетно, то ли образцово-показательно принимали в Союз художников — и вот, еще студент, он превратился в самого молодого в истории члена МОСХа! Мир распахнулся, в глаза ударил ослепительный свет. Появился тут же ценитель — не кто-нибудь, американец, купил картинки для своей галереи: все, что до этого времени успел, смог выжать из возбужденного будто бы голодом воображения, чувствуя то радость и легкость, то отчаянье и страх. Торжественное закрытие разгулялось студенческой пьянкой, братался финн с итальянцем, поляк с русским, и в упоении человек сорок горланили: “Горбачев!”, “Перестройка!”, “Гласность!”. Кричали победно уже на разных языках: “Искусство или смерть!”. Кто-то первый выкрикнул — и вот, сбившись в кучу, чувствуя себя последними, кто остался в живых на поле боя, кричали… “Искусство или смерть!”. И он орал, пока не вытянула из всех объятий Саша, увезла, едва стоящего на ногах, домой; и все повторилось, как уже когда-то было. Но теперь он стал тем, кем до этого дня не был, потому что победил!
Вскрыл призовой конверт — а в нем награда. Улетели картинки за океан — получил другой. Мог сказать: “Мне заплатили”. И отчего-то даже подумать не мог: “Я продал”. Но и не думал о них, о деньгах, кружилась голова от ощущения то ли праздника, то ли свободы… Это было мечтой исполнить все желания… Что же отдал, если столько получил, — не успел почувствовать. Деньги остались у него — и казалось, повезло, вытащил счастливый билетик, не отказался, взял.
Тогда и появилась эта квартира — на краю Москвы, без телефона, почти без мебели, съемная. Он спешил найти хоть какую-нибудь… Не потому, что мечтал отдельно жить, нет. Это она, Саша, мучила себя мыслью, будто нужно было иметь какое-то большее, чем даже любовь, право, чтобы жить с ним — не под одной крышей, разумеется, но в доме, который он-то считал своим. Эту ее психологию, раздражаясь, он называл “деревенской”… Будто какая-то поросшая мхом старуха внушала все эти пещерные истины: “пузом вперед не лезь”, “в дом чужой босая не заходи”… Плевать, кто и что подумает… Не было у нее — было у него. Ведь даже эту квартиру — он сам нашел, оплатил, и вот они живут. Он сделал это для себя, для нее, она приняла это — и они счастливы вместе… Ну, и какая разница… Все это, свое — эту квартиру, эту московскую прописку, он способен и должен ей предоставить, а иначе кто он такой, загулявший морячок? Разве можно жить в Москве без прописки? Как на вокзале? Но зачем?! Для чего скитаться по чужим брошеным квартирам, когда есть своя? Что это за принципы такие, выйти замуж и как бы тут же подать на развод? Да и каким другим способом она себе мыслит получить прописку, то есть вообще остаться в Москве? Да что там прописку, хоть без нее даже на работу не примут, но квартиру, жилье? Что, сами заслужим, а пока поживем так, на съемных? Сашенька, сколько это лет, когда же мы ее получим… Как?! Заработаем сами, своим трудом, на кооператив? Ты будешь работать, я буду работать… И мы копить будем полжизни на то, что уже есть у одного из нас… Но это какой справедливости торжество? И поэтому нужно себе устроить все это?
Нет, только не об этом… Мрачнела, глаза не видели света. Идти ей было некуда, ведь выехала из общежития, но бросалась прочь; не успел, не догнал — садилась в автобус и до глубокой ночи тот ее из конца в конец возил… Москва! Темная, вся в огнях, но холодная, чужая — встречным поездом на бешеной своей скорости проносится, все несется, несется, и нет ей конца… От Солнцева до Теплого Стана как в омут… Туда-обратно… Бедная его девочка, как же мучила себя… Нет, она не истеричка, это нужно понять — железные нервы. И комплексов не было провинциальных, какая там “провинциалочка”… Тут другое, тут Джомолунгма, Эверест, все вершины, неприступные… У него сердце проваливалось, конечно, но все же беглянка возвращалась, только уже ночью, если он сам не перехватывал ее, когда догадался, что бросается в первый попавшийся, остановка же, как гриб, росла прямо у дома… Час стоит, два, три, четыре… Автобус подходит — там три маршрута, глазами обшарит по стеклам, запрыгнет и вдруг — вот она, живая… Пока шли — молчали. Но это было особенное, трепетное молчание, которое каждый боялся нарушить. Когда начинали прорываться наружу слова, лезло, конечно, больное. Только это было не порывом что-то расковырять, сделать больней: так дети жалуются, показывают, где у них болит, успокаиваясь, прощая и даже переставая чувствовать свою боль, когда их жалеют, как бы разделяя ее с ними, тоже страдая. Больше было невыносимо терпеть — и всегда в один миг все зло, какое только мучило, испарялось. И ничто, казалось, уже не могло их разделить — ни по пути до замызганного подъезда, ни в душах, ни в жизни. Он клялся, во всем соглашался, отступал… Но сдавалась, прощая, все же она. Казалось, это и есть быт, семейный быт. Правда, не было еще семьи, как не было и дома — только эти стены, где ничего своего, и место в очереди на регистрацию брака, и она тянулась, эта очередь. Своих вещей поэтому не перевозил и наезжал к матери, возвращаясь с необитаемого острова на землю, где все оставалось как есть, как он привык. Всего-то через несколько месяцев, в декабре, поставить должны были этот штампик в паспорте, думал дождаться, а тогда пересилить Сашу — и переселить как раз под Новый год с острова на землю. Но когда сбежали они вдвоем на свой остров… Как же он трепетал, когда уходил… за ней, к ней, с ней… Юноша, он стал вдруг мужчиной. Подрощенный пугливым опытом случайных связей любовник бесстрашно превращался в мужа… Утром мать провожала, хотела накормить, но все валилось из рук — а он сбегал, бросив завтрак. Дом, в котором вырос, опустел — а он и не думал об этом. Так легко обрел свободу, ничем за нее не заплатив, разве что завтраком, брошенным, недоеденным. Больше они были ему не нужны, эти завтраки, эта забота. В тот день уж точно, будто отрекся. Действие, которое должно было почему-то повториться еще много раз… Переступил черту — порог родного дома.
Он все решил. Все знал. И все исполнилось. Все.
Когда ждала у своего общежития с вещами, их и не оказалось почти, вещей. Только держала на руках, что-то прижимала к себе, как живое существо, и он подумать успел: какая-то игрушка любимая… Смешно, все равно что мягкая игрушка — плюшевый, в плюшевом переплете. Желтушный, облез. Он и набит был памятью, временем, так что распух, этот плюшевый альбом. Она считала это хранилище времени своим, как если бы и получила в подарок, но со всей жизнью — толщу спрессованных фотокарточек, в которой больше не осталось пустых листов — а стоило раскрыть, читала, приникнув, будто книгу. Добирались туда, в Солнцево, на метро, автобусом, и, пока ехали, тут же, как ребенок, обо всем забыв, раскрыла… Можно подумать, только что попал в руки или мог исчезнуть. Спешила… Наверное, пока он был рядом… Детское желание увидеть и показать себя — только ему, только на минутку… Вот вдруг на лице появляется гримаска, выражение светлой бессмысленности… Через мгновение взрослеет, превращаясь в школьницу, поджаты губы, взгляд связывает что-то в узел… Возвели лесенкой, плечом к плечу весь класс, кажется, хор глухонемых. Назойливое: “Угадай, а где здесь я?”. Как и стремление тут же — в метро, в автобусе, перезнакомить со всей своей родней… Все ее внимание и даже волнение отдано лицам неизвестных ему людей; и странно чувствовать, понимать — для нее близких, родных… Огромный дом, погруженный, пока не отворила плюшевую дверку, в темноту, тесно населенную призраками в одиночных комнатках, каждый из которых готов ожить в ее глазах… Замирают, смотрят в никуда, чтобы осталась память… Но уже с фотографий прямо в глаза смотрят, кажется, так и смотрели когда-то на него — молча, долго. И вот ему неловко, тягостно, как чужому.
“А здесь, а здесь? Где я, где?”.
Угадал — расколдовал спящую мертвым сном.
Одна нотка в голосе чем-то ранила, но чувствовать заставляла не ту боль, противную, как укол тоски, свою — ее нежность. Растворилась в нем капля ее крови, ее слезинка. Нежность. Это была она, она, только маленькая эта девочка ничего не знала… Будто бы ничего не знала… Но шла за ним. А он знал… Да ведь он действительно знал, уже проделав весь этот наземный и подземный путь, один заглянув чуть ли не в будущее — и вернулся, чтобы забрать с собой…
Весь этот путь… Светофоры, которые передавали чьи-то зашифрованные сигналы — идти, ждать, стоять; и улицы с их асфальтовыми лентами тротуаров, что двигались вместе с людьми; судьбоносные туннели подземных переходов; одинаковые сцепленные между собой вагоны метро, как минуты, часы, дни, месяцы, годы, что пронеслись, пронесутся, — и оставалось только ждать свою остановку; эскалаторы, то поднимавшие на ступеньках раскладных пьедесталов вверх, то опускавшие вниз, чтобы в конце вдруг исчезнуть из-под ног, юркнув в свою преисподнюю… Две точки в геометрическом хаосе всех этих путей, по которым что-то и перемещало их так неимоверно долго только навстречу. Расстояние, чтобы увидеть… Расстояние, чтобы услышать… Сжималось. Сжималось. Потеряв себя, нашли как будто вместо себя человечка, каждый своего. Они будут жить вместе, любить своих человечков. Жить, чтобы любить. Любить, чтобы жить. Но что-то нарушилось, сместилось. Так странно было ощущать, что две их жизни сложатся, сольются в одну: будто бы на одну больше, но и на одну меньше. Легче? Тяжелей? Всего-то вещи ее стали его ношей, взялся, нес — чемодан, связка учебников, — а она уже порывается эту ношу с ним разделить, цепляется надоедливо как-то сбоку, мучаясь и его мучая, успев, наверное, сто раз повторить одно и то же: “Тебе тяжело… тебе тяжело… тебе тяжело…”.
Они шли, оставалось пройти совсем немного, она не понимала этого… “Это он, это здесь? Этот? Где же, где?” Придумал игру: пусть отгадает, где он, этот дом… Смеялся… Ну да, над ней, чтобы любой выбирала, какой захочет… Как будто можно было зайти в первый попавшийся подъезд… Они стояли, как пирамиды, эти блочные многоэтажные усыпальницы, что-то попирая в душе одним своим видом… Одинаковой высоты, вообще одинаковые — и одинокие, белые-белые, светясь на фоне какой-то вечной мглы… Черный космос, высвеченный ледяными огнями… Чувство невесомости… Небо — вечность. Спальный район, какая глупость, звучит глупо… Вчера он искал то, что было пустым словом, адресом. Спрашивал у людей, блуждал, как если бы ничего не видел даже там, где стояли все эти дома. Теперь — уже вспоминал по очертаниям, как бы на ощупь, где он, этот дом, как он к нему шел. Район, о котором не слышал, его и не существовало — а теперь возник, существовал. Наверное, это было единственное место на земле, которое почему-то так называлось, почти город… Солнцево… Вспомнил прочитанное в книге: Гелиополь… Где оно, божественное Солнце, и его священный город? Вспомнил: Эхнатон и Нефертити… То же небо, но оно как дыра, многоэтажки похожи на колонны без сводов… Солнечное затмение. И они, маленькие человечки, одинокие даже перед их высотой, как если бы и своей судьбой… Ключи от квартиры — все, что было при нем… Чудилось, ее окна должны тоже светиться точкой в скопище теплых желтоватых звездочек…
“Ну где же, где?” — кажется, он до сих пор не отгадал, и это она знает ответ, не терпит поскорее сказать, ее тайна.
Примета, по которой он узнает этот подъезд, — косоротая надпись, ее нельзя не заметить. Она как будто только что появилась. И все читают, прямо на дверях, если входят, наверное, даже если не хотят… СВЕТА СУКА… Подъезд — погребальная камера, стены которой искромсала своими криками чья-то злая дикая радость оставить о себе память… Лифт — лязгающая, стонущая гробница, где странно стоять и мучает что-то похожее на электрический свет… Кнопки этажей как будто выжгло. Одну, теперь уже свою, опознает — и вдавит в пустоту. Осторожно, двери закрываются… Лифт подымается на последний этаж, но ощущение, что это спуск под землю, глубоко в шахту, на дно. Что они делают, ведь ничего нельзя изменить и что-то произойдет, чего могло не быть, если бы не сделали этого шага, остановились… Комната страха — подвешенная на стальных тросах кабинка, из которой, если что, уже не выбраться, в которую пойман… Почувствует: и она боялась… Когда попадаешь в лифт — и под тобой эта его шахта, навязчиво возникает одна и та же мысль…
Вот эта чужая дверь в карауле себе подобных. Продырявилась, будто износилась в странствиях, дерматиновая обивка — и клочья ватной ее подкладки торчат паклей из разрывов. Вход в тот мир, в пустующую одиночку. Взламывали когда-то и уже не раз меняли замки. Пробоины от старых залатаны напросто фанерой… Откроется, пропуская вперед, — а воздух, свет, будто застыли. Слышалось, внутри кто-то есть. Звучала ясно плавная речь. Но это вещала неумолчно радиоточка. Пахло куревом, и чувствуешь, забывая, что дышишь: все хранило лишь горький спертый дух… Когда войдут в квартиру, она увидит все это, чужое… Первое, что вырвалось: “Здесь кто-то умер?”. Произнести не смогла “жил”, “был”… Не верилось, что это было жизнью, — все в эту минуту — ни ему, ни ей. Он притворился, что не услышал, почувствовал, что становится жалок. Он должен был хоть что-то сделать, подготовить, но, получив ключи — решившись, отдав хозяйке деньги за месяц жизни вперед, — не выдержал даже своего одиночества в этой квартире, бросил, уехал… чтобы привезти сюда Сашу… Нет никакой еды, надо что-то купить, он забыл, спешил, не позаботился и об этом. Но еще не поздно, где-то же здесь есть продуктовый… Он спустится, найдет, купит, хоть что-то будет… И он ушел. Сбежал… Когда вернулся, она мыла полы. Улыбалась, радовалась тому, что успела сделать, и уже гордилась собой. Он принес макароны, оказалось, не купив соль, но было поздно идти за солью — и с раздражением чувствовал себя калекой, ни на что не способным.
Саша скоблила, замывала, как будто следы преступления, и ползла, ползла все дальше, продвигаясь почти ничком, на коленях. Он помогал, нашлось для него занятие, орудие труда — ведро. Уносил, когда заполнялось грязной жижей. Сливал в унитаз то, что было водой, когда набирал под краном чистую, теплую. Ведро, еще одно, еще и еще… И не успевала остыть, выносил помои — во что превращалась, теплая еще, пройдя уже неведомые самой себе, водопроводной, страдания. Так несколько часов… И это могло быть для кого-то работой… Ведро живой — легче, мертвой — тяжелое. И вот он точно бы вычерпывает — то мертвую, то живую. Или сам это придумал, как ребенок, для которого все должно быть игрой и лишь тогда имеет смысл: что добрая легкая вода впитала человеческие страдания и стала мертвой жидкой землей. Саша не сдавалась и не уставала, хлюпая тряпкой… Но прекратился день — наступила ночь. После потопа — тишина. Чудилось, она все же смогла выжать из тряпки всю грязь, и сырость в квартире пахла почему-то стиркой, как будто не полы сохли — отмокало свежее белье, распустив свои паруса.
Отмыв, отчистив, жалеет все, как живое. Прикасаясь теперь даже к чужому стакану, горемыке, — кажется, хочет с ним заговорить, утешить. И вот вдруг начинает говорить, да, как с живым, так что становится не по себе, страшно, откуда она, эта жалость?
Потом возилась со своими вещами… Перебирала уже ощутимо родное, драгоценное до мелочей. Будто что-то искала — и нашла… опять в руках этот альбом.
Теперь не разглядывала — вглядывалась… Вдруг провалилась в какую-то старую размытую фотографию, на которой совсем маленькая, когда еще себя не помнила, где-то у моря, лепит куличики в песке… Нет, вспомнила: Азовское море, отец привез их к морю…
Глаза ее вдруг заслезились от нечаянной сильной радости… Она радовалась… Радовалась… Но теряя память — проникаясь к этой малютке своей нежностью — как безумная, но тихо, почти беззвучно, через несколько мгновений уже плакала…
Лицо некрасиво дрожало.
Он ничего не мог сказать и ничего не понимал, понимая, что она не плакала — оплакивала кого-то… Подумал почему-то: кого-то, о ком он не знал, но кого еще могла увидеть в этом альбоме.
Эта была такая минута… Встречи? Прощания? Но с чем?!
Она молчала — и он молчал.
Сколько раз еще раскроет? Подумал — как загадал. Со всей силой, самому себе страшной, глядя на нее, подумал: уберет в чемодан — и больше не откроет, даже не возьмет в руки…
Плюшевый любимец в ее руках — спал, заснул, пока прижимала к себе и оглаживала его бархатистую поверхность, как слепая. Может быть, эти однообразные движения успокоили что-то в ней самой. Теперь думала. Вздохнула. Спрятала альбом в чемодан…
Пришло время, выложила… Халат, ночную рубашку, свое белье постельное — все как у невесты. Что-то шелковое, бирюзовое. Только мелькнуло. Почему-то подумал — приданое. Но стыдилась. Ее мучило, будто они всем открыты, у всех на виду. Ее попытки занавесить голое окно на кухне простынею угнетали своей нелепостью. Нелепой казалась сама мысль, что кто-то мог бы подглядывать в окно на пятнадцатом этаже, пусть даже из домов напротив. Нелепой была эта простыня — огромный кляп. Успокоилась, когда добилась своего — и на кухне, где было уготовано лечь, воцарился глуховатый больничный покой. Тогда оставила его на несколько минут в этом странном пространстве, исчезла: а ему казалось, что сейчас погаснет свет и на этой простыне, как на экране, вспыхнет яркая цветная жизнь, начнется кино, ведь почему-то же так напоминала экран. Она появилась в шелковом бирюзовом халате, расшитом пламенеющими цветами, драконами… И еще подумал: кукольное все какое-то, как у маленькой девочки. Все это было такой игрой — искренней, но опять же очень детской. Откуда все это богатство? Об этом он подумал… Но чемодан — тот, с которым забрал ее из общежития, хранил не одну эту тайну… Возникали предметы… Фарфоровые чашечки, будто из перламутра… две чашки такие же странные, можно подумать, кукольные, как этот игрушечный экзотический халат. Точно бы отчеканенная серебристая блестящая кофейная турка и тонкая стальная ложечка вместе с ней… Произошло что-то красивое, таинственное, созрел запретный плод, распустился горьковато-сладостный аромат кофе — как ей хотелось, это исполнилось ее желание. То ли явь, то ли сон… Все должно быть именно так… Там, где она. Простыня колышется, будто за ней что-то происходит, прячется, но потому что от окна дует. На кухне включили плиту, уже все четыре конфорки. Холодно — и они включали их, по одной.
Она, будто в чем-то виновна, ждет — и не ложится.
Он думает лишь об этом — об этом, а не о ней — и до сих пор не может хотя бы обнять, поцеловать.
Теперь они сами, как время.
Свет погас… Сброшены, будто кожа, тряпичные оболочки…
Когда ложатся — на детском этом диванчике-малютке — нельзя ни повернуться, ни растянуться. Можно лежать, как-то сжавшись, так плотно, что чувствуешь себя эмбрионом — или тот, кто с краю, сползает, падает. Только вместе, как по команде, менять положение своих тел, уже и во сне… Легли. Обхватились, как дети, которым стало страшно, но вместе уже не страшно. Теплее. Гул — это гудит за окном ветер. Так высоко, так свободно и дико. Гул крови, даже он слышен. Гул, гул… Он всюду. Но, совсем притихнув, они вдруг слышат дрожание стекол — и гул, новый, далекий, но давящий, точно бы пронизывающий все вокруг… Он раскатисто приближается — и удаляется где-то там, высоко, где-то в небе.
“Я тебя люблю”.
“И я тебя люблю”.
Больше ничего.
Островок их любви оторвался от земли, выше птичьих гнезд. И еще этот гул… Можно было посмотреть в окно, будто в небо, и увидеть плывущий вдали, как бы по самому краю, чтобы не упасть, самолет. Пассажирские авиалайнеры пролетали и днем, и ночью, в одном направлении. Снижаясь, потому что шли на посадку, возникая в узкой воздушной плоскости прямо над срезом белесых многоэтажек, чьи вершинки равнялись до горизонта, упирались в тупик… Последняя ступенька широкой бетонной лестницы в небо. Чудилось, только и можно подняться. Ни он, ни она еще не жили так высоко. Кто жил до них, должно быть, потерпел бедствие. Все давало это почувствовать, и в брошенном пространстве пустой квартиры отчетливо отпечаталась чья-то прерванная жизнь…
Чья, почему… Кто же думал об этом… Думали, что остались одни… След присутствия человека — помазок на раковине умывальника, окаменелость. Что-то похожее на заскорузлую рыбью чешую — одно, другое — бритвенные лезвия. Совмещенный санузел. Вода пересохла в колодце унитаза — но пусто капает из крана, как время, утекая в ноющую черную дыру. Тайно и на виду, если закрыться, сидя на стульчаке, устроен и алтарь, и гарем — здесь и собирал, и прятал свою коллекцию… Стайка пестрых бумажных бабочек веером облепила дверь: японки в бикини, розовые заморские чушки, фигурки, наверное, любимых актрис и венеры, венеры, венеры, будто подброшенные в перевернутых позах… Даже не понимаешь, сколько, чьи, откуда… В середине, крупнее всего этого телесного роя, но в нем рожденная, она, та самая, только без жемчужной своей раковины, его, что ли, богиня… Уже в комнате, на стене — Высоцкий. Как хозяин — не гость. В кепке, в зубах сигарета…
Голо, пусто — но во всем какой-то застывший, все пропитавший беспорядок. Нет даже штор на окнах. Что еще стояло — перекосилось, как будто вся она когда-то дала гибельный крен. Все в ней, в этой комнате, сдвинулось, сломалось — и застыло, опустошилось. Прямо на полу, совсем как ящики, составлены несколько допотопных телевизоров. Наверное, жалко было — и кто-то же хранил здесь этот хлам, копил… Отжили, теперь стоят, гробики, некому вынести. Но усопшие экраны тупо смотрят — и там, в их лупах, что-то мерцает. Вылупились — и смотрят, все еще сосут какую-то жизнь, поймав ее будто муху в паутину. Всюду гильзы пустых бутылок. Выпитое до дна. Послания о спасении. Каждое не доплыло, вернулось. Кухня, в которой как загробное приданое собрано то немногое, что еще могло послужить; хоть казалось, что уцелевшую мебель, посуду, штук шесть осиротевших заварочных чайников, вилки и ложки — все это, и мусор с рухлядью, на пустынный этот берег, разметав, швырнуло волной… Теперь вдруг вспомнилось: “В начале было слово”… Было! Это было слово МИР! Беззвучно его вмещая, холодильник этой марки, округлый саркофаг, поднявшись в человеческий рост, казалось, на том и стоял. Из него пахнуло тленом. Темно. Тепло. Пусто. Так пусто, как если бы ничего превратилось в ничто. Но стоило воткнуть штепсель в розетку, просто воткнуть штепсель в розетку, все равно что попав ключом в замок — произошло обыкновенное чудо… Встряхнулся, громыхнул, затарахтел… Казалось, можно прожить без телефона и телевизора, но без холодильника жить нельзя. И вот он работал, трудился, точно бы соображая неустанно, как электронная вычислительная машина, чем наполнить теперь эту жизнь.
Пустой холодильник, он пугал. Страх… Голод… Нет, это было что-то другое… Давки за водкой, у винно-водочных уже не очереди — стоны, вопли, ходынка… Но шампанское никто не замечал. Пропало молоко — но больше никому не нужное на каждом углу продавалось мороженое. В общей жадной панике, в которой запасались, скорее тратили деньги, расхватывая что еще можно было купить, будто наступал какой-то последний всенародный праздник, он выстоял поблизости очередь — стояли, оказалось, за суповым набором, и когда упрятал в морозилку добытые кости, ощутил умиротворение: шампанское и мороженое уже заполнило холодильник. Сам собой в сознание проник голос из радио… Оно и не умолкало, лишь приглушенное, чтобы прислушаться или забыть. Диктор сообщал о событиях в том, огромном и далеком мире… Услышал: “Объединение Германии, свершившееся в согласии с соседями, с другими государствами и народами, — великое событие не только для немцев. Оно произошло на стыке двух эпох. Стало символом…”. Услышал как во сне — и тут же забыл.
Пустила в эту квартиру — взяла у него деньги и отдала ключи — оставшаяся безымянной пожилая женщина… Первое впечатление: сторожиха, уборщица, санитарка… Такое существо: бедное, простое. Напоминая смешно ворону, грузная и суетливая, прошлась как-то боком, еще раз обыскивая глазками все, что бросала. Вдруг то ли важно, то ли обиженно каркнула: “Живите!” — так же громко, грубо: “Платите!” — и пугливо, лишь получив свое, пропала за дверью. Кончился месяц — возникла первого числа… С укоризной, что сами бы о ней не вспомнили, осмотрелась. Отмерила что-то своими приставными шажками, как метраж. Глядела боязливо, моргая. Все узрела и стихла, как если бы никогда здесь не жила… Квартира стала другой и даже пахла теперь по-другому, потому что обитали другие, новые люди… Смутилась при виде этюдника, прямо посреди комнаты расставленного на паучьих лапах… Увидела холсты у стен… И многое, чего никогда в своей жизни не видела, но что произвело на нее впечатление будто бы где-то украденного, отчего пугливо застыла на месте. Потом очнулась, спохватилась, каркнула: “Платите!”. Цапнула. Пождала, пождала… И обиженно, ничего не говоря, ушла.
И осталось чудовищное, быть может, ощущение пира. Странное ощущение, что все в последний раз. Тепло, покой, в которых сгорает нежность. Он… Она… Они… Каждый вечер ужин при свечах. Эта свеча на столе для нее была чем-то до трепета сокровенным, чуть ли не сияние блуждало по лицу. Желание, даже условие, так она хотела. На первое — костяной бульон, на второе — макароны. Свингующий в полумраке джаз, прелюдии Баха в джазовой обработке, настоящая американская пластинка. Казалось, это звучало чуть приглушенно что-то далекое, неведомое, может быть, само время, что было такое легкое, нежное — и сменилось на тяжелое, угрожающее; ушло почему-то, исчезло, еще когда-то до их рождения. Огонек свечи пробивался, как лучезарный росток. Он светит и лучится, как звезда. Огонек — праздник. Ничего у них не было своего. В подарок к этому празднику они купили себе… хомяка. Теперь он жил в большой стеклянной банке. Гуляли по Арбату, и кто-то у зоомагазина продавал хомяков. Саша стояла и стояла у аквариума, в котором они копошились… Самого жалкого разглядела — и вот они уже принесли еще одного жильца в свой новый чужой дом. Повторяла: “Какой он хороший, какой он хороший…”. И, оказалось, придумала прозвище: Хорошка.
“Хорошка, Хорошка, выгляни в окошко!”.
Хомяк грызет длинную сухую макаронину, просунутую в его банку — свою же лестницу в небеса. Ужин подан, налито шампанское! Голоса джазовой капеллы жонглируют нотами Баха, будто разноцветными шариками… Бульон — драгоценный, переливается кристалликами жиринок. Но как же это было смешно! В стране нет мяса, зато полно костей… Горела, горела на столе свеча… Маленький огонек озарял пещерные стены, вздрагивал, точно бы от прикосновений, а кругом вздрагивали похожие на пляшущих человечков тени. И вот, сидя на троне, он провозглашал: “Бульон из костей — не для гостей!”. Птичка поймана! Бьется и трепещет ее сердечко в его силках! Смех, ее смех, нежнейшая из ласк! Табуретка — это трон… Да, она понимает, понимает: великий и могущественный, он так смешон! И, вся содрогаясь, не в силах вместить в себя столько счастья, беспомощно умоляет глазами: молчи, молчи… “Но из гостей бульон вкусней!”. Пляшущие на стене человечки взметнулись черными искрами. “Хватит…”. Стонет, задыхаясь, изнемогая от смеха. “Бульон из гостей, моя королева!” — “Из чьих… Из чьих…” — лепечет почти в забытьи, безумная. “А из чьих лично костей, узнаем завтра, из новостей!”. О, как они смеялись, забывая себя прежних, и тут же, с первого взгляда, влюблялись, смеялись, теряли память и влюблялись… Уже в бесчувствии, пили жадно шампанское, как воду, и оно не пьянило. Пустой костяной бульон вызывал в желудке противное ощущение каменной тяжести, как будто коричневатая жидкость и была отваром из камней.
В дни, когда ленятся купить хотя бы хлеб или картошку, в суповых тарелках на их пиру плещется шампанское — или разогревают в кастрюльке на медленном огне мороженое в брикетах и подают к столу… “Пьяный бульон!”, “Суп-пюре из крем-брюле!”. Гул, дрожь, эхо… Начиналась новая игра… Вместо наркоза — веселящий газ. Пузырьки шампанского, которые он c брезгливым видом — теперь старый брюзга — выискивал ложкой в своей тарелке… Ягодное, шоколадное и самый густой, сливочно-шоколадный суп из эскимо!
Все еще играя, танцуют — танцуя, раздеваются. Пытаясь стать чем-то целым, погружают свои тела в тесное для двоих, эмалированное корыто ванной — диванчик на кухне, где спали, совсем детский, малютка, был еще тесней. И вот — это ложе, застеленное воздушной шуршащей пеной. Оно плыло облаком, обнимая, согревая, подымая куда-то высоко-высоко.
То, что происходит с ними каждую ночь в этой квартире… И даже гул, что заполняется временем в те пустые молчаливые минуты, когда оно вдруг останавливается, как бы умирает… Да, да… Это какая-то церемония. Как та, что на ее фарфоровых чашках: загадочная церемония, то ли жизни, то ли смерти… Мандариновое дерево в цвету, на нем бумажные желтые фонарики вместо плодов: молодая китаянка в саду, чаепитие… Но цветы, вышитые на ее халате — они такие же, а в руках, в ее руках… маленькая фарфоровая чашка…
Она разрешала себя рисовать — то, что под шелковым халатом…
Позволяла ему так на себя смотреть только пьяной.
Так, будто перестала чувствовать, что с ней делают.
Алкоголь.
Ну, хотя бы притворяясь, что опьянела и поэтому согласилась.
Откроет себя, свою тайну.
Пустое замкнутое пространство. Здесь, посреди голых стен, когда позировала, ей казалось, наверное, что отдает себя совсем, всю — и это жертва. Такая, когда жертвуют собой. Но и хотела все испытать. Это превращалось в какие-то гимнастические этюды на грани извращения, что можно увидеть в цирке и делается всегда чему-то наперекор через боль.
Тело легко освобождалось — сильное, дикое.
Подчинялось — выполняло упражнения.
И — вдруг — мертвело. То есть всего лишь замерло. Замерло, как в той считалке детской, когда раздается: “Замри!”. Но вот что-то оборвалось, как дыхание. Как будто сам же нечаянно убил. Потому что теперь его сердце замерло… Потому что любил — и убил.
Голое тело, выставленное напоказ, внушало чувство, что оно теперь мертвое. Расстояние, которое разделяло, чтобы видеть ее всю, надвигалось и сжималось от этого страха — успеть вернуть, спасти… Рисунок оставался единственной ощутимой связью с той, живой. Чувства, мысли передавались с одержимостью импульсов. Это было что-то судорожное, как показания осциллографа, будто взлетало и проваливалось перо самописца на бумажной ленте, когда, устремившись куда-то вспять, запись билась и билась в одной точке времени, то вырываясь, то цепляясь за бумагу.
Ожило в этой возне — точно бы сбросившее кожу, сотканное нитями линий из клочьев пустот — и опустошилось.
Все это время она молчала. И он должен был молчать. Все это время на него смотрели ее глаза. А он, лишь раб, не мог оторвать своего взгляда, хоть даже выражение ее лица не менялось, лишенное, как у манекена, жизни. Таким сделала с решимостью, вызовом показать гордость, презрение… Это было лицедейство. Бездушное и трогательное. Почти пошлое, бутафорское — и выстраданное. Она защищалась как умела… Он получил свое. Придя в себя, чувствует это с раздражением. И тело ее теперь неприятно ему, даже хочется зло, чтобы прикрылась. Она же, когда все кончено, с видом исполненного долга расслабляется — лежит. Но ему кажется — валяется на полу в своей старой коже, похожей на ороговевший чехол.
Ожидание. Молчание. Но уже такое, как если бы что-то умерло.
Любит свое тело. Любуется. Оглаживает живот, груди, бедра, будто сама мучилась, рожала.
И вот удовольствие, радость — распласталась, давая отдых мышцам. Но не мыслям — мысли не дают покоя.
Осматривает рисунок, как будто делал это с другой… Не своя — а его тайна. Волнение ревности глушится безразличием узнавания… Кажется, смотрится в кривое зеркало — но чужое лицо наливается скукой, отвердевает, как маска африканского божка. Оскорбляется, чтобы оскорбить: я не такая, похоже на порнографию, противно… Но добивается признания, точно бы уличив: я такая, такая? И вот слова, настигающие, как расплата: “Ты меня не любишь”.
Он станет только жалок, пытаясь доказать обратное… Он как преступник на очной ставке. Когда он унижен, она почему-то обретает покой, внушительно давая понять, что стерто какое-то грязное пятно. Чистота, нет, выскобленная стерильность — и это в ней самой наружу вышло что-то властное, самоуверенность домохозяйки. Только это — и новые подозрения, возбуждает в ней вдруг желание, чтобы взял здесь, сразу же, смяв, подчинив, но и отдав даже эту свою силу. И ее. Тело. Подарок. Оно было подарено. Ему.
И вот уже оба лежат, откинувшись, на полу.
Произошло что-то удушливое, быстрое. Положение тел будто обведено контуром — так глубоко и тяжело дышат. Она зашевелилась, рукой нашла его руку — и сжала. То, что пережила, этот удар, не дающий опомниться, всего через несколько минут пробуждает нежность ей самой непонятного раскаянья. И он чувствует, точно проснувшись: живая, родная… Но хочется уснуть, обняв — уснуть там, где она и ее нежность, уснуть и не просыпаться… Но вдруг встает, как по сигналу будильника. Она. Ничего не говоря, ей нужно. Прячется. В ванной шумит вода. Все кончилось. Потом неожиданное гадкое чувство вины от картинок, с обратной стороны двери этого совмещенного “санузла”, когда тупо смотрел на разноцветное месиво женских тел… Что же за урод здесь жил… Зачем жил? Нужду справлял. И откуда-то мстительное желание: ободрать, ничего не сказав квартирной хозяйке.
Близость их стала какой-то супружеской: засыпали как будто отдельно, просыпались вместе, но возникло почему-то ощущение покоя — странное, потому что и он, и она приняли это вдруг по умолчанию и от этого было хорошо. Отсутствие желания, такое долгое — и ощущение покоя, в которое вторгалось лишь чувство вины, что ему хорошо, одному, и она лишь для этого покоя ложилась с ним, как бы только для того, чтобы согреть, самой согреться.
Каждую неделю она бегала на почту — приходили письма до востребования из Магадана. Было, пришел денежный перевод. И уже на этот адрес — красная икра, получила посылку, шесть литровых банок, переложенных тряпьем, газетами… Шесть огромных ярко-красных яиц. Драгоценность. Икринка к икринке, переливаются. С посылкой записка на заскорузлом клочке, прочла: “Доченька, продай икру, в Москве можно хорошо продать, возьми себе на учебу и на жизнь, понемножку трать, и вам хватит”. Понял, теперь о нем знали — вот и все. Он узнавал, слышал: “мама на берегу”, “маме не платят зарплату”, “мама простудилась”. Но, казалось, приносила что-то еще, пряча. Молчит, спросишь: “О чем ты думаешь?”. Тут же обманет, оставив ни с чем. Прошлое успело появиться — или возвращалось, давая о себе знать такими тычками молчания… Но даже того не дано понять, к чему прикоснулся. И еще этот альбом, в нем вся ее жизнь… Потом понял… Все, за что могла уцепиться, — этот плюшевый альбом… Он своей матери, пообещав, каждый вечер звонил из телефона-автомата у подъезда. Но Саша — она даже позвонить не могла бы домой, потому что не было давно никакого родного дома. Мать давала знать о себе этими письмами, посылками, переводами до востребования, на которые ей некуда было отвечать… Жиличка, без своего угла, пока ждала на берегу, или морячка, когда плавала — мыкалась, одна, и на берегу, как на плавбазах, в море… Где работа, там койка. Получать много. Копить долго. Вернуться с машиной в кармане… С квартирой кооперативной… Счастье, которое сулили шахты, прииски, путины, трассы… Новая неведомая жизнь… Куда кидали себя, срываясь целыми семьями, утекая с необъятных просторов на край земли, к подножию вечной мерзлоты… Отдавали годы, оставляли силы, теряли здоровье в мечтах обеспечить и себя до старости, и своих детей… Одинокое свободное плаванье далеко от материка. Нашла только это. Работала и работала. Но никто нигде не ждал, кроме дочери. Вспомнит, только подумает — “братик”, “мамочка”, и радуется, будто для радости этой родилась. Все это было. И дом, и семья — отец, мать, старший брат… Это и было жизнью, все родное… Мысль, что все где-то под одной крышей… То, что не могло перестать существовать в ее сознании, но уже не существовало в реальности.
Саша, Сашенька, а когда умирала? Никого не звала… И точно бы не верила, не понимала, что это смерть… С собой боролась, себя же заставляя боль терпеть, лишая помощи… И не он уговаривал: потерпи… Она ему шептала: я еще потерплю, потерплю… Родная… Когда умирала… Ведь это же смерть за тобой приходила? Cмерть?! Что могла себя убить — не понимала… Когда решила, что с ней это случилось, еще неделю ждала… Решила — значит, решилась. Это была только ее же убежденность, что в ней зародилась новая жизнь… Нет, еще только пряталась — и вот она прятала ее в себе, молчала, скрывала… Чужая, безликая, ничья… Поэтому не пошла проверяться, чтобы ничего так и не узнать… Не могла же, конечно, не думать, что это — его ребенок… Но если никто не знал, что этот плод любви существует, то его вообще ни для кого не существовало — и в этом тоже была уже какая-то преступная убежденность.
Спасение, все оно в последней минуте было, но если бы знал… Если бы он не успел — никто бы не успел. Так бы и уснула, если бы не оказался кто-то рядом — а быть это мог только он. Но самое страшное так и не почувствовал: к чему готовилась, что же сделала в эту ночь с собой… Было тоскливо сидеть дома — у матери, как будто навещал в больничной палате: рассказывал о себе, выслушивал что-то страждущее и восторженное о спасении всех и вся за пятьсот дней, делая вид, что понимает, сочувствует… Говорил, слушал — а думал о ней, о Саше: ночь без нее лишала смысла прожитый день, даже обрывая их, этих дней, связь… И нельзя позвонить, хотя бы голос услышать. Там нет телефона. Ждала, одна в этой съемной квартире. Потом, конечно, мчался к ней, вырываясь на свободу. И тогда мать ждала — молчала в пустом без него доме. Приезжал, оставался ночевать, потому что не мог быть довольным, счастливым вдали от матери… Это было чувство вины за свое счастье, только чувство вины… Слова текли в странной отрешенности, похожей на покой. Должен был остаться, для этого и приехал, за этим покоем. Но сбежал, не выдержал, сорвался на ночь глядя, что-то толкнуло… Поэтому все произошло именно в эту ночь — когда знала, что останется одна… Ждала, когда уедет он к матери, чтобы вколоть себе эти ампулы… Выкинув эту жизнь — всех освободить. В это верила, во что-то же нужно было верить. Но ошибку совершила как врач… Она, врач, совершила первую свою ошибку. Только эта ночь у нее была… Спешила, нужно было успеть, и, наверное, теряла чувство времени. Сначала две ампулы — как сказали. Но через несколько часов ожидания — еще столько же, потом еще… Решила увеличить дозу. Думала, быстрее подействует. Дождалась боли — той, внизу живота. Что же это было… Страх, неизвестность, одиночество, боль — все… Что переплавилось в решимость и стало страданием.
Успел, не разбудил: диванчик их, малютка, был постелен, но не ложилась… И она смогла обмануть, притвориться беззаботной, почти счастливой. Прямо из темноты и холода, беглец, обнял — тут же согрелся. Ощутил это тепло и ее волнение. Радовалась… Стало ей, наверное, легче терпеть, ждать… Но усиливалась только боль. Он был взбудоражен своим побегом. Кажется, не спал всю ночь. Сбежал от матери. Глаза матери: обида, растерянность, как будто просила, чтобы забрал с собой, а он не взял ее с собой. Вспомнил: обещал позвонить, когда доедет, чтобы не волновалась… Пообещал. Забыл. Вспомнил, чтобы забыть… Он привез талоны на водку: свои и еще мать отдала. Он купит водку — и обменяет на кофе для своей любимой. Сидел в чем пришел, лишь разувшись и сняв куртку, пришелец. Она пьет свой кофе, ничего не ела… Когда он уезжает к матери, она ничего не ест. Забывает себя сонливо, бродит в своих мыслях. В комнате общежития варила кофе в углу, на спиртовке. Тратила легко все, что высылала мать. Могла позволить себе не думать о еде, но платила за блажь. Огромный город… Общага… Соседки по комнате… Всего этого не замечала. Так она могла существовать… Слабела… Как он хотел еще побыть с ней, слабой, нежной… Придавливала рукой, будто укрывала, прятала это место. Он заметил, околдовал сам жест… Ранимость…. Рана… Женщина в шелковом китайском халате с распущенными до плеч волосами. Увидел как во сне. Ему даже представилось, что сквозь пальцы могла сочится кровь, шелк окрасился бы кровью — и пятно, оно распускается будто цветок, еще один в этом узоре… Только тогда очнулся. Спросил: что с тобой? Обманула: ничего, сейчас пройдет. Прошло, прошло. Но в какой-то момент лицо ее вдруг стало мертвенно-бледное, фарфоровое. Думала, началось, дождалась. Терпела, не вскрикнула. Мгновение — не испуг, а злость — что помешал все сделать, как готовилась. Стал свидетелем. А ей не нужен был свидетель. Спряталась в туалете. Долго не выходила. Гул воды… Вышла, пошатываясь, кружило голову. Но так себя держала, как будто это пришло облегчение с усталостью. Сказала, что хочет спать. Легли. Но не хотел уснуть. Обнимал. Она не сопротивлялась. В темноте вдруг призналась — “у меня болит внутри”… Пожаловалась — “как больно”… Во второй раз еле выползла из туалета: подхватил, уложил на диванчик. Лежала, похожая на куклу, глаза открыты, в зрачках пустой пронзительный свет. Только что было тихое блаженство… Все было, как всегда, как должно быть… И вот та, которую любил, она… умирала на его глазах?! Она врач — мысль об этом сделала его почему-то еще более беспомощным. Потерялся, лепетал, как маленький: “что мне делать”, “что с тобой…”. Просил у нее же помощи, и она, пока могла, говорила с ним… Шептала: “я еще потерплю, потерплю…”.
Эти ее слова…. Она ведь молила, умоляла… Теряла сознание, но тянула время, чтобы не вызвал врачей, как будто потому и мучаясь. Хотела остаться здесь, на диванчике. Боялась даже его вмешательства в свои страдания. Но навряд ли от бессилия что-то чувствовала. Скомкала одеяло, затыкая этим комком живот, уже не пытаясь внушить надежду. Сорвался, бросился. Вниз, звонить, вызывать неотложку. Весь отчего-то трепетал. Могло так быть, если бы рожала… Таксофон у подъезда — вот и все. Схватил трубку эту, отяжелевшую на холоде, что будто прикованная — а там молчание загробное. Колотил по железному панцирю кулаком. Трубка молчала. Страх, неизвестность, одиночество, боль… Так молчала, как не выразить даже, будто что-то с мучением сдохло и мстило теперь за это молчанием. Запрокинул голову — сквозь отвесную черную стену пробивался свет, светилось несколько окон. Там люди спрятались, и они не спят, в какой-нибудь квартире во всем этом доме должен же быть телефон… Ломиться в двери, никто не откроет. Мысль, бессмысленная, как крик, что раздался в опустошенном сознании: помогите, помогите! Но было страшно так закричать, не закричал. Ночь. Пустота. Выскочил на улицу, мертвую. Почувствовал, что ничего не дождется, даже если промчится машина, нет, не докричится и не остановит… Бросился к домам, в их лабиринт из просветов и темнот. Наткнулся: еще таксофон у какого-то дома. Взрыв радости — и тут же ярости: трубка оторвана. Метался, ревел и рыдал, не сознавая ничего, кроме боли. Если бы день, если бы не ночь… Она осталась одна, в этой квартире, на диванчике. Сколько прошло времени… Где же очутился… Но увидел будку на пустынной улице, внутри темную, как бы вход куда-то. Гудок… Голос… И кому-то, чей голос отозвался, задыхаясь и поэтому отрывисто, неожиданно осмысленно сообщает все, что знал… Все, что знает о ее страданиях… После волны счастья и облегчения — погружение в новый ужас. Вдруг обнаружил, что потерялся, не знает, куда попал. Дверь захлопнулась — а ключи-то, ключи у него… Она в ловушке. Как это могло быть, что это было, за что, за что… Одинаковые улицы. Одинаковые дома. Все окрашено в мутно-желтый.
Должен вспомнить — обратить время вспять и увидеть, где же выход. Время — это он сам. Все спрятано где-то в нем самом, этот лабиринт — он сам. Бросается бежать — и сырой холодный сумрак расступается, устрашившись. Впереди вспыхивают знаки, знаки вспыхивали, знаки, и целые картинки только что бывшего, куда влекло неимоверной тоской… Задыхался, воздух будто не проникал в сжатые легкие. Cвоего тела больше не чувствуя, бросал себя вперед, туда, пока не узнал этот дом, он узнал этот дом, отыскал, это был этот дом, тот дом, подъезд… Вот оно… СВЕТА СУКА…
Квартира, в которую все это время никто не мог войти, кроме него — кажется, никого нет, опустела. Она лежит на диванчике, как оставили, бросили — застыла, уснула. Разбудил своим приходом, напомнив о боли, вернул ее, боль, что обрела вдруг голос, утробная, медлительно-тягучая. Ныла и замолкала, ныла и замолкала… Как будто мучилась роженица… Не стон, не плач. Жалобное натужное усилие что-то побороть, от чего-то освободиться, подвешенное на этих качельках.
Безумный этот мир… Звонок в дверь. Что-то рвется, прерывается. Сам этот звук, бездумный, он как дыра. Входит. Случайный, помятый. Прислали. С чемоданчиком, ко всему готов. Сверху грузная телогрейка, под ней тощий медицинский халат, фалды которого плачевно свисают, напоминая оборванные крылышки — казалось, в того, кто в телогрейке, впихнули еще кого-то. “Ну-с… Пройдемте…”. Бурчит под нос, сурово и безразлично оглядывая новое место. Дежурство. Поступил вызов — выезжают туда, где болтаются между жизнью и смертью беспомощные живые существа. Но все этой ночью для него мимолетное, ничто не останется в памяти. “Ну-с… Что у нас тут…”. В этот момент хочет казаться самому себе всесильным. Бесстрашен, величав. Присел около нее, смотрит — и не смотрит, насквозь… Прощупал живот… Сказал, нужно увозить. И не было сборов. Пальто наброшенное. Пошла сама, по стеночке, до лифта. Замирала, морщилась. В кабину лифта шажками как бы перенесла себя. Но под конец, уже внизу, он донес на руках, подхватил. Машина “скорой помощи” у подъезда, как отцепленный маленький белый вагончик со светом внутри. Слегла там на носилки, не издав ни звука. Сбоку еще крепилось сиденье, все равно что несуществующее, откидное. Не спрашиваясь, он занял эту боковушку и остался при ней. Она лежала под своим пальто, что спрятало ее всю вдруг. Грубоватый шерстяной мешок с пустыми ненужными рукавами, будто бы вылезшими зачем-то наружу из его нутра. Ворот запахнул рот, которым дышала, умолкнув, сложив на груди эти ватные обрубки. Машина неслась, хотя мерещилось, что, сжигая себя скоростью, гнался по бесконечной прямой, сузившись до огненных точек в своей черной пустоте, вымерший город.
Вдруг стремительность ночной гонки улетучилась. Так быстро, что в это еще не верилось, расплылся свет, уши глуховато заложило тишиной. Пандус больницы, всплытие. Спасение, нахлынувший почти бессмысленный покой, будто бы душа, как волна, перенеслась, все равно что в будущее — и вернулась уже без сил, опустошившая себя там, где даже время исчезало и пока не появлялось.
Все и вся на маленьком пятачке не иначе между жизнью и смертью погрузилось лишь в полусонную возню. Хлопали поочередно двери, будили приемное отделение. Мелькали в проемах белые помятые халаты. Кого-то громко звали. Кто-то что-то ворчал. Подгребла с весельным скрипом каталка.
Пока с лежачей возились, перекладывая на голое железное ложе, та пыталась заговорить, казалось, не понимая того, что происходило.
Высвободила рот, черепашьим движением вытягивая шею из своего тяжкого душного панциря. Шевелила губами. Но глотала свои же слова и оставила попытки что-то кому-то сказать.
Сдав по какой-то накладной cвой груз, “скорая” тут же исчезла.
Он помогал и толкал позади каталку на ржавых колесиках, чтобы двигалась куда-то вперед. Но стоял как бы прямо у нее перед глазами, сам смотрел чуть ли не свысока… Ее лицо вдруг на мгновение ожило: стало строгое, упрямое, как всегда. Наверное, даже не чувствуя, что каталка, на которой лежит, куда-то движется, она своим взглядом запрещала ему на себя смотреть и думала лишь об этом. Заспанный, похожий в обвисшем халате на бабу, паренек — медбрат — недовольный, что за его спиной что-то происходит, остановился и буркнул, что дальше посторонним вход запрещен. И ее увезли на его глазах — по коридору, что был, как тоннель, где в конце зиял дежурный свет — сунув ему в руки ненужное пальто, которым была укрыта.
Еще стоял под угловатой стеной больницы, с мыслью, неприкаянной и безумной, что ей там холодно, без пальто. Но ни одно окно не светилось, это привело вдруг в чувство, потому что пугало… Осознал наконец — пока ночь, к ней не пустят. Пальто не осмеливался скомкать — и нес на руках, так что оно плавно изгибалось, где талия. Ночь шла и шла за ним, провожая, ждала, пока не подобрал автобус, первый, будто заблудившийся, но какой-то уверенной обратной силой, оказалось, вернул на ту же улицу, к этому дому.
На кухне забытый яркий свет. Диванчик, на котором она лежала… Теперь комкалось растерзанное постельное белье. Чьи-то следы чужие — там, на полу. Отпечатки грязных подошв от мужских ботинок очень большого размера. Кто-то натоптал — и ушел. Тот врач, это был он… Вспомнил и даже обрадовался, что хоть кто-то был, как будто к нему приходил и лишь ненадолго оставил здесь одного.
Ждал — и уснул на диванчике, обняв ее пальто, не выключая свет, ничего не делая, не раздевшись. Ждал, понимая, что не могла бы вернуться. Но нравилось чувствовать себя сумасшедшим, верить лишь тому, во что хотелось… Тепло, свое, и ее запах, наверное, усыпили. Кожа ее пахла, пахнет… травой, а волосы — цветами.
Ему кажется, что всего на минутку закрыл глаза… На кухне тот же морок — но прошло много часов. От этого ощущения даже тошнит. В окне все темное, сгустилось страшной загадкой… Настало утро — или отходит день. Сумрачно. Шевеление жизни. Огни в домах. Должен успеть к ней, в больницу. Больше некуда. Он так ненужен сам себе, что ему безразлично, жив он или мертв. Вероятно, он жив, он все еще существует — но, вскочив с диванчика, отбросив как тень лишь ее пальто, не падая и не разбиваясь, снижается тут же сквозь спрессованную толщу этажей, а прямо за подъездной дверью, чувствуя, что опустился вдруг на землю, шагнув на мокрый фосфоресцирующий асфальт, по холоду, как по воздуху, переносится на остановку, которую помнил. Сырость, холод, мрак ноября. Очутился в одном из двенадцати миров, самом промозглом. Замер и дожидался. Долго, если замерз, мучился, отчаялся, обозлился — и отошел бездушно от этих назойливых мук. Но все, что помнит, без усилий возвращается: и вот подъехал автобус, не мог не остановиться. Маленький зал ожидания, что сам же развозит своих пассажиров за сущие копейки. Подумал: помнить — это продлевать ожидание. И вот он ждет свою остановку. Спросит — подскажут, она так и называется: БОЛЬНИЦА. Это где боль… И уже удивительно осознавать: ему не больно, у него ничего не болит… Несколько женщин выходили там же, кого-то навещали, родных. И его роднило с ними это ожидание.
Женщины тревожно встрепенулись, будто какие-то большие птицы — это знак для него. И от остановки идет за ними — а они ведут, молчаливо поделившись памятью.
Что было дальше, почти не помнил… Внутри не светло — ярко, ослепительно. Птичья суета. В сумках несут угощенье, еду. Кажется, праздник у всех. Стайки у гардероба, где, расставаясь с верхней одеждой, исчезают, будто куда-то улетая. У стены между окном и дверью умещалась койка, тумбочка, ее перевезут из операционной отходить после наркоза. Тело, спеленутое во что-то больничное. Кажется, безрукое и безногое, лишь туловище. Продолговатое, покоится, будто рыба на боку. Она зарыдает, открыв глаза, осознав, что вернулась… Пласталась и плакала, ничего не понимая, до бесчувствия аморфная, одурманенная наркозом… Как могли ее усыпить, все равно что убить, а потом вернуть душу в это тело… За что… Мычала, вяло совершая над собой даже это усилие… Содрогалась, задыхаясь в своих же всхлипах. Боль там, где резали, пока не ожила, то есть ничего не чувствовала, ведь обезболили, но лицо мучительно кривилось, о чем-то кого-то умоляли в испуге глаза… Он забыл, что молчит. Почувствует в себе трепетную силу ее защитить — а сказать сможет… Почему-то улыбался.
НУ ВОТ, ВИДИШЬ, ТЫ НЕ УМЕРЛА…
И она почти взвоет, но глухо, выдыхаясь… Когда утихнет, произнесет вдруг отчетливо, резко…
больше никогда не оставляй меня одну.
Чудилось, вспыхнуло что-то, тут же погасло.
Глаза отрешенно широко смотрели. Нечто вроде тусклого и тупого безразличия, как будто уснула — и спала, но с открытыми глазами.
Какое-то время он находился рядом с ней, не покидал ее, исполняя ее же приказ. Но без слов, тихо вышел, осознав, что был ей не нужен и чему-то мешал своим присутствием.
Медсестра на посту, чье скучное лицо озолотилось под светом обычной ламы, лишь кивает безразлично — ординаторская — это туда… Полоска света под дверью. Он стучится. У него есть это право, он знает. Долго ничего не слышно. Наконец раздается надсадное: “Открыто!”.
Захламленный врачебный кабинет, холодильник, старый диван… Немолодой, будто выпивший, не вставая с дивана, стонет…
“Я вторые сутки, понимаете вы это, вторые сутки!”.
Но все же взгляд несчастного мучительно осмысливается, он заставляет себя слушать, он говорит…
“Какое состояние, ну? C чем… Палата, фамилия…”.
И уже в ответ повинно бормочет что-то почти бессвязное…
“Крови литра три, мамочка, в пузо набрала… Успели, повезло… Жить будет… Зашил. Все. Состояние прекрасное! Чудесное!”.
Ослабел, сдался — и, отвернувшись, все равно как робот отсоединился, утратив память, обретя покой.
Больница закрывалась, гардеробщица, дождавшись последнего, всучила верхнюю одежду, обругав и забыв спросить номерок. Когда неожиданно, как метку, он обнаружит в своем кармане эту кругляшку с номером, то ничего не поймет — и выкинет, уничтожив, наверное, единственное доказательство, что эти сутки не были чудовищным сном… Он бросился к матери, он как будто вспомнил, что у него есть мать… Ему нужно было спрятаться, обрести защиту… Он обо всем рассказал своей матери… И все, о чем рвался, спешил рассказать, действительно, отделилось от реальности как что-то воображаемое… Да, он все рассказал… Рассказывал, рассказывал до глубокой ночи, пока все не оказалось прожито, но уже за несколько этих часов, что беспробудно курили на кухне, ничего не делая, как если бы это было такое переливание крови, когда даже не двигаешься.
В конце концов все умещалось в словах, что ночью Сашу увезла “скорая”, что она могла умереть… Но Аллу Ивановну успело взволновать лишь одно событие: что все это время ее сын не давал о себе знать… Остальное выслушала она почти хладнокровно, похожая на учительницу… И когда он промямлил неуверенно про внематочную беременность, разочарованно хмыкнула, выражая этим свое окончательное мнение… Когда ей удалили кисту — а это была сложнейшая хирургическая операция — она уже через неделю вернулась на свое рабочее место. Беременность — это то, что происходит с каждой женщиной… Саша допустила это? Но как же она, медицинский работник, проявила такую беспечность, не планируя, очевидно, так рано заводить детей? И почему не смогла определить, что беременна, ведь это, стало быть, состоялось? Но ее сын почему-то сам не знал ответов на эти примитивные, казалось, вопросы… О, как же легко он предал свою бедную девочку, начав обсуждать с матерью эти вопросы… Может быть, потому что надежно спрятался и успокоился — а мать его защищала, как и должна была, почувствовав опасность, от той, другой… Но и себе не позволяла думать иначе: это решение, которое принимает женщина, поэтому женщина должна отвечать за него… Трагедия — потерять ребенка. Испытание — родить, вырастить. Но не избавиться от нежелательной беременности с помощью какой-то там операции, представлявшейся ей не цинично, а как-то легкомысленно, чуть ли не разновидностью аборта. В общем, она посчитала, что ничего трагического не случилось… Это было с ее стороны даже как бы мужеством: поставить ей самой непонятное зло в тупик и обезоружить. Даже огорчение, что Саша попала в больницу, превратилось во что-то деятельное, вызвало прилив сил…
Она не легла, отправив своего блудного сына спать. Стала готовить, будто хотела кормить маленького: питание, а не пищу. Столько лет заботилась лишь о нем, одном — а утром, как бы не заметив, что старалась не для него, оставив чуть ли не угощение для попавшей в больницу то ли неприкаянной девочки, то ли взрослой женщины, но все равно не ставшей родной, ушла на работу. Она больше не знала, надо ли его будить, как делала это всегда, когда уходила, и поэтому лишь проговорила, сонному, что уходит… Казалось, забыв о том, что в его жизни есть еще кто-то, кроме матери, сын спросил, сколько времени — наверное, чтобы отстала, и, ничего не понимая, тут же опять провалился в сон.
Саша встречала взглядом, почти потухшим от ожидания.
Ждала, будто верила, что мог бы тут же забрать с собой.
Он примчался, но мертвым грузом в палату проносит лишь еду. Увидев эти баночки, все поняв, ни к чему не притронулась, замкнулась. И ему нечего рассказать — связать то, что разорвалось. Видит лишь лицо, опрокинутое на сиротской больничной подушке. Чужое. Обескровленное. Похожее на гипсовый слепок. Сказала… Ей нужны ее вещи: зубная щетка, тапки, ночнушка, халат… Они там, в квартире. Больше ни о чем не просила. Последние слова, и время, которое для посещений, что пробыл, как последнее. Свидание в больнице. Истратилось, кончилось, будто его давали, чтобы отсрочить что-то под конец; и то лишь для тех, кто встретился.
Он вдруг подумал, что все дни, которые он и она прожили вместе, они ведь только исчезали? Он даже не заметил безжалостной смены… Весна, лето, осень… Теперь в опасной черноте, похожей на затмение, мерцает капельками ртути уже как будто ледяной дождь… Воздух, еще не замороженный — зараженный. В чьих испарениях болотный бронхитный кашель; гриппозный изнуряющий жар… Он болен. Он уже, наверное, болен. Этот озноб… Это жар…
Смятая, брошенная — теперь, кажется, кем-то, кто был здесь в их отсутствие — постель, на которой возлежало, точно бы ожившая тень, женское пальто… Зашел в квартиру за ее вещами — и остался. Спустился, позвонил матери, сказал, что не приедет, останется там… тут, здесь… Где ждали ее возвращения даже эти вещи… Когда он спустился — тот телефонный аппарат, у подъезда, работал. Он осознал это, лишь по странному как бы заявлению матери, когда спросила, будто не веря ему, откуда он звонит… Что-то случилось — ее сын к ней не вернулся. Она хотела, чтобы и сегодня он приехал домой. Она ждала. И вот ей некого в этот вечер ждать. Она станет ему нужна и он приедет к ней, когда ему будет плохо… В это она верит, его мать…
Саша просила привезти тапки, халат — а он собрал все ее вещи. Все, что принадлежало ей в этой жизни. Перед ней, этой горкой вещей, успокоился — и стал теперь заново разбирать, вспоминать, узнавать… Холмик. Песок. В пальцах, на ощупь, те же привычные ощущения, от прикосновений, будто к ней он прикасается. Это были ее чулки, трусики, лифчики… Эскулаповы ее учебники, в которые впихнула медицинская наука все человеческие внутренности с их болезнями… И студенческие общие тетрадки… Почерк, сделавший еще более одинаковыми все их страницы: чернильная мания преследования, ученическая отмершая кардиограмма, где в каждой букве все же бился сильный и ровный пульс… Заколки, резинки — где вдруг ее, ее оборванная ниточка волос! Это легкое ночное платье, ниспадающее до пят, этот шелковый халат с перламутровой застежкой — подарок, приданое от одинокой матери… И вот турка, вот нашлась эта ложечка… Чашки… Бездушно, бесчувственно — и больно, как если бы нельзя воскресить живое. Но вдруг, в одно мгновение, это живое тепло страдания растечется, будто кровь, когда в руках окажется плюшевый альбом. Открыв, совсем слепо, тут же увидит фотокарточку: маленькая девочка на берегу моря… Будто бы увидел, как она ждала, что-то к себе прижимая… Это она, в мире нет и не будет другой такой же, никогда-никогда такой же другой в мире уже не родится… Мысль, только мысль, что она могла не родиться, так потрясет его в этот момент, что видение девочки у моря, смотревшей откуда-то из времени прямо на него, ничего о нем, будто бы очутилась где-то впереди, в далеком будущем, не зная, действительно начнет, горячо набухая и расплываясь, растворяясь в светлой мути, терять резкость, почти пропадать, исчезать.
Она рассказывала… Вспомнил… Маленькая девочка набила кармашки пряниками и отправилась на своем трехколесном велосипеде, ничего никому не сказав, в путешествие вокруг земли. Думала, круглой, такой же маленькой, что можно прокатиться, как по кругу, и вернуться прямо к дому… Хватившись, нашли в нескольких километрах от их поселка. Ее уже кто-то задержал, взрослый, обратив внимание, заметив на обочине трассы. Но даже не испугалась, радовалась, была счастлива, думая, что увидела весь мир, пока ехала и ехала на своем велосипедике.
Она ведь уже все ему рассказала… Он заполнен ее историями, тайнами, и это лишь малая доля того, что хранится в его памяти, разумеется, на замке. Но все, что о себе рассказал, почему-то забыл. Помнит, что утаил, спрятал, то есть как раз “несказанное”. Как мало живут слова — те, что свои… Разве что когда их возвращают, тогда это ранит. Ну, конечно, они ведь не в нас должны прорастать, эти семена… В немоте слова сила, там они и не слова уже — мысли. Свои, уму и сердцу близкие. И зачем врать, не нужна ему была ее откровенность, эта грубая изнанка слов… Каждое было как прикосновение, вот они для чего, свои слова, чтобы прикасаться… Притягиваться с ее словами, соединяться… Тогда кажется, что передаются через дыхание. По воздуху, но через дыхание. И дышишь, жадно дышишь, надышаться не можешь. Забываешь себя опустошенно. Кожа, кожа — и та ничего не чувствует. Но чувствуешь до трепета и дрожи, если становишься ближе, косноязычие свое же преодолев как стыд. Проникаешь, будто червь в яблоко, то есть кажется, что ты сам, но это твои слова проникают — и куда же, как не в ее сердце, как будто своего-то нет. Хочешь заполонить собою, чтобы сердце ее принадлежало тебе одному. Кажется, чувствовать начинаешь, как она, и потом наступает момент, когда задыхаешься, лишаясь воздуха, просто не слыша ее голоса, и словами осязаешь — так у слепых зрением становится слух. Да, слова-чувства, почти прозрачные, аморфные медузы с тысячью щупальцев. Но не замечаешь, что вдруг наполнился ее словами — нет, звуками ее вселенной! Потом каждое слово было как признание, даже самое обычное, что можно сказать, если не молчишь. Пока не уснули, почему-то в постели, до изнеможения, сознавались в самом странном. Он тянулся к ее свету — наполниться, с ним слиться, будто был для себя же черной дырой. Пока не услышал этот зов: ищи себя во мне… Какой-то страдающий, как будто и найдешь-то в ней страдание, смерть. И это выше разума, потому что понимаешь, страдаешь — но идешь, как животное, исполнить чью-то волю… Но чью же тогда, если не ее? Паук, запутавшийся не в ее — в своей паутине, просто потому что ее — это не есть твое, а твое — это всегда ее… И вот ты уже заговорил не своими, а ее словами… И то, что не можешь узнать ее мыслей, — сводит с ума, точно бы лишился своих… Боишься потерять, когда уходит одна, в никуда, хотя бы на телеграф, мучаясь сознанием ее, такой естественной, свободы, как бы еще одной, другой жизни… Готов лишить себя свободы — но чтобы не было у нее…
И вот он живет одиночкой в этой похожей на захлопнувшуюся ловушку квартире, заперся в ней изнутри, будто заперт кем-то снаружи. Лишь вечером выводит себя на свидание. Это время, оно как тюремное, дается на два часа. Свою ненужную свободу препровождает арестанткой в больничную палату, где койка между окном и дверью, давно своя, родная — пристанище, место их встреч. Радость. Тоска. Нежность. Простыня, одеяло, одомашненные, точно бы нездешние, не от мира сего, посланные ее согреть и укрыть, дающие ни за что приют. Рассказывала, как, ничего не понимающую, но в сознании, ее везли на операцию… И что ночную рубашку — ту, что была на ней, — в спешке разрезали прямо на теле ножницами… И что какая-то бабка брила ей лобок… И он вдруг начинал это видеть. Девочка его будет взрослеть, набираться сил, а он будет много дней жить с ощущением, что все делает, как должен, и ему поэтому разрешают ее навещать, приходить… Он будет приносить сладкие конфетки и глупые книжки от скуки, горячие поцелуйчики и просто нежные слова. Ужин — тот, больничный, что всегда как бы чужой, съедают вдвоем; она говорит, что сыта, отдавая ему лучшие кусочки, если что-то повкуснее можно выловить в этой сосущей из людей желудочные соки бесплатной баланде. Званый ужин! Вот по коридору кричат санитарки, зовут: “На ужин! На ужин!”. Чудилось, он приходит каждый вечер на ужин… Голодный, хоть и не чувствует этого, и скрывает от нее, что почти ничего не ест. Даже за продуктами для себя выходить не хочется, забросил занятия, к вечеру просыпается, а днем спит — спит и не стелет себе, лишь бы проспать беспробудно весь день, когда не хочется жить. Но любимая, конечно, ничего об этом не знает. Она думает, он учится, он ходит на свои занятия, покупает себе еду, а по выходным навещает маму… И это ее, Сашу, очень радует. Она хочет, чтобы все так было: как всегда. И он во всем соглашается с ней, это так легко… Да, любимая, да… Еще снова и снова, в доказательство чего-то одного и того же, точно на осмотре, отклеив пластырь, обязательно покажет осторожно свой шов, свою ранку, и от какого-то нетерпения — все, что стало совсем как у маленькой внизу живота, обритое, так откровенно открывшись взгляду. Этот его взгляд она ловила с замиранием, чего-то ждала, теперь как будто всю себя дав даже не увидеть, а познать. И он в порыве унизительной, но пронзительно-нежной страсти целовал еще припухший розовый рубец, что, заживая на его глазах, день от дня сам все нежнее обозначался как что-то совсем новорожденное, младенческое, дарил одну лишь радость — и они радовались, радовались…
Свою мать он навестил несколько раз… Приезжал, не выдержав одиночества, — но порывался скорее уехать. Ее вопросов, рассуждений он уже почти не понимал… Ее волнует, как он думает жить. Какая у него цель в жизни… Институт… Готовится ли он к сессии, ее тревожит… Он должен… Но кому и что?! Этой фабрике благородных девиц, где будущее одно у всех — это что-то нудить у школьной доски… Учитель — это само благородство? Семен Борисович благородно посвятил свою жизнь развитию творческих способностей у детей… Но почему, почему он должен быть похож на Семена Борисовича!
Когда-то учитель вошел в класс, посмеиваясь, с авоськой своих, дачных яблок. Раздал каждому, сказав: “Если не знаешь, что рисовать, — рисуй яблоко!”. Несколько штук он для этого тут же разложил. И все рисовали эти яблоки — но свое, плотное и весомое, можно было только чувствовать, как бы взвешивая. Это было очень неожиданное и острое ощущение — видеть яблоко в перспективе, но и чувствовать его прямо в своей руке. В конце, оценив рисунки, довольный своим опытом — и произведенным на учеников впечатлением, Карандаш провозгласил: “Ну а теперь попробуем, какое же оно на вкус!”. И он помнит этот вкус — и ту радость, что была, как голод. На показательных уроках в конце раздавались аплодисменты. Они гордились.
После занятий в изостудии учителя провожали до метро. Так они сливались в своем обожании — все, кто его любил, — оставаясь однородной массой. Она то прибывала, то убывала, но робкая верная стайка человечков обязательно дожидалась на школьном дворе, когда он появится. И это было, как свидание — провожая, окружив, засыпая вопросами, стараясь блеснуть и запомниться, с трепетом, похожим на озноб, идти если не рядом, то близко с ним — и слушать, и верить, что заслужишь его любовь. Только если спешил или был не в настроении, просил оставить его: и тогда как-то ощутимо бросал, покидал — а они расходились поодиночке, ненужные самим себе.
Этот человек заменил ему отца: какие страшные слова. Это был отец. Отец… Родной — его больше не было на земле. Но между учителем и учеником стояло такое же небытие. Поэтому он не имел и никогда не получал права так его называть. Поэтому носил другую фамилию. Физически живой — и не существующий. Не одевал, не кормил. Не опора, не защита. Учитель, воспитатель. Очень просто, воспитатель — значит, воспитал. Насытил яблоком. Появился из ниоткуда — ворвался, все переменил. Кого-то лепил вдохновенно, как будто из глины человечков. Новых, то есть заново.
Растворял в себе речью, взглядом. Опустошил. Внушил чувство своей ненужности — новый и гнетущий страх перед будущим, так что, казалось, постоянно решался вопрос о жизни твоей и смерти. Но мучительней всего было его же равнодушие, когда переставал обращать внимание, замечать — и ты в его глазах умирал. Пусть хотя бы одно занятие тебя окружало поле его отчуждения. Презрение и гордость. Наказание и прощение. Больше ничего. Все лишь для подчинения неясной цели кем-то стать, чего-то достичь в будущем, хоть концом всего пока что было отчисление из студии. Не из школы, где учили всех и всему, — а из его студии. Из этого мирка, куда он принимал, разглядев “способности”, для начала поощрив. Его студия: чулан, в котором лучиком света оказывалось его же признание, похвала. Каждый учитель, наверное, должен влюбить в себя, и тогда любовь проникает во все, как будто и учишься любить, любви. Но почему же тот, кого любили, причинял боль, понуждая страдать за каждую ошибку? Ошибки, он видел и находил их, конечно, как никто другой — а потом унижал, ранил, казалось, изощренно, без жалости кому-то за что-то мстил, всегда попадая в цель. Хоть боль переживалась совсем бездушно. Он приучил ее не чувствовать: терпеть.
Власть над душами учеников — и боязнь душевной близости с ними же. Как могло так быть? Почему? Даже не обращаться по имени, заранее отсекая саму эту возможность, но какую же, если не полюбить кого-то? Никто даже не знал, где он жил. Можно подумать, спускался с небес… Прилетал на голубом вертолете… Вечно в одном замусоленном траурном костюме. Рубашка. Галстук. Портфель. И ничто не менялось год за годом.
Только однажды он вдруг стукнул по столу, издав глухой стон: “Убожество…”. Все затихли — не понимая. В опустевшей школе с некоторого времени доносились вопли оркестра, но к этому привыкли. Духовые инструменты, переданные подшефной воинской частью за негодностью, лет двадцать пылились в какой-то кладовой. Учитель музыки пообещал директору, что у школы появится духовой оркестр. Набрал учащихся, у которых обнаружил слух и чувство ритма, а по вечерам натаскивал издавать звуки. Можно было лишь угадать, что это разносится марш… И вот, умолкая лишь временами, начиная и начиная заново, репетировали — а Смычок дирижировал.
Карандаш… Раб своей службы, вот он отслужил еще один урок… Учитель, будто бы мстивший кому-то успехами своих учеников… Одинокий, мучительно затаивший в себе что-то, как болезнь, человек… Верблюд… Что он чувствовал? О чем действительно мечтал? Что же было его “целью”, если стремиться к ней он сам только учил? Спрятался, втиснув свою душу в стены школьного кабинета. Говорил, говорил, говорил, освобождаясь от своих же мыслей и еще от чего-то, о чем никто, кроме него, не знал. Он высмеивал вдохновенье, он говорил, что творчество — это стремление человека к идеалу, и его достигает тот, в ком есть сила, вера, воля… Быстрее? Выше? Cильней? Идеал?! Что называл то “правдой”, то “красотой”… Искали? Искали — и это все? Все?!
Он сказал: “Этот мальчик мне очень дорог”.
Он был взволнован. Учитель, он пришел к своему бывшему ученику — и привел кого-то, за кого-то просил.
“Здравствуй, Павлик”.
Он так сказал.
“Здравствуйте, Семен Борисович”.
Вальяжный, чуть рассеянный мужчина в велюровом костюме, больше похожий на поэта, протянул вялую руку, поправился: “Рад, очень рад”.
“Павлик…”.
“Да-да, все, что в моих силах!” — поспешил, наверное, преподаватель, чувствуя неловкость или еще что-то неприятное. И, казалось, обеспокоенный, но с равнодушной скукой, куда-то повел.
Прошли по коридорам, где было так просторно и пусто, что звук шагов отделялся и удалялся сам по себе в тишине между шеренг, в которых глухие массивные двери стояли, точно кавалеры напротив прозрачных замерших оконных рам. Он дышал и чувствовал, что воздух весь пронизан светом. А потом решалась его судьба… И он, лишь это понимая, жалко попятился от своих работ, только что отданных то ли на осмотр, то ли на суд.
ОН согласился посмотреть работы…
ОН назначил встречу…
Бедный Карандаш повторял это, точнее, передавал испуганному мальчику, как послания — а потом прятал глаза. Молча, покорно ждал.
Таинственное, волнующее, звучное… Был это конкурс или еще какое-то творческое состязание — и он внушал: “Решается ваша судьба!”. Нет, уже не призыв и не заповедь… То, что внушало страх. Когда он пугал — и становилось страшно. Да, отчего-то очень страшно, как если бы в этот момент учитель лишал своей защиты. Страх не проиграть, оказавшись слабее в творческой игре — а потерять право сразу на все… Да, все потерять, потерять.
История о художнике — том, что отрезал себе ухо… Страшная сказка без начала и конца… Он вовсе не хотел понравиться новому учителю, но думал и думал о том, что услышал. Не узнал — а услышал. Слушал и слушал, потеряв покой, начав точно бы бредить, видеть э т о — мучился, как будто стал перед кем-то виноват. На уроке учитель что-то молча положил перед ним, как бы тут же забыв. Пожухшая желтая книжечка, похожая на блокнот. Послание. Письма. Ему не верилось в ее реальность. Одна ночь. Первая бессонная ночь в его жизни. Он не хотел жить. Душа его разрывалась от нежности. От непонятной тоски. Карандаш спросил, c удивлением получая обратно свою книгу: “Вы так быстро нашли ответ на свой вопрос?”. И тогда… тогда ничего не ответил. Не ответил на вопрос учителя. Карандаш смутился, растерялся: казалось, это его ранило. Но спустя время положил перед учеником новую книгу. И сухо, даже, казалось, с раздражением, сказал: “Прочтите это. Но прошу вас об одном: читайте медленно”. Может быть, для него это было новым экспериментом, только на этот раз ему не пришлось выбирать подопытного — и он наблюдал молчаливо за результатом. А мальчик в тринадцать лет прочитал “Историю импрессионизма” Джона Ревалда… Чувство близости, оно пришло через книжные страницы, ведь это были книги учителя. Сами как домики, в которых живут — теперь любимые художники, — они пахли домом. Тем, где сберегались, хранились. Мальчик вдруг осознал, что был впущен в этот дом — и это стало его тайной.
Учитель сказал: “Я думал, что вас увлекла живопись, а вы любите читать”.
Когда он попал в эту квартиру… Они шли, почему-то одни — и учитель вдруг спросил, ждут ли его дома, будут ли переживать? Cпросил — и вот они спустились в метро. Всего через одну остановку. Чужая улица. Старый угрюмый дом. Он чувствует, что в квартире много комнат, но только эта кажется жилой. Комната погружена в беспорядок. На стенах — картины. Кругом книги, они уже не умещаются на разбухших и высоких, до самого потолка, полках. Тахта, покрытая ковром. Столик. На столике лампа. Учитель ложится на тахту. Лампа освещает комнату и его уставшее лицо. Овчарка занимает свое место, у ног хозяина. Он усаживает мальчика напротив, ставит пластинку… “Это Бах”.
Музыка обрывается. Но что-то электрическое забыто гудит. Только когда он спросил о картинах на стенах, учитель болезненно сморщился… Не захотел говорить.
Вдруг хлопнула входная дверь. Вошла взрослая девочка и заговорила с ним, своим отцом. Учитель слушал ее — но не поднимаясь с тахты. И когда она вышла, сказал, суховато: “Это моя дочь”. Потом, через мгновение, как бы очень странное: “К сожалению, ее мама умерла”. За стеной включили магнитофон — и ворвались другие, режущие металлические звуки. Он улыбнулся. Молча улыбнулся. Опять повторив это, странное, только уже без всякой скорби или боли: “К сожалению, ее мама умерла”.
Ему чудилось, он уснул. Спал — и уже не мог очнуться. Реальность всего лишь растворилась в этом сне и поэтому больше не ранила, ничего не значила. Сомнамбула. Он ходил на уроки, не помня себя, учился, что-то делал, возвращался домой, а по вечерам — в студию. Текло медленно время. Вдруг, как в песочных часах, просыпалось… Ему говорили, что он должен сделать очень важный выбор. Точнее, даже не выбор: должен был осознать как приговор, что не может продолжить обучение в школе. Плохое поведение… Плохая успеваемость… Но теперь это надоевшее понукание отлилось в свинцовую формулировку: негоден. Пятерка по рисованию. Четверка по истории. По литературе. Это были его оценки, жалкая горстка преданных доблестных воинов в окружении трусов и предателей. Да, все потерять, сразу все потерять, даже не дав сражения и не понимая, когда же, кем решалась его судьба!
Карандаш был бледен, растерян. Утешал, понимая, что ничего нельзя изменить. Ходить в его студию? Даже в этом больше не было смысла. Какой же тогда был смысл раствориться в его занятиях, какое он, учитель, готовил своим ученикам будущее? Блистать на образцово-показательных уроках? Умилять родителей своими поделками, очень и очень далекими от мастерских работ? Ведь этому учат в особых школах, еще с детства — рисовать, писать… И все они заранее обречены в этом сражении, ведь их школа самая обыкновенная и они — самые обыкновенные, а необыкновенным был лишь он один, их учитель.
Он расплакался в его кабинете, когда остались одни. Расплакался совсем как ребенок. Как это стыдно помнить. Такие слезы. Бедный Карандаш, и он сдался… Он пообещал все устроить — переменившись, перестав быть самим собой. Все такой же сосредоточенный, но тихий, покорный и еще, казалось, ласковый, но отчужденный, он что-то решил — и отобрал для этого его работы. Точнее, забрал, потому что многое незаметно подправил.
Мальчик придумал: он хотел, чтобы учитель пришел к ним, чтобы они встретились — его мама и его учитель. И он пришел, думая, что должен убедить ее дать свое разрешение… Был ужин, на столе даже очутилось вино — но Карандаш не пил. И речи этой женщины, казалось, мучили его, но он сдержанно отвечал на все ее вопросы. Она кокетничала с ним — его учителем, и лишь из кокетства ей хотелось говорить о живописи, задавать напыщенные вопросы, без желания слушать, понимать. Когда учитель уходил, улыбка размазалась по ее лицу, как будто вместе с губной помадой. Мальчик ненавидел себя — и ее, свою мать, сгорая от унижения и стыда, хоть сам подстроил то, что заставило сойтись на несколько часов двух бесконечно чужих взрослых людей.
Прощаясь, учитель обронил: “Ваша мама очень одинокий человек”.
Она отрешенно курила на кухне. Строгая, сильная, другая, как бы тоже чужая. Почему-то мальчик чувствовал, что и она все поняла, но простила. Она удовлетворила свое любопытство и, наверное, ревность, потому что решила, что этот человек, о котором столько слышала, как будто похитивший ее сына, не мог ни любить сильнее, чем она, ни влюбить в себя, если она за этот вечер нисколько не влюбилась в него: и это был даже не художник, а какой-то учитель.
Школа получила складные мольберты — когда он этого добился, — и весь их класс отправился со своим учителем в парк. А потом вдруг зарядил легкий быстрый дождь. Всего лишь дождь, но все сделались беспомощными, не зная, что делать. Капли сыпались на этюды, размазывая краски. Карандаш метался, как доктор, спасая их, наверное, от простуды. Все прятались. Смех кружился по парку, доносился со спасительных зеленых островков, как если бы это ожили и смеялись деревья. Оставленные мольберты мокли жалко под дождем. Мокли и размывались брошенные этюды. Но когда дождь пролился и стих, появился он: самый счастливый человек. Он проносился по рощице от мольберта к мольберту, созывая всех, кто был вокруг. И сиял, почти трубил: “Смотрите на эту кра-со-оту! Кра-со-ту-у!”. Это было, было… Почему-то он помнит слова. Они врезаются в его память, как ничто другое, хоть у них нет ни цвета, ни запаха, ни хоть какой-то осязаемой формы. Цвета, звуки — они тоже нисколько не ранят, а ранят и запоминаются, когда их пронзила радость или боль. Но тогда они — это живопись, это музыка! Только потом: “Мама, меня приняли в художественное училище. Я буду художником”. Она ответила, нисколько не удивившись, как если бы это не было для нее хоть какой-то новостью: “Я всегда это знала, мой сын”. И учитель исчез из его жизни. Или это он, его ученик, пропал, больше не давая о себе знать, потому что не понимал, как это может быть: что он снова придет на урок — или как будто придет, как будто это будет урок… Так это было, казалось: человек, о котором помнил, умер, но это не принесло никакой боли, только не забывалось. И все время хотелось, чтобы учитель о нем узнал — и прийти, если бы тот позвал. Но обходил школу, в которой учился, и боялся встречи с этим человеком, а если бы это случилось, то, наверное, скрылся бы или что-то сделал, чтобы тот его не увидел и не узнал.
Да, он многому научился у этого человека, но стать таким же, чтобы иметь потом одну такую же надежду: запечатлеть себя в учениках… И гордиться не собой, а каким-то учеником, считая его своим, но чем же, если не оправданием… Она совсем ничего не понимает или притворяется? Она думает, что живопись вполне могла бы остаться для него просто увлечением. Рада будет, если лишится свободы, упрячет себя учителем в школу, где однообразная успокоительная трудотерапия вылечит его душевную болезнь. Испугалась, только вот за кого — за него или почему-то за себя?.. Испугалась, если теперь ее сын решит, что он — художник. Если не задушится мечта, если вера не испарится, еще детская! Но самое странное, нет, чудовищное, она же сама заразила его мечтаниями… Это ведь от нее впервые он услышал само это словцо — “свободный художник”… И казалось, просто это слово, одно слово, приводило ее в восхищение, если не в какой-то экстаз… Ничего ну хоть сколько-то практического от нее не слышал: глотал и глотал мамочкин дым… Практическое привнес в его жизнь какой-то Семен Борисович, да, именно что учил. Священный трепет — и вот суховатое, глуповатое: “Если ты хочешь быть свободным художником, ты должен понимать”… До сих пор это звучит в ее устах с нескрываемым пафосом… Все дети любят рисовать… Он всего лишь любил рисовать… И теперь мечтает рисовать… Всю жизнь хочет только рисовать… И ему не страшно! Но, возвращаясь из больницы, он все же звонит каждый вечер матери… Для Аллы Ивановны это разговор о здоровье Сашеньки, и он знает: мать задаст с десяток вопросов, то есть примет, конечно же, участие в ее судьбе. Но закончится это общение суховатой, бездушной паузой, ведь ее сын должен почувствовать, что больше ей не о чем с ним говорить… Он действительно раздавлен. В общем, не может выдержать карающего материнского молчания. И она простит его милостиво, как только почувствует, что обрела над его душой власть. И он врет. Ложь дает свободу, приносит успокоение. Это она как прощение. Даже матери она приятнее, можно подумать, чем-то выгодна. Странно, в детстве он почти не врал своей матери, так доверял — и верил каждому ее слову. А теперь готов врать, но и сам не верит ни одному ее слову, начиная понимать, что это такая игра cлов. Пусть же услышит, что ей так хочется услышать, и он опять станет, хотя бы притворяясь, ее сыном. Любящим? Любимым? Сегодня им должен быть кто-то, кто получит диплом о высшем образовании и с чувством долга перед своей будущей семьей вдохновенно отдаст себя служению у школьной доски… Пусть. Это так легко, легко…
Новенький этюдник скукожился.
Перед ним лишь пустое широкоэкранное окно. Прозрачная стекловидная пленка пропускает свет — но не воздух. Небо в проеме стен. Точно бы содрали обои и открылась штукатурка: cлой мелкого песка, мрамора, истолченного в порошок… Оно сливалось с тлевшим сиреневым тоном обоев, как бы входило и закрывалось в полупустой продолговатой комнате, когда чахло и болело, тонуло и шло ко дну, к декабрю. В совсем редкие, будто спасенные, дни на чистой глубокой синеве вдруг появлялась белая-белая точка… Плывущий в свой порт авиалайнер. Ночью, возникая на обширной черной сфере одинокой кровинкой, пульсировал, чудилось, летящий в космосе, огонек.
Простая геометрия мироздания — вертикаль и горизонталь.
Зрение — это чувство.
Распинающая себя над землей душа.
Мастер Небесного Свода работал и днем, и ночью, как будто водяной краской по сырой штукатурке, начиная все заново, лишь в чем-то повторившись, хоть знал бессмертье.
Взгляд падал с высоты вниз — туда, где ползала, копошилась жизнь в застроенных ландшафтах, а ночью все пряталось и пунктиром, как на карте, прокладывали маршрут колкие звездочки фонарей. Окно — чтобы видеть. Только видишь все далекое. Распахивал — и тогда в глухонемую комнату с красками врывался ужас небытия… волнообразный полетный гул… он только и слышался или уже мерещился. Что-то манило сделать это. Хотя бы свесив голову, с ужасом и наслаждением испытать ощущение падения — пролететь глазами все этажи под собой. Так было, когда уже ничего не чувствовал и будто сходил с ума в этой комнате. Принять решение и отвечать за него, то есть лишиться оправдания… Броситься в неизвестность, выйти из подчинения чуть ли не у самой судьбы… Разве это не то же самое?
Он заберет Сашу из больницы в конце ноября.
Чем же было это возвращение… Ей покажется, после долгого отсутствия, что мир изменился, даже дышала с трепетом, удивлением… Но ничего не менялось — тянулось время… Радость, покой… То, что обрела там, в больнице… Сделают только больней, поэтому их лишится. На почте будет ждать посылка. До востребования. Простыни, постельное белье. Все для первой брачной ночи. Хоть и запросто, но посланное заранее, как прилично. Его покоробило. Она искала в посылке хоть какую-то весточку, но не нашла. Казалось, получила на почте что-то, что вернулось за неимением адресата… Они решили, что свадьбы не будет. Когда лежала в больнице. То есть она решила… Она чувствует себя некрасивой, она хочет, чтобы это было весной, нет, просит, чтобы он, он еще раз все решил, обдумал… Думал — а сказала первой она… Это лишь очередь, формальность, ничего не отменяющая, кроме какой-то регистрации, пропустят, снова подадут заявление, лучше перенести, весной, ей нужно время прийти в себя… Но что, если она ждала услышать другое?.. Об этом не думал почему-то. Хотела начать все сначала, а он чего хотел? Думал, решал — и оказывалось разумней всего, удобней, в общем, выгодней отложить не решение само, но эту процедуру. Он должен готовить свою первую выставку, он ведь все еще победитель, это выставка победителя… До этого он мечтал рисовать, как ребенок мечтает, чтобы исполнилось желание… Потом это стало желанием нарисовать как можно лучше… Надо что-то делать, он остался без лучших своих работ, продал, что-то есть, этюды, но слабое, жалкое, и все это время вымучивал, одно и то же, а не работал, он должен доказать, должен успеть…
Он хотел, чтобы она увидела его картину… Поставил холст на этюдник — прямо посередине комнаты, напротив окна. Она вошла в квартиру, все еще было волнительно, эти первые шаги… Он приготовил шампанское… На кухонном столе маленький театрик: все, что ставится на его сцене, сегодня играет праздник… Но вот она заглянула в комнату, подошла к этюднику, подумав, что и это приготовлено для нее, к ее возвращению… Или не для нее… Недоумение. Растерялась, не ожидая увидеть что-то похожее на кусок замызганных размытых грязно-сиреневых обоев… “Это какая-то фантазия?” Подавленная, не дожидаясь, переспрашивает: “Эта белая точка, она что-то значит? Это все? И больше ничего? Все?”. Разглядела почти на краю белый-белый, одинокий мазок… Замерла, опустошенно молчит. Он скажет: “Это самолет. Маленький, потому что такое огромное небо”. — “Небо… И что?” — произносит она с равнодушной жестокостью… “В нем люди”. — “Люди?” — “Люди, много людей, в этом самолете люди”.
Что-то произошло, с ней произошло, а не с ним, хотя это он пытался передать ей какие-то собственные чувства… Саша резко обернулась и смотрела уже не на эту белую точку — ему в глаза, а в ее, все еще каких-то ожесточенных, но умоляющих, дрожали слезы, те, которых не могла сдержать… Он мог быть вполне доволен — это действие его образа, созданного одной белой точкой и мучительной пропастью фона. Образа, что был мгновение перед этим просто засохшим комочком краски, если бы не оживило воображение еще одного живого человека. Это и было, наверное, испытанием его действия на одном живом человеке. Что жестокое — этого не понимал… Он принес ей горе… Минутное. И вот оно прошло. Она чувствует, она понимает… Восхищается, любит за это: за то, что способен на такое… Значит, способен…
Вдруг спросила: а где моя Хорошка?
Он соврет: cкажет, что хомяк выбрался как-то из банки, пропал, не было слышно, чтобы где-то скребся… Банка — банка пахла, банку он просто выбросил. Да — он ничего ей не говорил… Она не спрашивала — а он ничего не говорил, не хотел расстраивать… Но почему-то Саша тут же поверила, что приручила этого хомяка — что, услышав ее голос, должен вернуться. Ходила по квартире, всюду звала: Хорошка, Хорошка… Кусочки какие-то подкладывала… яблоко, хлебные корки. И его это раздражало. Как будто нарочно делает что-то несуразное, бессмысленное. Потом внушила себе, что хомяк умер от голода. И очень скоро вдруг сказала, раздраженная, злая: наверное, ты от него избавился, я знаю, ты его не любил, ты вообще не способен кого-то любить… Глупость, злится, так он подумал… Ничего не ответил… Не доказывать же, любил он или не любил этого хомяка… но сказать наконец-то правду теперь тем более невозможно. Он не был убийцей этого хомяка… И она говорила то, во что сама же не верила… Ей хочется, чтобы ему стало больно. И ему больно… нет он любит, он способен, он умеет любить…
Вдруг… “Хорошка… Хорошка…”. Вспомнила, опять зовет…
Пройдет всего неделя — и проступит пустота, в своем самом выразительном виде, молчащая. Можно ведь молчать, даже произнося слова, это бывает тогда, когда слова теряют всякую теплоту и произносятся только для того, чтобы было что-нибудь сказано. Казалось, это ее, этой съемной квартиры, пустота, но пустоту заполняло время… Все уже хотелось считать только репетицией будущей, то есть настоящей жизни, чего-то ждать… Но мыслей о будущем не стало, копилось другое… Будущее, оно скрылось, оставив теперь, здесь и сейчас, в неизвестности этой свободы, вынуждающей почему-то осознавать свое бессилие. Минуты покоя, свободы, тишина… Потом целые часы, когда каждый был занят лишь своим, только собой. Разделив молчание, делили, наверное, пустоту, одиночество, страх. Странное ощущение, будто бежишь вверх по лестнице, а она движется вниз… Или, что же, просто жить, так и жить, день за днем, год за годом? Легко было воображать, мечтать, как они будут жить вместе, но и жить, жить, точно бы в будущем… Пчела, влипшая в свой же мед желаний — а потом муха в янтаре. Когда постепенно, конечно, исподволь все начинает казаться ненастоящим… Кажется, что сам же, сам же все время притворяешься, недоговариваешь, скрываешь, лжешь зачем-то именно что в мелочах, не как-нибудь так, ее предавая — а себя предавая, муторно, повседневно… чтобы не молчать, чтобы не дать ей повод подумать… Да, да, в конце-то концов, просто жить!
И когда хочется, чтобы все оставалось хотя бы так, хотя бы таким, как есть — что-то каждодневно меняется, нет, уже только разрушается… Ему кажется, что это Саша принесла с собой что-то больное, ноющее недолеченной раной… Но из чего делать трагедию, какая-то неправильная беременность… Кажется, сказал ей, чуть ли не словами своей матери: трагедия — это потерять жизнь ребенка… А что мог бы он сказать, какое горе ее должен был утешить… Даже близость, что казалась такой долгожданной, желанной, кажется, приносит ей одну лишь боль, она ее не хочет — и он унижен уже в самих своих желаниях как мужчина, не понимая своей вины, но осознавая, что это наказание. Она требует краски, бумагу… Кажется, ему назло… Этого он о ней еще не знал. Она умеет рисовать. Ее рисунки все хвалили, она даже занимала на школьных конкурсах первые места… Его краска, его бумага… Она рисует его портрет. Нет, он отвернулся, спрятался, и он ей не нужен, это рисунок по памяти или даже такой, каким себе представляет… К его удивлению, очертания имеют что-то общее с его внешностью… И это приводит его в состояние тоскливого отвращения, конечно, к ней, к этому ее портрету… У него ничего не получается. Все, что начинает, портит и бросает, мазня. Он валяется на полу и от полной бессмысленности читает ее учебники по анатомии, других книг здесь нет, только ее учебники… А она рисует… теперь она рисует… Хорошку. Они мешают друг другу жить. Уезжала на свои лекции, один в квартире, он прислушивался, как будто это было откровение: принадлежал самому себе, становился собой… Но представить, что ушла и больше не вернется, было мучительно страшно. Она возвращалась… Он уезжал, врал, говорил, в институт… Несколько раз ночевал у матери, он и хотел, чтобы мучилась своим одиночеством, как мучился он своим… Она еще не знает, что благородный союз школьного учителя и детского врача распался… Слепился новый, дурацкий, если и напоминающий, то эту случайную связь: свободный художник на приеме у педиатра… Она уйдет от него, не выдержит… Что-то должно произойти, он чувствовал. Что-то происходило каждый день, ведь он об этом знает… Однажды, вернувшись, он понял, что это случилось. Уткнулся в запертую изнутри дверь, звонил, стучал, пока на шум не полезли из своих щелей соседи. Вызвать милицию было бы очень кстати, но он притих… Ждал, когда там, за дверью, сама издаст хоть звук. Он был спокоен, как ни странно, и доволен собой. Это было состояние свободы. И услышал наконец-то мычащие звуки, расплющенный до неузнаваемости человеческий голос… Она смогла открыть дверь. Все мысли ее, какие уж были, привели в действие жалкое беспомощное тело. Он увидел то, что должен был увидеть, ведь он, он сделал это с ней… И если бы могла закричать, кричала бы что-то ему в лицо, но речь ей не подчинялась…
В этой квартирке и должно было происходить что-то такое: запой, с животной дракой, воплями, безумством… Готовенькое, теперь уж точно гаденькое местечко для сведения счетов с жизнью. Комната тоскливых ужасов, будто разбуженная, стряхнула прах, как машина, пришла в движение, отслоила паутиной что-то зыбкое и жуткое, погрузилась в ожидание и тогда почему-то ожила… Саша в ней одна. Она не переносила водку, даже запаха, но ничего, кроме водки, в квартире не оказалось. Он купил водку по талонам, чтобы не пропали, если можно выменять сахар, кофе, сигареты, много чего. Она даже не знала, что напьется в этот день до бесчувствия… Нашла случайно то, что можно было выпить… Потом, понимая, что опьянела, думала, наверное, ну и пусть он увидит ее такой… Потом, что все ему скажет, злое веселие… Да, скажет, а потом хлопнет дверью и навсегда уйдет. Вещи, их надо собрать: упакован чемодан, с которым пришла. Это занимало время, которого уже не ощущала как время, просто куда-то далеко плыла. Она не думала, куда же потом пойдет, где окажется одна, пьяная, ночью: воображала, что сядет в автобус и куда-то поедет, как будто это мог быть тот ее трехколесный велосипедик, на котором так легко собиралась объехать вокруг земли, всего лишь набив кармашки пряниками… Бесстрашная, она ничего не боится. Но опять она, быть может, плакала, как будто хоронила кого-то, листая свой плюшевый альбом… И опять, вспомнив о своем Хорошке, звала, искала… Что думала о нем, его собравшись бросить… Эти мысли ее выстроились, как солдаты: все кончено, все кончено, все кончено… Но теперь она ждала, чтобы уйти, не исчезнув вдруг бесследно: пожалев на этот раз, в последний раз, не сделав еще мучительней для него свой уход, чем могла… Да, она великодушна и щедра, это маленькое снисхождение к нему ничего ей не стоит, только ожидание, оно мерзкое, в этой мерзкой квартире. На фоне этой мерзости она, пожалуй, должна сделать напоследок ему, бедненькому, еще что-нибудь приятное… Пусть помнит всю свою жизнь, когда войдет и увидит ее, какой она встретила его беззаботной, красивой… И еще успела беззаботно принять ванну, разбавив это удовольствие новой порцией водки, глотая которую уже чувствовала приступы тошноты, точно бы страха и омерзения, но презирая свой же страх, подавляя силой своей воли даже это омерзение, глотала… Пусть бы это был яд, но теперь она даже в глаза своей смерти смотрела бы с презрением, повинуясь одной лишь гордости, которой что-то бросало вызов… Тогда алкоголь совсем притупил в ней всякое чувство боли, сделав бесчувственным даже посвежевшее, водой и теплом упоенное тело… Она забыла о нем, чем-то прикрыть — или уже тоже желала выставить напоказ, свое как чужое… Что осталось на уме… Красивую прическу… Броский макияж… Волосы ее успели высохнуть, сами покрыли голову, даже лицо, на которое как бы нежно стелились… Наверное, пока старалась что-то сделать со своим лицом, путаясь в них, от своих же попыток, глядя на то, что получалось, в подлое, чудилось, смеявшееся над ней, своей хозяйкой, зеркальце, она его разбила: его осколки усыпали пол, искрились, но похожие каждый — или теперь уже каждое — на маленькое, готовое во что-то впиться, поэтому опасное, как бы живое, злое жало. Вот что ее надломило, сломило: она хотела их собрать, смести, убрать, но не могла… Раня ее босые ступни, впиваясь в них, чего она, наверное, не чувствовала, они разбегались, будто бы падая на пол, разбиваясь, рассыпаясь вновь и вновь… Кровяные отметинки на полу, но как следики от птичьих лапок, всюду, от порезов, ранок этих — в комнате, на кухне, в санузле… Чего еще хотела, бродила, для чего… Этого он уже не может понять, даже представить. Он попал в квартиру, потому что она очнулась и впустила его… Вспомнила о нем, заставила себя… Вот она развалилась на диванчике, мычит, ей плохо… И он спокоен, он все еще спокоен, потому что понимает, что она лишь пьяна, она просто до бесчувствия напилась… Сколько он видел таких животных, сколько раз был сам таким вот животным, теперь главное никого не жалеть, ни себя, ни ее, нужно помочь ей, как будто это мучается корова или овца, помочь избавиться от того, что в нее вселилось и мучает. Размалеванное лицо, кровавый кривой рот, от попыток обвести его губной помадой… Черные круги от поплывшей туши вместо глаз… Это для него, что уж осталось… Унитаз. Ванная. Холодный душ. Понял, где достала, сколько же в себя ее влила, почуяв водку. Ему нельзя ее жалеть, он жесток, он поливает ее ледяной водой из душа, успевая поймать себя на мысли, что если не испытываешь к своей жертве жалость, сострадание, то, как эти санитары в медвытрезвителях, получишь удовольствие садиста… Бедная врачиха, она была к нему куда добрее, она ведь его-то спасала, спасла от этих пыток… Саша, Сашенька… О, нет, молчать, молчать! Через полчаса все повторяется… Унитаз. Душ. Диванчик. Он спокоен, он делает свое дело… Но теперь она пробудилась… Теперь на него смотрели ее глаза как бы сквозь мутную, мутную поволоку, из опухших щелок: и все, что могла чувствовать, принимало вид, форму, пусть истоптанное, стертое, это страдальческое мимическое выражение: злое, исступленное. И что выдавила, было: “Я тебя ненавижу”.
Закрыв глаза, тут же провалилась в забытье. Но через время вдруг что-то пробудило, подняло… Было давно за полночь. Бродила. Уходила. Дух ее куда-то рвался. Обнаружив, что запер дверь, спрятал ключи, будто во что-то уперлась. В полусознании, как если бы и подчинялась не самой себе, но нахлобучив одежду, глядя сквозь него, в никуда, угрожающе завывала одно и то же: дай уйти, отпусти. Это вселило в него злость или такую же ненависть к ней, да, теперь он уже ненавидел это животное, издеваясь над ней, он бросал в нее что-то грязное — а она отвечала ему тем же. Наконец она вспомнила… Заговорила… Она думала, что забеременела, она решила, что этого зародыша не будет, сама решила, все сделала… Что он понимал… Ничтожество… Если бы этот его зародыш в ней был, то его бы уже не было… Так она произносила с наслаждением, как бы даже на языке медицины: “зародыш”… Все сказав, ощущая вокруг себя даже не молчание или тишину, а сдавленную будто до полного отсутствия в ней жизни атмосферу, слюняво улыбаясь, чему-то радуясь дурочкой, стихшая, в блаженстве успокоилась и, еще подождав, насладившись, прилегла на диванчик, потому что устала.
А через несколько минут уже противно храпела.
Страх…
Унижение…
Стыд…
Бешенство…
Ничего этого не почувствовал, лишь усталость — и освобождение. Как мало он знал себя, оказалось. Лег на полу в комнате. Что он сделал, ведь что-то же он должен был сделать? Он погрузил эту квартиру во тьму, просто выключил свет.
Утро. Кто-то толкает его. Это она. Наверное, ждала бы, но вид спящего собакой на полу стал невыносим. Она собралась, хоть ставшая такой короткой ночь своей порчей объела ее лицо. Оно какое-то голодное, темное, будто уже из прошлого…
Дрогнул голос… Голос, он и вернулся к ней, не обманывал, самой чистой явью. Той, что говорила в ней, с ним… В этой наполненности душевной отсутствует какой бы то ни было смысл. Все хрупко, нежно. Хочет казаться твердой, чужеродной, но сейчас же расплакалась бы, выплакав лишь горе.
Он это чувствует, поэтому долго молчит. Но все мучительное долго будет выговаривать себя, пока очистится… Очистились? Простили себя? Но что должны понять… Забыть — но это как забыться. Ее страхи… Его страхи… Вот что их мучило и оттолкнуло. Но как будто и боялись друга друга, как страшно было просто смотреть друг другу в глаза, начиная тогда протягиваться еще лишь словами навстречу, искать выход… Мысль — ведь она хотела избавиться от его ребенка — но разве он cам хотел, готов был даже к одной мысли, что может родить? Он тупо не чувствовал ее страхов и что это значило для нее… Но если бы случилось, это случилось — склонял бы сам избавиться. Тогда бы, конечно, хоть бы что-то понял, почувствовал… И это ему бы пришлось говорить ей, сознаться в том, что же для него главное… Что главное для него сейчас — это они сами, их жизнь, то есть, конечно, он сам, его свободное, так сказать, состояние. И вот уже она — ничего не говорит, решаясь избавить его или пусть даже себя от ошибки, но совершает ошибку, ошибается… До последней минуты не знает, отчего все так рвется внутри — и разорвалось. Никто, кроме нее, не знал, что сделала, то есть никто бы так и не понял, умри она, для чего, зачем?! Всадить в себя десяток этих ампул, когда ничто не стало бы утратой, и ничто не принесло бы облегчения. Кто же мог отнять ее у него? Она, только она сама и могла отнять — вот он, ответ. Или это уже такой же вопрос, что потребует однажды к ответу?
Слова, слова, слова… С ними что-то входит, как само время, и они тут же сгорают, так мало у них этого времени, кажется, одно слово — как одно мгновенье. Сколько мгновений нужно было, чтобы повернуть это же время вспять… Торжественно зачем-то выливаются в раковину остатки водки. И это она дает ему обещание никогда не пить, верит свято всем своим словам, а от него ждет если не нежности, то хоть какой-то теплоты, ведь оживает лишь для любви… Она забудет о бредовой идее пытаться строить свой дом, семью под чужими крышами… Ему нужна мастерская для работы, эта квартира становится теперь его мастерской. Дом ее — это его дом, жить они будут на проспекте, с матерью, по-другому не может быть. Его выставка в марте. Он должен только работать и ни о чем больше не думать. Его денег хватит прожить до весны. И весной она получит свой диплом… Весной они станут мужем и женой… Весной, весной! И она, конечно, пропишется у него, с него хватит ее комплексов, он устал, и не то время… Все по карточкам, по талонам… Она не понимает, в какое время они живут?! А дети, если дети? Она что же, к своей маме улетит, в Магадан? Будет в Магадане рожать его детей? В Магадане устраивать в детский сад, в школу, воспитывать? Жить? Работать? Он все решил. Все знал. Спасает, не зная кого, ее или себя, но потом, будто терпящих бедствие, их подобрал маленький диванчик, что был для того только и нужен, чтобы кого-то спасать. Эти несколько досок могло бы носить, как щепки по волнам, если представить такое… Где-то росло дерево. Чьи-то руки его срубили. Чьи-то руки распилили на доски, облагородили, собрали под размер. Люди ложились на диванчик, они, каждый своим, только дорожили. Эти доски не стали шкафом или гробом, не пошли на угли, не превратились в какое-то еще творение рук человеческих. Если бы думать об этом диванчике как о живом, то вся его жизнь — это воспоминание о людях и людей о нем… Он превратит и это свое воспоминание в образ.
Эта обстановка, жуть заброшенной квартиры вдруг соблазнила, заполнилась воображением, мучеником которого он давно уже стал.
Саша переедет на проспект через несколько дней…
Уезжая, она просит порвать рисунки, для которых позировала. Что могли иметь какую-то цену — это было ей противно. Она не хотела, чтобы кто-то когда-то их увидел… Чтобы кому-то хоть когда-то попали на глаза… Но ведь это значило совсем другое, о чем думала, ничего ему не говоря. Он бы осмелился их только сжечь. Унести и сжечь, но в укромном месте, чтобы не привлечь внимания. Около дома ютился сквер, у пруда, невдалеке от шоссе. Это место вечерами пустовало, даже не выгуливали собак. Может быть, оно считалось в такие часы опасным. В сквере был поставлен монумент павшим воинам, неизвестно почему на этом месте, но делавший его каким-то кладбищенским, так что хотелось обойти стороной. Он вышел уже в темноте. Прямо на снегу сжигал один за одним листы… Секрет, письма — вот что это было, еще никогда так легко не освобождался от своих тайн. Жег, согревая голые руки…
Бумага и пламя.
Огненные прихотливые цветки.
Отпадающий лепестками хрупкий пепел.
“Война будет”, — голос за спиной. В нескольких шагах от него стоял человек в шинели без ремня и погон, глядя на огонь. Седеющий, с непокрытой головой на холоде — и овчарка, что замерла у его ноги, не приближаясь к огню.
Молчание.
Отошел в темноту, отделившись от самого себя тенью. Тогда и овчарка, обернувшись тенью, растворилась в темноте.
Молчание.






