Асистолия Павлов Олег
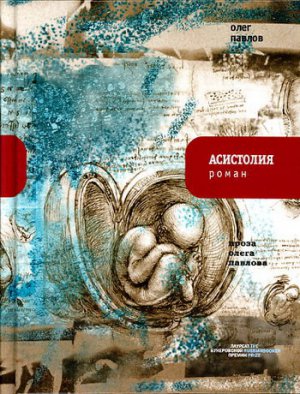
Такой же, наверное, каждую неделю варила ее мать, ведь если причащают в семьях пищей — только любимой.
Кажется, какая-то домашняя котлета все и знала сто лет о любви.
Стоило вообще заговорить о еде, Алла Ивановна не могла удержаться и возвышала свой голос: “Мои блюда…”, “В моем меню”… Нет, она не училась готовить. Вряд ли хотя бы примеряла кухонный фартук. Поэтому со своей матерью не было ничего общего, даже презирала невольно, обделенная почему-то благодарной памятью. Заботиться о себе заставила только студенческая юность. И готовить научилась то, что ела сама, где же, если не в столовых. Но, когда произносила очень значительно, с большой буквы — б л ю д а, эхом, будто из глубины души, отзывалось напрасное: блюла, блюла… Фрикадельки, гуляш, гороховый суп… Тут же звучало еще одно, несъедобное, слово — “разнообразие”. Но всякий раз было не по себе слышать пронесенное через всю жизнь, как если бы лишь это и осталось, сказать: “Я всегда следила за тем, чтобы в твоем питании было разнообразие”.
Слышала, молчит, как стражница, не выдавая своих мыслей.
Чуткая, сильная.
Каждое слово, произнесенное в этом доме, кануло камнем или камешком в ее душе, терпеливой, но до времени. Ему-то вела свой счет. Только если забудет о времени, простит. Саша… Александра. В ее имени так и видишь: твердость худобы, широкоплечая спортивная осанка, как у гимнасток, что похожи на ангелов, только без крыльев за спиной — прямоходящие, даже когда взлетают. Все в этом характере какое-то несокрушимое, будто уже девочкой готовили стать не женой, не матерью, а чемпионкой мира… И умеет лишь побеждать. В ее гордыне что-то детское и воинственное. Пионерское, из тех времен, откуда же еще… Когда тобой гордится коллектив — и поэтому получаешь право гордиться собой. Гордыня, которую взлелеяли почетные грамоты, утруждали ответственные поручения, скрепляли звонкие клятвы. Отличница, медалистка… Голоногая валькирия пионерской дружины, суровая весталка комсомольской организации. Всегда первая… Всегда одинокая, потому что первая… А он — всегда последний. Одинокий, потому что последний… Последним принят в пионеры, последним вступил в комсомол. Он даже страдал, честно плакал, всегда плакал. А она никогда бы не заплакала так, жалея себя… Посеклись волосы, ее, шелковистые — отрежет выше плеч, ничего не говоря, и только после этого покажет себя, новую. Нет, не любуясь тем, что сделала как слепая, а радуясь, светясь — вот она, ждущая с этим трепетом, что примешь такой. Это сделала для тебя… Сделала сама, лишь твоего восхищения достойная… Ему же хотелось спрятать, нет, даже выбросить, чтобы не было в доме, ножницы! Казалось, изранила себя, истыкала этими ножницами. Это не прическа, это же постриг! Но пойти в парикмахерскую было пыткой: обмякнуть в кресле, отдать себя в услужливые руки, чувствуя каждое легкое, будто бы заискивающее, прикосновение. Это были чужие руки. Чужие. Да, конечно, тобой в некотором роде пользуются. Осматривают и оценивают, чтобы найти какой-нибудь изъян. Плохо, хорошо — это не добро и зло. Чисто, аккуратно, приятно. Но ей было мучительно, когда волосы, будто их что-то обесчестило, осыпаются грязно на пол. Противно ощущение спеленутой беспомощности. И не могла уже смириться с мыслью, что у кого-то, кроме нее самой, получится увидеть, какой же она хочет быть, а, значит, и сделать ее такой, вернув что-то неминуемо отнятое возрастом. Даже не быть, нет, а всего лишь остаться, обманув время, девочкой с отстриженной выше бровей челкой, когда казалось — взошло смеющееся солнышко. Вернуть для него ту свою полудетскую улыбку, радость, свет! Оказалась на улице, где стояло общежитие мединститута, вспомнила себя другой, какой была когда-то. Была. Однажды вышла, пошатываясь, из ванной, как будто в клоунском парике: покрасила волосы, цветом красной вишни. Только увидел, содрогнувшись, пряча глаза — и сразу же: “Я тебе не нравлюсь?”. Вопрос бьет в свою цель так безжалостно, что становишься уже потому, кажется, что мог он прозвучать, подлецом. Голос роняешь, потому что вытащило из гласных и согласных какой-то хребетик. Брякнул, не удержавшись, конечно, с заменяющей бесстрашие иронией, что-то скользкое или вскользь… “девушка с красными волосами”. Спустя месяц все же перекрасилась снова, в черный. Свыкся. Шутил: вишня в трауре. Не понимал ничего, дурак. Ни одной морщинки на лице — но обнаружила седой волосок. Нашла же, разглядела сориночку. Значит, ждала.
“Любимая…”.
Вздрогнула. Прислушалась. Не верит.
Устремив в одну точку то ли взгляд, то ли мстительный яркий свет, сузившиеся, как от боли, глаза пронзают: не приближайся!
Застичь себя врасплох — отупеть, испугаться — он не позволял. Волновался, но чувствовал свою роль. Понял, привык, все повторяется. И тогда сердце мучилось нежностью к жене, как могло, до боли, точно бы видел перед собой слепую. Зная, что все еще ослепшая, поникнет в своей угрожающей позе, слыша как бы чужой, но умоляющий голос… Что слезно потускнеет взгляд…
“Если я умру, ты женишься на другой?” — так звучал почему-то самый выстраданный вопрос, встревоженно-детский, ставящий тут же нелепо перед выбором. Ответить, чтобы успокоить, можно было не задумываясь. И только глупец, тогда уж, воспринял бы это всерьез. Но сознание, что веру можно заслужить обещанием и как бы обманом, делало его глупцом… Раздражался, не понимал, мучился… “если”, “если”… ну, зачем опять придумывать… Бред какой-то, умрет она, опять этот бред… Давай пытать, я — тебя, ты — меня, узнаем, кто пыток не выдержит, будущий предатель. Зачем мучить того, кого любишь, вообще, если любишь… Если столько лет вместе, потому что не могут друг без друга, вот именно: жить, жить…
Она же, как выдыхала — легко, без усилия, могла сказать: “Если ты умрешь, я не буду жить”. И ничего не изменится в голосе. Казалось, обычные слова. Не пугала — но звучало все просто, поэтому и страшно. Верила в то, что говорила. Слыша это, не мог вынести ее решимости. Саму логику эту понять, принять, ведь уже его собственный вопрос, а что будет, если он полюбит другую и уйдет к другой, нисколько ее не ранил. Не ранил ни издевательской ноткой, ни откровенно предательским тогда уж смыслом… Изображает полное равнодушие. Можно подумать, мысль об этом — о его вероятной измене — была для ее сознания более приемлемой, нормальной. Слова звучали другие… Тогда не вспомнит о нем, прекрасно без него устроится и ни дня не останется одна, конечно. Слова, слова… Но не говорила: заговаривала. Что же, если не судьбу. Вот что было важно. Ей не будет больно… Повторять: мне не больно, мне не больно… И ни о чем потом не думать, обрести покой. Что-то с усердием, ревниво облагораживать в туалете, не думая об этом дне, но смотреть до глубокой ночи, не отрываясь, паршивый телесериал лишь для того, чтобы узнать, чем кончится. Даже плакать, кого-то там жалеть. Но скажет даже не мучаясь. “Если ты умрешь, я не буду жить”.
Люди могут жить без любви. Он знает. Так жили и они с женой, только не любя свою жизнь в маленькой квадратной комнате, где ютилась бы еще одна душа, родись у них ребенок.
Услышать детский смех.
Чтобы к ним пришло счастье — ребенок — и не пришло.
Очная ставка. Мужчина и женщина.
Секс, только секс, как следственный эксперимент.
И каждый месяц с мерностью тупых толчков: нельзя.
Ему больно видеть, как она тянется к детям, чужим — и как дети тянутся к ней, отзываясь на ее тоску.
Мечтала лечить детишек — и как в насмешку — омолаживает богатых господ. Пошла на курсы лечебно-косметического массажа лица с изучением гигиенических и косметических процедур, устроилась в салон красоты.
Еще казалось, что все это временно.
Годы, годы, годы…
Саша без стонов и всхлипов тянула свою лямку: двухкомнатную баржу с мамочкой и сыном.
Родная — и чужая. Родная ему — но чужая с матерью. Это такое отстранение, с каким врач относится к пациенту, к его боли.
Уставала — молчала.
Тогда в ее жизни появился алкоголь. Сначала джин-тоник, этот баночный коктейль. Потом водка. Маленькие бутылочки было легче прятать. Вышла из ванной. Ушла на кухню и вернулась через некоторое время. Вдруг менялся голос, взгляд. Лицо глупело и оживлялось. Притворялась радостной, защищая себя, все отрицая. И он искал, находил, выливал в раковину. Делал это одним и тем же способом: у нее на глазах, зная, что в этот момент она презирала его, ненавидела. Только он и сам презирал, ненавидел себя.
У него не было постоянного заработка, он не мог содержать семью. Себя самого — и то не смог бы.
Пришли другие люди. Другие, откуда они появились? И там, и тут — всюду. Видел — и ничего не понимал. Он так хотел быть кому-то нужным. Пока не лишился жизни, настоящей, своей. И ничего не спас. Было поздно. Вернулся — и наткнулся на стальную дверь. Все содержимое мастерской было утрамбовано в мусорный контейнер: новые хозяева освобождали площадь под офис. Контейнер куда-то увезли, на какую-то свалку. Перекупили помещение. То, что было внутри, — уже не имело никакой ценности. Это принадлежало кому-то, кто для них умер, сдох, если вообще жил когда-то — до них, пока не перекупили, пока не получили во владение… А мертвые не оживут.
Да, ему говорили, что он должен воскреснуть, делать все то же самое, работать! Вспомни, вспомни… Делакруа. Спасался трудом. Годами не мог говорить — туберкулез горла — и вот почти вся жизнь стала молчанием, работой. Гоген. Отрицал чувство долга — семейного, христианского, перед обществом, признавая только долг художника. В этом он весь: страх потерять свободу. Мученик за свою веру, как и все они, кто шел своим путем… Только он яростный, отчаянный. Долго не сдавался. Но сколько ни было в нем хватки деловой, умения устраивать дела, в драке этой не остался живым. Как хотел покончить с собой — ушел в джунгли, стрелялся, в надежде, что труп сожрут муравьи. Для этого требовалось его бесстрашие — так умереть. Но не умер, промахнулся. И еще большее бесстрашие — смириться, продлевать эту свою жизнь нищего урода. Как это красиво говорят, “погиб за свободу”. Не за правду, как многие — а за свободу. Без свободы — нет творчества. Без творчества — жизни. Мунка лечили электрошоком, тогда, наверное, орал… Мучился, вот и он все время мучился. Холсты. Краски. Это было мучением — и ничего не мог, ничего не чувствовал, как труп…
Еще окружали удобные вещи в удобной квартире.
Дни проводил, уткнувшись в телевизор, лежа на диване.
Спрятался, никого и ничего не хотел видеть.
Но очень скоро о нем забыли, пойти стало некуда и не к кому.
Осталась одна картина. Та, что на стене в их комнате.
Была его подарком для нее, для любимой.
Спаслась — но ни от чего не спасла.
Просто еще не пришло время умереть.
Она посмотрит, скажет вдруг: “Какое тоскливое нытье…”.
Последний, но уже даже не мазок: жирная маслянистая точка.
Он взял тюбик с краской — и как будто раздавил что-то на холсте, сделав, наверное, то, что сделали с ним, когда раздавили.
Все стало правдой.
Тоскливая ноющая дыра.
Ничто.
Все это время перед глазами, столько лет.
Ну да, все улетело, сорвалось в пропасть, упало, разбилось… Такое небо, как дыра… Хоть мучило, что вся мазня не умерла, вся, до последнего мазка… И не умрет, потому что где-то висит, что-то украшает, кому-то принадлежала. Это мучило: что не мог уничтожить все, что сделал. Освободиться. Исполнить волю свою в конце концов… Они могли, могли — а он уже не мог, потому что не в его это власти. Самое мучительное бессилие: когда лишаешься права избавиться от того, что сам же создал.
Увидела, поймет, затаит в себе, уже не простив…
“И что ты этим хотел доказать? Что?!”.
Он молчал.
В окно тянулась ветка рябины.
Вызревала, как заколдованная, горсть ярко-красных ягод.
Деревце. Росло во дворе, кто-то когда-то посадил. Заглянуло в окно. Весной рождаясь. Зимой умирая, оставляя окостеневшие ветки, круглые капельки крови, почти ледышки.
До весны их успевали выклевать птицы.
Весна, лето, осень, зима… и снова весна.
Сколько помнил себя.
Ветка рябина.
Дерево спилили, оно засохло.
Спилили дерево — и ничего не осталось.
Страх.
Так страшно, так больно жить?
Даже с котом бороться за место на кровати.
Комедия дурацкая жизни…
Он получил работу, согласившись сбрить бороду.
Его так и спросили: мог бы он сбрить бороду?
Он понимал, что вопрос задан вполне серьезно.
И нисколько не смутился.
Мертвец.
Ответил с той же серьезностью: разумеется, конечно.
Измениться внешне: разве это уже что-то значило?
Мысль, мысль — та, что приходит ночами.
НУЖНО, ЧТОБЫ ЧТО-ТО ПРОИЗОШЛО.
Только одно еще ранит. Нежность к жене, уже спящей. Когда, наверное, подсознательно она кажется ему мертвой.
Гладил волосики на затылке.
Она не чувствует, не шелохнется.
И поэтому хочется, чтобы проснулась, как будто и потом будет такая возможность: вырвать лаской у смерти, вымолить любовью.
“Может быть, я стал негодяем, только не понимаю этого?”.
“Ты опять поссорился с матерью? Что ты ей наговорил?”.
“Ничего. Я три года не был на могиле у отца”.
“Давай поедем. В эти выходные. Купим цветов”.
“Зачем на кладбище цветы? Кому это нужно?”.
Он проснулся.
Ищет глазами фотографию отца.
Вот она — чудилось, маленькое окошко в стене.
Скажет: “Если бы он любил меня, он бы не умер”.
А потом, поднимая голову, умываясь над раковиной в ванной, вдруг увидит в зеркале того, кому это говорил.
Страхи, выловленные сетями сна.
Утро, которого больше нет.
Провожала жена.
С плаксивым упитанным котом на руках: нянчила, как младенчика, не давая освободиться и вырваться за порог.
В тот день — когда решился — он играл в офисе на компьютере в шахматы и проигрывал все партии, впервые вдруг подумав: кому?
А вся жизнь, разве вся она может быть поражением?
И если поражение, то кому же, кому?!
Стоило услышать этот голос, приглушенный массивной дверью, но так близко — и он как мальчишка хотел броситься бежать.
Старуха впустила гостя со страхом, похоже, так и не расслышав, кто он такой, но тут же плаксиво преобразилась, с порога называя молодого мужчину доктором: или ждала, или верила только врачам.
Глазки ее уже благодарно слезились, хоть он ничего не успел сказать. Теперь было поздно, и он страшился: себя самого, ее жалких, выдавленных из себя слезок, всего, что видел.
Даже поворачиваясь, она задыхалась, и, боясь потерять опору, хваталась то за стены, то за мебель, передвигаясь точно в полусне.
Розовый махровый халат без пуговиц, когда-то, наверное, перешитый из полотенец, в котором не умещался живот, будто в наказание вис на плечах, распахнув исподнее, обноски: безразмерные панталоны, майку в дырочках… Все, что осталось, кроме спущенных и перекрученных чулок. Старуха толкала, передвигала свою же тушу. То, что душило, давило и стало бездушной массой.
Больше ничто не помогало в огромной запущенной квартире. Как если бы и не было ничего своего. Только стулья. Стулья, на которые опиралась, как на костыли. Но хватало сил даже не жить — цепляться за жизнь. Цепляться — и чего-то ждать. Теперь на одном из них сидел он. У скомканной кровати, похожей на гнездо, где старуха, напоминая своей беспомощностью птенца, открывая рот, жадно просила в ответ его слов. Бесцветные жиденькие волосики на голове, слюнявые губки. Белая, рыхлая, как из муки, как дитя. Оно, время, сделало ее такой. И что-то сделало с ним, безжалостное, если тетка смотрела — и не узнавала.
Пахло лекарствами…
“Я не какаю! Я не могу покакать!”.
Было, старуха растерялась, глядя на него, умолкла — но снова подала голос, испугавшись своего же молчания.
“Ко мне приходит женщина, соцработник, она сказала, звоните в поликлинику. Доктор, что мне делать? Я выпила слабительное. Позвонила в поликлинику, в “скорую помощь”. На меня кричали, помогите! Поставьте мне клизму… Я этого не вынесу!”.
Его вырвало у подъезда.
В чувство привела какая-то молоденькая стервочка. Но даже не испугалась — напала, огрызнулась: “Совсем совесть потерял, урод!”. Сама как зверек. И шубка, шкурка… Белый мертвый мех.
Накренилась, будто бы падая, угрюмая каменная башня.
Поскользнулся на ледяной корочке — но удержался.
Спасительное чувство опустошения.
Сумерки.
Этот город.
Слился в сплошную сумасшедшую линию.
Зарево рекламы.
Движение, где тянутся без конца потоки машин, как сцепленные, отправленные кем-то куда-то вагоны.
Тлеющий, дымящийся.
Замороженный воздух. Тающий, когда дышишь. С дыханием превращаясь в пар, но вмиг замерзая — исчезая, так что не отогреть.
Наледь, по которой передвигаются одинаковые инвалиды, точно у всех протезы вместо ног.
У метро он вытащил из портфеля коробку конфет и впихнул в задавленную всем, что стало прахом, чугунную урну в форме цветка.
Купил самые дорогие.
Теперь избавился, выбросил.
И не успел отойти — его подарок выхватил пьяненький, с улыбкой блаженного на побитом испитом лице.
Старуха в своем склепе… почему она жила столько лет — а его отец был мертв? Она и этот шизик-астрофизик — а его отец?! Кто же достоин жизни? Кто из людей? Кто готов на все — на все, что получит вместе с жизнью и будет цепляться из последних сил?!
Всего мгновенье — эскалатор плавно погружает в мир иной.
Здесь тепло.
Метро — вход куда-то.
Исчезновение, отсутствие.
Как и его мысли — это вход куда-то.
Человек со своими мыслями — он как под землей.
Ему кажется, он становится невидимкой.
Но все видел, все понимал.
Люди под землей.
Девушка в переходе, каждый раз на одном и том же месте, но только в рабочие дни. Маленький подлый театрик жизни. Голова упала, как у повешенной, на груди картонка, где большими буквами: помогите умирает мать.
Мать.
Как бы он хотел оглохнуть и не слышать ее, совсем, навсегда.
Зачем ей это было нужно?
Хотела, чтобы ему стало больно?
“Я любила твоего отца!”.
“Если бы любила — он бы не умер”.
Пощечина.
Он скажет: “Ну вот и хорошо, нам пора разъехаться”.
Ночью вызывали “скорую”.
Ей сделали укол.
Саша, ее мольба: “Почему? Почему?”.
Ответил: “Всем почему-то нужно кому-то приносить боль”.
Через некоторое время появится, должен появиться, стареющий ловелас, выдающийся ученый нашего времени. Дядя Сева… Хотел ему добра.
Деятельный. Подвижный. Обломок чего-то, профессор обиженно вдохновлялся верой, что наука еще всесильна… Взывал к совести — и рассчитывал на жалость. Искал, как выражался, “меценатов”. Домогался того, что называл “моральной поддержкой”.
Где-то на дачном участке своего давнего приятеля — тоже как бы взаймы — добыв деньги, надстроив хозблок и проделав в крыше дыру для собранного из подаяний телескопа, профессор соорудил то, что, с его слов, было “первой частной обсерваторией в России”, считая ее своей собственностью, и уже несколько лет вел судорожную слежку за космосом в ожидании каких-то “гамма-всплесков”. С тех пор он часто мелькал в теленовостях на фоне этой постройки из гаражного кирпича. Обещали затмение или пролетал астероид — рыскающие в поисках сенсаций репортеры выстраивались в очередь. Ученый рассеивал панические слухи, тогда-то и давая о себе знать… Он поменялся. Отпустил волосы до плеч, бороду. Потом появилась ковбойская по виду шляпа, в которой красовался, позировал… “Человек — единственное животное, которое смотрит на звезды!”.
Когда-то он рассказал ему о десятой планете: как мечтал открыть десятую планету солнечной системы. Это было его тайной, еще детской. Хранил, доверив почему-то такому же мальчику…
Однажды позвонил. Больше, оказалось, было некому.
Интересно, что же могло так заставить страдать?
Долго и пространно говорил…
“Космос — ну что еще не изгажено людьми? Это храм. И только астрономия осталась чиста. Да, именно так! Наука провоняла смертью. Можно подумать, не умертвив что-то живое, просто не способна существовать. Человек — мыслящий орган? Куда же, куда они лезут со своими ракетами? И для чего?! Лезут даже не для того, чтобы изучить, понять — это предлог, — а чтобы в конце концов присвоить. Это лишь человек может: все мое! Весь мир, вся Вселенная! Каждый безмозглый идиот: мое, мое, мое… Видишь ли, мало ему… Какое там аморфное “я”… Мое! Они уже продают и покупают звезды! Торгуют участками на Луне! Лезут… Туда, где и воздуха нет! Птицы небесные гадят — и что? Любое ваше дерьмецо грохнется вам же на голову. Граница, естественная, среды обитания, ну если она может быть нарушена, не несет в себе запрета, осознания, что все там не для вас, то куда же эта планета катится! Эгоизм, пожравший все добродетели человеческие: люби себя, думай о себе… Насилие жизни над мыслью, говорите? Нет уж, слизь победила жизнь!”.
И вот снова, но уже ласковый и вкрадчивый голос в телефонной трубке: “Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек… Как поживаем… Что расскажете… Это ваш покорный слуга”.
Возник.
Обзавелся манерой: прежде чем сказать прямо — играть, притворяться. И наконец сказал…
“Прости, но я все знаю”.
“Удавиться, что ли, пойти”.
“Должен признать, твой поступок меня огорчил”.
“Поучай-ка ты своих паучат”.
“Видишь ли, воспитанием моих детей занимаются их матери, мне себя упрекнуть не в чем, я выбрал прекрасных”.
“Это официальное заявление?”.
“Прекрасные женщины! Люблю. Уважаю. Ценю”.
“Мою не забудь…”.
“Пошло, глупо. Кстати, не забываю. Желаешь услышать правду? Ты убиваешь свою мать. Свою”.
“Тогда беспокоиться больше не о чем. Все живы”.
“К этому я был готов… Я хочу с тобой серьезно поговорить…”.
“В таком случае, ты опоздал”.
“Давай посмотрим правде в глаза…”.
“Я это делаю каждый день. Могу передать ей трубку”.
“Ну, что это такое! Почему с тобой не договоришься? Объясни, ну чего ты хочешь?”.
“Хочу иметь ребенка. Сына. Внуков. Всех любить — и чтобы все любили меня. Хочу умереть, не поняв этого и не чувствуя боли. Во сне. И чтобы меня похоронили рядом с отцом, а Сашку потом рядом со мной. Ну, и мать. Все”.
“Прекрасное завещание! Полный идиотизм!”.
“Хватит. Что тебе нужно?”.
“Хочешь жить отдельно, никто не против. Но продать квартиру — и разъехаться с матерью… Об этом не может идти речи, конечно. Это ее дом, она не должна страдать”.
“Это было шуткой. Что дальше?..”.
“Алла сказала, ты был на Котельнической… И она тебя вспомнила? Ты видел ее, говорил с ней? Ну, с ней… Я имею в виду свою сестру… Что ты молчишь?!”.
“Разыгрались родственные чувства?”.
“Полагаю, мы одна семья”.
“Надо же. К чему бы это? Осталось вспомнить моего отца”.
“Да! Твой отец бы этого не допустил! Послушай наконец! Я готов… Я знаю, как все устроить… Всем, абсолютно всем, будет хорошо!”.
“Так это ты…. Как же я сразу не догадался, что это ты”.
“А ты?! Ты видел эту квартиру? Ты знаешь, сколько это стоит?”.
“И моя мать — она знает?”.
“Алла? В каком смысле? Она думает о тебе. Да это все, что мы имеем! Я знаю свою сестру — ни о ком не подумает даже перед смертью. Тем более меня, моих, как ты выразился, паучат — близко не подпустит. Но если тебя впустила — это шанс! Ну, кто еще! Ты имеешь полное право. Потребуется… Уход, питание, лекарства. Творожок… Кефирчик… Ну, что еще? Под рукой всегда моя машина. Пожалуйста, я в твоем распоряжении. Используй меня. Мы поделим честно, без всяких формальностей. Сразу же продадим — и все! Поверь, купишь квартиру — и еще останется! Пока она ничего не сделала. Но если сделает… Все! Конец!”.
“С меня хватит. Хватит. Не хочу”.
“То есть как… Это наша, наша собственность! Мы можем, мы должны получить… Но будь любезен приложить усилие, волю… Это миллион! Слышишь? Понимаешь? Долларов! Сумма инфернальная!”.
“Вы мне чужие. Вся ваша семья”.
“Наша?.. Что ты хочешь этим сказать?..”.
“Я не люблю вас, я вас не люблю!”.
“Это просто бред! Бред! Слонялся по европам: искал себя! Возвратился к разбитому корыту. Его не поняли, его не полюбили. Заработать, получить — на это не хватило талантов. Сенсация! Все творения выкинули на помойку! Жил на иждивении у жены: мучился, страдал! Устроился на работу — ну, это Голгофа! Хотя как удобно устроился! И все, конечно, напрасно. Сейчас напыжился, мстишь. Так же, впрочем, бездарно, потому что получается ноль”.
“Почему же. Я могу преуспеть. Могу одурачить старуху, тебя, всех вас. Зачем вы нужны мне? Усилие воли — и вот я один, и в моем распоряжении элитная жилплощадь стоимостью миллион долларов”.
“Я понял. Я согласен на половину. Почему ты молчишь?! Сколько же ты хочешь? Алло! Ты думаешь?! Нет, дарственную от нее ты никогда не получишь. Под пыткой не подпишет, исключено!”.
“А с чего ты вообще-то решил, что ей нужен твой кефирчик? Ну, и творожок? Она любит черную икру, шампанское. Веселая старушка. Или это была не она и я попал не в ту квартиру? Если бы я знал, почему моя мать верит тебе, слушает тебя… Твои жены… Твои дети… Твоя обсерватория… Твои достижения… И все твои идеи с идейками… В общем, вся твоя жизнь. Пыль! Но тебе мало, мало… Поэтому! Ты как пылесос готов всосать новых жен и новых детей, даже манну небесную проглотить с шестью нулями. Старуха, она есть. Живая, я видел. Есть твоя распрекрасная квартира, где она еле ползает, разлагается — и не существует для тебя! Хотя самое смешное, что и для нее никого не существует. Она не узнает, не вспомнит, кто ты такой. Сообщаю, пользуйся! Растаскивайте свои нули!”.
И уже само роилось… То, что говорил профессор. То, что бросал в ответ этому шуту. Еще и еще… Говорил сам с собой — но, казалось, там, в сознании, звучали все их голоса… Кричал, орал обиженный ребенок, у которого что-то отняли, которому чего-то не досталось. Это он — дядя Сева. Маленький, он хнычет, гневается, рыдает, взбешен… Подумал о нем, о дяде Севе: ведь он сумасшедший, но об этом никто не знает, даже он сам. То же самое — о матери. И вдруг — о себе. Эта мысль. Они все давно сошли с ума… И Саша, Саша — она тоже. О, да, какое тоскливое нытье! Ноет все, ноет, ноет… И каждый стремится принести другому боль — и одержим, что это истина, высшая справедливость! Вот что такое безумие. Но это безумие жизни, пожар, в котором сгорают заживо, даже если мирно спали, когда пьяница-сосед за стеной уснул, не потушив свой окурок… Что скажет мать? Или все сказала? И он уже огрызался, бросал первые попавшиеся слова ей в ответ… Такие, которые мучили но почему-то мучился он сам, думая, что освобождался, когда все это произносил… Он боится ее — и поэтому боится замолчать… Господи, чего все они от него хотят?! Он все время боится сознаться себе в том, чего же он хочет… И теперь заставлял себя думать — но только не о том, что можно получить, когда старуха умрет… Все обыкновенно: думать о ремонте, о своей отдельной комнате, но уже не о матери, как будто умерла… Замечаешь грязные обои — и ее, свою мать, замечаешь, только раздражаясь. Тяготишься теснотой — а тягостно жить с ней, терпеть, что продолжается и продолжается эта жизнь…
Какой могла бы она оказаться, если получить столько денег? Думает о квартире и этих деньгах… Миллион! Думает — и это значит… хочет лишь ее смерти? Тетка ведь все равно когда-нибудь умрет. Так, значит, “кефирчик”? Стань миллионером!
Ну, и что же, если согласится?
Согласиться — и стало вдруг легко, он подумал отчего-то уже без всяких мучений: завтра он позвонит профессору, завтра позвонит, завтра… Все.
Утром.
На кухню вышла мать.
Встретились молча взглядами.
Слов он в который раз оказался недостоин.
Безмолвное презрение.
Только это.






