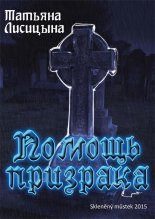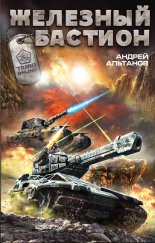Долг: первые 5000 лет истории Гребер Дэвид

Каждый из нас половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину{327}.
Платон. Пир
Вагнер ошибся в одном: введение финансовой абстракции было признаком не того, что Европа выходила из Средних веков, а того, что она запоздало в них вступала.
Обвинять за это Вагнера не стоит. Почти все совершают эту ошибку, потому что наиболее характерные средневековые институты и идеи пришли в Европу так поздно, что мы ошибочно принимаем их за первые ростки современности. Мы уже видели это на примере переводных векселей, которые использовались на Востоке уже около 700–800 годов, но в Европу попали лишь несколько столетий спустя. Независимый университет — возможно, самый характерный средневековый институт — другое тому подтверждение. Наланда была основана в 427 году, другие независимые высшие учебные учреждения существовали в Китае и на Ближнем Западе (от Каира до Константинополя) за несколько веков до возникновения подобных институтов в Оксфорде, Париже и Болонье.
Если Осевое время стало эпохой материализма, то Средние века были прежде всего эпохой трансцендентности. Крушение древних империй почти нигде не привело к появлению новых[460]. Народные религиозные движения, некогда носившие подрывной характер, вдруг стали доминирующими институтами. Рабство пришло в упадок или исчезло, заметно снизился общий уровень насилия. По мере роста торговли ускорялось развитие технологий; более мирные условия сделали более свободным перемещение не только шелка и специй, но и людей и идей. Тот факт, что средневековые китайские монахи могли посвящать свое время переводу древних трактатов с санскрита, а студенты медресе в средневековой Индонезии спорили по-арабски о юридических терминах, свидетельствует о космополитизме этой эпохи.
Наше представление о Средних веках как об «эпохе веры», а значит, эпохе слепого подчинения авторитету является наследием французского Просвещения. Смысл оно имеет только в том случае, если вы полагаете, что «Средние века» были прежде всего европейским явлением. Не только Дальний Запад был необычайно жестоким местом по мировым стандартам, но и католическая церковь была чрезвычайно нетерпимой. В средневековых Китае, Индии или в исламском мире трудно отыскать много аналогов, например, сжиганию «ведьм» или уничтожению еретиков. Более типичной была модель, которая преобладала в определенные периоды китайской истории и в соответствии с которой считалось совершенно допустимым, когда ученый муж увлекался даосизмом в юности, обращался к конфуцианству в зрелом возрасте, а на склоне лет становился буддистом. Если в средневековом мышлении и есть суть, то заключается она не в слепом подчинении авторитету, а скорее в настойчивом стремлении показать, что ценности, предопределяющие нашу повседневную жизнь, особенно в юридической и рыночной сферах, расплывчаты, ошибочны, призрачны или порочны. Истинная ценность заключается в другом, в области, которую нельзя постичь напрямую, — к ней лишь можно приблизиться посредством учения и созерцания. Но это, в свою очередь, превращало созерцательные способности и весь вопрос о познании в бесконечную проблему. Возьмем для примера головоломку, занимавшую умы мусульманских, христианских и еврейских философов: что означает, когда мы одновременно говорим, что можем познать Бога только при помощи разума, но что разум сам по себе божественен? Китайские философы сталкивались с подобными головоломками, когда задавались вопросом: «Читаем ли мы классиков или они читают нас?» Почти все интеллектуальные споры этой эпохи так или иначе возвращались к этому вопросу. Создается ли мир нашим умом или наш ум создается миром?
Те же трудности мы можем наблюдать в преобладающих денежных теориях. Аристотель утверждал, что у золота и серебра нет собственной ценности и что поэтому деньги были лишь социальной условностью, изобретенной человеческими сообществами для облегчения обмена. Они появились «по установлению и в нашей власти изменить их или вывести их употребления», если мы все решим, что именно это мы хотим сделать{328}. В материалистической интеллектуальной среде Осевого времени эта точка зрения не получила широкого распространения, но в позднем Средневековье она стала общепринятой. Аль-Газали был первым, кто к ней примкнул. Он даже пошел еще дальше, заявив, что тот факт, что золотая монета не имеет собственной стоимости, является основой ее стоимости как денег, поскольку именно это отсутствие стоимости позволяет ей «управлять» стоимостью других вещей, измерять ее и регулировать. Но вместе с тем аль-Газали отрицал, что деньги — это социальная условность. Их дал нам Господь[461].
Аль-Газали был мистиком и консерватором в политике, поэтому можно было бы сказать, что он в конечном счете открещивался от наиболее радикальных следствий своих собственных идей. Но можно также задаться вопросом, было ли в Средние века таким уж радикальным утверждение о том, что деньги — это произвольная социальная условность. В конце концов, христианские и китайские мыслители, настаивавшие на том, что это так, почти всегда подразумевали, что деньги — это то, что было угодно императору или королю. В этом смысле мнение аль-Газали прекрасно сочеталось со стремлением ислама защищать рынок от вмешательства со стороны политики посредством утверждения, что рынок находится под покровительством религиозных властей.
Тот факт, что средневековые деньги принимали такие абстрактные, виртуальные формы: чеки, бирки, бумажные банкноты, означает, что вопросы вроде «Что имеется в виду, когда мы говорим, что деньги — это символ?» отражали самую суть философских проблем той эпохи. Наиболее ярко это проявляется в истории самого слова «символ». Здесь мы обнаруживаем такие параллели, которые иначе как ошеломляющими не назвать.
Утверждая, что монеты — это лишь социальная условность, Аристотель использовал термин «симболон», от которого происходит наше слово «символ». Изначально греческое слово «симболон» обозначало бирку — предмет, который разламывался надвое при заключении контракта или соглашения или при помощи которого фиксировался и списывался долг. Так что наше слово «символ» восходит к предметам, которые разламывали при заключении долговых договоров того или иного рода. Это удивительно. Но что на самом деле примечательно, так это то, что современное ему китайское слово «фу», или «фу хао», означающее символ, имеет почти такое же происхождение[462].
Начнем с греческого термина «симболон». Два друга за ужином могли создать симболон, взяв какой-нибудь предмет — кольцо, костяшку, глиняный предмет посуды — и разбив его на две части. Впоследствии, когда один из них нуждался в помощи другого, они могли соединить свои половинки в напоминание о дружбе. Археологи обнаружили сотни таких небольших табличек о дружбе, часто изготавливавшихся из глины. Затем с их помощью начали скреплять договоры и использовать их вместо свидетелей[463]. Этим словом также обозначались различные метки: те, что давались афинским присяжным для голосования, или билеты в театр. Оно также могло означать и деньги, но только в том случае, если у денег не было собственной стоимости: например, бронзовые монеты, стоимость которых определялась местными договоренностями. Симболон мог быть и письменным документом, например паспортом, договором, доверенностью или квитанцией{329}. В более широком смысле он стал обозначать предзнаменование, предвестие, симптом или же — в более привычном сегодня значении — символ.
Переход к последнему, видимо, был двойственным. Аристотель акцентировал внимание на том, что бирка могла быть чем угодно: сам предмет значения не имел, главным было то, что его можно было разломить напополам. То же самое происходит с языком: слова — это звуки, при помощи которых мы обозначаем предметы или идеи, но эта связь произвольна: нет какой-то особой причины, например, почему слово «собака» выбрали для обозначения животного, а слово «бог» — для обозначения божества, а не наоборот. Единственная причина этого — социальная условность: соглашение между всеми говорящими на данном языке, что этот звук будет относиться к этой вещи. В этом смысле все слова были произвольными знаками соглашения{330}.[464] То же, разумеется, относится и к деньгам: для Аристотеля не только бронзовые монеты, которые не имеют ценности сами по себе, но за которыми мы соглашаемся признавать определенную стоимость, но и вообще все деньги, даже золото, являются всего лишь симболоном, социальной условностью{331}.
Все это стало считаться общим местом в XIII веке, во времена Фомы Аквинского, когда правители могли изменять стоимость денег, просто издавая соответствующий указ. Однако средневековые теории символов в большей степени восходили не к Аристотелю, а к мистическим религиям древности, в которых слово «симболон» стало обозначать некоторые тайные формулы или талисманы, доступные для понимания лишь посвященным[465]. Так из конкретного знака, который можно было воспринять при помощи чувств, он превратился в знак, который можно понять только в связи с некоей потаенной реальностью, лежащей за пределами сферы чувственного восприятия{332}.[466]
Самым известным теоретиком символа, произведения которого в Средние века имели широкое распространение и высоко ценились, был греческий христианский мистик, живший в VI веке. Его настоящее имя затерялось во тьме веков, и потому мы знаем его под псевдонимом Дионисий Ареопагит[467]. Взяв понятие символа в более широком значении, Дионисий использовал его для рассмотрения важной интеллектуальной проблемы той эпохи: как люди могут познать Бога? Как мы, чье знание ограничено теми сторонами материального мира, которые могут воспринять наши чувства, можем познать существо, чья природа материальному миру полностью чужда, — как он пишет, «ту бесконечность за пределами существа, то единство, находящееся за пределами понимания»?{333} Это было бы невозможно, если бы не тот факт, что Бог в своем всемогуществе может сделать все, а значит, подобно тому как он вкладывает свое тело в евхаристию, он может открыть себя нашему разуму посредством бесконечного многообразия материальных форм. Любопытно предупреждение Дионисия о том, что мы не можем начать понимать, как действуют символы, до тех пор пока мы не избавимся от представления о том, что Божественные вещи, скорее всего, прекрасны. Образы светящихся ангелов и небесных колесниц только сбивают нас с толку, поскольку заставляют думать, что Небеса так и выглядят, хотя на самом деле мы не можем помыслить, на что похожи Небеса. Настоящими же символами являются, так же как и изначальный симболон, обычные предметы, отобранные, на первый взгляд, случайно; зачастую это некрасивые, несуразные вещи, сама нелепость которых напоминает нам о том, что они не являются Богом, о том, что Бог «выходит за пределы любой материальности», даже если в другом смысле они и есть Бог{334}. Однако представление о том, что они в любом случае представляют собой знаки соглашения между равными людьми, здесь полностью исчезает. Символы — это подарки, абсолютно свободные иерархические дары, которые преподносятся существом, стоящим настолько выше нас, что любая мысль о взаимности, долге или взаимном обязательстве кажется просто невероятной[468].
Сравните греческое понимание, приведенное выше, со статьей, взятой из китайского словаря:
Фу. Соглашаться, вести счет по биркам. Две половинки бирки.
• очевидность; удостоверение личности, мандат
• исполнить обещание, сдержать слово
• примирять
• взаимное соглашение между небесным промыслом и человеческими делами
• бирка, чек
• императорская печать или клеймо
• гарантия, доверенность, верительная грамота
• соединение двух половинок бирки при выполнении соглашения
Эволюция была почти такой же. Как и симболоны, фу могли быть бирками, договорами, официальными печатями, гарантиями, паспортами или верительными грамотами. Если дело касалось обещания, они могли воплощать соглашение, долговой договор или даже вассальные отношения, поскольку менее знатный сеньор, который соглашался стать вассалом другого человека, разламывал бирку точно так же, как если бы он занимал зерно или деньги. Общей чертой здесь является то, что две изначально равные стороны заключают договор, по которому одна из них соглашается занять подчиненное положение. Позднее, по мере углубления централизации государства, фу в основном использовалось для передачи приказов чиновникам: получив назначение в провинцию, чиновник забирал левую половину с собой, а когда император хотел передать ему важное поручение, он отправлял правую половину с вестником, для того чтобы чиновник точно знал, что это действительно воля императора{336}.
Мы уже видели, что бумажные деньги родились из бумажных версий долговых договоров, которые разрывались напополам и затем воссоединялись. Конечно, для китайских теоретиков утверждение Аристотеля о том, что деньги — это просто социальная условность, вряд ли было радикальным; оно просто принималось как данность. Деньги были тем, что было угодно императору. Хотя и здесь была небольшая оговорка, как следует из приведенной выше словарной статьи: «фу» также означало взаимное соглашение между небесным промыслом и человеческими делами. Подобно тому как чиновники назначались императором, сам император назначался высшей силой и мог править эффективно лишь до тех пор, пока обладал Небесным мандатом: именно поэтому благоприятные предзнаменования назывались «фу» и были знаками расположения Небес к правителю, в то время как стихийные бедствия свидетельствовали о том, что он сбился с верного пути[470].
В этом китайские идеи немного сближались с христианскими. Но в китайских представлениях о Вселенной было одно ключевое отличие: поскольку в них не было непреодолимой пропасти между нашим миром и потусторонним, то о договорных отношениях с богами не шло даже и речи. Это особенно справедливо для средневекового даосизма, в рамках которого церемония посвящения в монахи носила название «раскалывание бирки» и заключалась в разрывании клочка бумаги, представлявшего собой договор с Небесами{337}. То же происходило и с волшебными талисманами, которые также назывались «фу» и которые приверженец веры мог получить от своего наставника. Это были бирки в буквальном смысле слова: верующий брал одну половину, а вторую, как считалось, оставляли себе боги. Такие талисманы фу имели форму диаграмм, которые представляли собой разновидность Небесного письма, доступного для понимания только богам, и призывали богов помочь их обладателю; зачастую они давали приверженцу право призывать армии Божественных заступников, с помощью которых он мог поразить демонов, излечить больных или получить другие чудесные способности. Однако, как и симболоны Дионисия, они могли превратиться в предметы созерцания, при помощи которых ум человека мог обрести некое знание о невидимом мире, лежащем за пределами нашего мира[471].
Многие из наиболее ярких зрительных символов, возникших в средневековом Китае, восходят к таким талисманам — например, символ реки или, если уж на то пошло, символ инь-ян, который, по-видимому, развился из него[472]. Достаточно взглянуть на символ инь-ян, чтобы представить правую и левую (иногда их еще называют «мужской» и «женской») половинки бирки.
Бирка устраняет необходимость присутствия свидетелей; если оба согласны, то каждый знает, что соглашение между договаривающимися сторонами достигнуто. Именно поэтому Аристотель усматривал в ней подходящую метафору для слов: слово А соответствует понятию Б, потому что есть негласная договоренность о том, что мы будем действовать так, будто так оно и есть. В бирках удивительно то, что, хотя они и возникли как простые знаки дружбы и солидарности, почти во всех позднейших примерах обе стороны соглашаются создать отношения неравенства — долга, обязательства, подчинения приказам другого. Это, в свою очередь, позволяет использовать метафору отношений между материальным миром и тем более могущественным миром, который в конечном счете наделяет первый смыслом. Обе стороны — это одно и то же. Однако они создают абсолютное различие. Поэтому для средневекового христианского мистика, как и для средневековых китайских колдунов символы могли быть в буквальном смысле кусочками Неба, пусть даже первому они давали язык, позволявший понимать существа, с которыми невозможно вступить во взаимодействие, а вторым они предоставляли способ взаимодействия и даже возможность заключать практические соглашения с существами, чей язык понять нельзя.
С одной стороны, это лишь другая версия тех дилемм, которые возникают всякий раз, когда мы пытаемся переосмыслить мир в категориях долга, этого специфического соглашения между двумя равными людьми, по которому они перестают быть равными до тех пор, пока равенство между ними не будет восстановлено. Однако эта проблема приобрела особую остроту в Средние века, когда экономика получила духовное измерение. По мере того как золото и серебро скапливалось в священных местах, обычные сделки повсюду стали осуществляться при помощи кредита. Споры о богатстве и рынках неизбежно превратились в споры о долге и нравственности, а споры о долге и нравственности перетекли в споры о нашем месте во Вселенной. Как мы видели, решения этих споров заметно различались. Европа и Индия вернулись к иерархии: общество разделилось на сословия священников, воинов, купцов и крестьян (или просто на священников, воинов и крестьян в христианстве). Долги между сословиями считались опасными, поскольку подразумевали потенциальное равенство и зачастую вели к прямому насилию. В Китае долг, напротив, стал управляющим принципом космоса: это и кармические и молочные долги, и долговые контракты между людьми и Небесными силами. С точки зрения властей, все это вело к излишествам и теоретически к большой концентрации капитала, которая могла полностью нарушить баланс в обществе. Правительство было обязано постоянно вмешиваться для поддержания плавного и справедливого функционирования рынков и для предотвращения новых взрывов народного недовольства. В исламском мире, где богословы полагали, что Господь каждое мгновение заново создавал всю Вселенную, рыночные колебания рассматривались лишь как еще одно проявление Божественной воли.
Поразительно то, что осуждение купца в конфуцианстве и его прославление в исламе в конечном счете приводили к одному и тому же результату: к складыванию зажиточных обществ с процветающими рынками, в которых, тем не менее, так и не возникли крупные купеческие банки и промышленные фирмы, ставшие отличительными чертами современного капитализма. Это особенно поражает в исламе. Конечно, в исламском мире были персонажи, которых иначе как капиталистами не назвать. Крупных купцов называли «сахиб ал-мал», или «собственники капитала», и теоретики права свободно рассуждали о создании и расширении капитальных фондов. В эпоху расцвета Халифата некоторые из таких купцов обладали миллионами динаров и искали способы выгодного вложения средств. Почему тогда здесь не появилось ничего похожего на современный капитализм? Я бы выделил два фактора. Во-первых, исламские купцы серьезно относились к своей идеологии свободного рынка. Рынок не находился под прямым контролем правительства; договоры заключались между индивидами — в идеале «рукопожатием и возведением глаз к небу», — а значит, различие между честью и кредитом исчезло. Это неизбежно: не может быть беспощадной конкуренции там, где никто не удерживает людей от того, чтобы перерезать друг другу глотку. Во-вторых, ислам серьезно относился к принципу, согласно которому доходы являются вознаграждением за риск, — этот принцип впоследствии стал частью классической экономической теории, но далеко не всегда соблюдался на практике. Считалось, что торговые предприятия были в буквальном смысле приключениями, в которых торговцы подвергали себя риску штормов и кораблекрушения, нападения диких кочевников, преодоления лесов, степей и пустынь, столкновения с экзотической и непредсказуемой иностранной таможней и с произволом властей. Финансовые механизмы, призванные позволить избежать этих рисков, считались нечестивыми. Это было одно из возражений против ростовщичества: если кто-то требует фиксированную процентную ставку, то доходы гарантированы. Торговые инвесторы также должны были брать на себя часть риска. Из-за этого большинство видов финансов и страхования, которые впоследствии получили распространение в Европе, здесь не могли появиться[473].
В этом смысле буддистские монастыри раннесредневекового Китая представляют собой другую крайность. Неисчерпаемые сокровищницы были неисчерпаемыми потому, что могли делать надежные вложения, постоянно одалживая деньги под процент и всегда оставляя нетронутым свой капитал. В этом была вся суть. Поступая так, буддизм, в отличие от ислама, создал нечто очень похожее на то, что мы сегодня называем корпорациями, — организации, которых благодаря обворожительной юридической фикции мы представляем себе в виде людей, но которые при этом бессмертны и никогда не должны сталкиваться со всеми человеческими проблемами вроде брака, размножения, немощи и смерти. Выражаясь средневековым языком, они очень похожи на ангелов.
С юридической точки зрения наше понятие корпорации является продуктом европейского Средневековья. Правовое представление о корпорации как о «фиктивном лице» (“persona ficta”) — лице, которое, как писал Мейтленд, великий английский историк права, «бессмертно, которое предъявляет иски и привлекается к суду, владеет землями, обладает собственной печатью и устанавливает правила для естественных лиц, составляющих ее»{338}, — впервые было обосновано в каноническом праве папой Иннокентием IV в 1250 году. Одними из первых организаций, к которым оно стало применяться, были монастыри; впоследствии оно распространилось на университеты, церкви, муниципалитеты и цехи{339}.
Мысль о корпорациях как об ангельских существах, кстати, не моя. Я позаимствовал ее у великого медиевиста Эрнста Канторовича, который отмечал, что все это происходило как раз тогда, когда Фома Аквинский развивал представление о том, что ангелы на самом деле были лишь воплощением платоновских идей[474]. «Согласно учению Аквината, — пишет он, — каждый ангел представлял собой отдельный вид».
Неудивительно поэтому, что персонифицированные объединения у юристов, представляющие собой с юридической точки зрения бессмертные виды, демонстрируют все черты, в иных случаях приписываемые ангелам… Деиндивидуализированные фиктивные лица у юристов, следовательно, с необходимостью напоминали ангелов, и сами юристы признавали наличие определенного сходства между их абстракциями и ангельскими сущностями. В этом отношении можно сказать, что мир политико-правовой мысли позднего Средневековья начал заселяться нематериальными ангельскими телами, большими и малыми: они были невидимы, не имели возраста, вечны, бессмертны, а иногда даже вездесущи; они были наделены corpus intellectuale или mysticum [интеллектуальным или мистическим телом], способным выдержать любое сравнение с «духовными телами» небесных сущностей{340}.
Все это нужно подчеркнуть, потому что, хотя мы и привыкли считать, что корпорации — явление естественное и неизбежное, в исторической перспективе они выглядят странными, экзотическими созданиями. Ни одна другая великая традиция не придумала ничего подобного[475]. Они представляют собой самый оригинальный — и самый долговечный — вклад европейцев в бесконечное разрастание метафизических сущностей, столь характерное для Средневековья.
Они, конечно, сильно изменились с течением времени. Средневековые корпорации владели собственностью и часто заключали сложные финансовые договоренности, но они ни в коей мере не были компаниями, стремившимися к получению прибыли в современном смысле. Ближе всего к этому определению подошли — что, наверное, неудивительно — монашеские ордена (прежде всего цистерцианцы), чьи монастыри стали походить на буддистские монастыри в Китае: их тоже окружали мельницы и кузницы, они вели рациональное коммерческое сельское хозяйство, используя труд «братьев-мирян», которые в действительности были наемными работниками, а также пряли и экспортировали шерсть. Некоторые даже говорят о «монашеском капитализме»[476]. Однако почва для капитализма в привычном нам значении этого слова была подготовлена лишь тогда, когда купцы стали объединяться в вечные организации, для того чтобы получать монополии, законные или фактические, и избегать обычных рисков торговли. Прекрасным примером этого служит Общество купцов — искателей приключений, основанное королем Генрихом IV в Лондоне в 1407 году; несмотря на романтический флер в названии, оно в основном занималось скупкой британской шерсти и ее продажей на фламандских ярмарках. Такие общества были не современными акционерными компаниями, а скорее старомодными средневековыми купеческими гильдиями, однако они создали структуру, при помощи которой старшие, более обеспеченные, купцы могли запросто ссужать деньги молодым и в достаточной мере контролировать торговлю шерстью, для того чтобы гарантировать себе солидные доходы{341}. Однако когда такие компании стали снаряжать вооруженные заморские экспедиции, в человеческой истории открылась новая эра.
Глава 11
Эпоха великих капиталистических империй (1450–1971)
«Так значит, одиннадцать песо; а если ты не сможешь мне заплатить одиннадцать песо, то с тебя еще одиннадцать песо — итого двадцать два: одиннадцать за серапе и петате и еще одиннадцать, потому что ты не смог заплатить. Так, Кризьеро?»
Кризьеро не разбирался в цифрах, поэтому вполне ожидаемо ответил:
«Да, патрон».
Дон Арнульфо был приличным, честным человеком. Другие землевладельцы были куда менее милосердны по отношению к своим батракам. «Рубашка стоит пять песо. Так? Отлично. Если ты не сможешь заплатить за нее, с тебя еще пять песо. А если ты останешься мне должен пять песо, то с тебя еще пять песо. А если я так и не получу от тебя денег, то с тебя еще пять песо. Получается пять плюс пять плюс пять плюс пять. Итого двадцать песо. По рукам?» «Да, патрон, по рукам». Батраку больше негде добыть рубашку, когда она ему нужна. Ему не от кого получить кредит, кроме как от своего хозяина, на которого он работает и от которого он не сможет уйти до тех пор, пока будет должен ему хотя бы один сентаво.
Б. Травен. Повозка
Эпоха, начавшаяся с того, что мы привыкли называть «Великими географическими открытиями», была отмечена столькими поистине новыми феноменами: появлением современной науки, капитализма, гуманизма, национального государства, что может показаться странной попытка представить ее лишь как еще один поворот исторического цикла. Тем не менее в рамках концепции, которую я разрабатываю в этой книге, именно этим она и являлась.
Эта эпоха начинается около 1450 года с перехода от виртуальных денег и кредитных экономик к золоту и серебру. Последующий поток драгоценных металлов из Америки невероятно ускорил этот процесс, вызвав в Западной Европе «революцию цен», которая перевернула традиционное общество вверх дном. Более того, возвращение к драгоценным металлам сопровождалось восстановлением целого ряда других условий, которые в Средние века были устранены или сдерживались: вновь возникли обширные империи и профессиональные армии, разгорелись масштабные хищнические войны, появились ничем не сдерживаемые ростовщичество и долговая неволя, но вместе с тем сложились новые материалистические философские учения, начался бурный расцвет научного и философского творчества — вернулся даже рабский труд. Это не было простым повторением прошлого. Все элементы Осевого времени возродились, но сложились в совершенно иную картину.
В европейской истории XV столетие было особенным. Это был век бесконечных катастроф: население городов периодически выкашивала черная смерть; торговая экономика находилась в кризисе, а в некоторых регионах и вовсе рушилась; целые города становились банкротами, отказываясь платить по своим обязательствам; рыцарское сословие ссорилось по пустякам с остальными городами и постоянно разоряло сельскую местность. Даже в геополитических категориях христианство отступало под ударами Османской империи, которая не только захватила остатки Византии, но и продвигалась дальше в Центральную Европу, наступая по суше и на море.
Вместе с тем, с точки зрения многих простых крестьян и городских тружеников, время это было лучше некуда. Одним из странных последствий бубонной чумы, уничтожившей около трети трудовых ресурсов Европы, стал резкий рост заработной платы. Это произошло не сразу и во многом оказалось следствием первой реакции властей, которые приняли законы, замораживавшие заработки, и даже попытались снова привязать свободных крестьян к земле. Такие меры натолкнулись на мощное сопротивление, которое вылилось в целый ряд народных восстаний по всей Европе. Восстания были подавлены, но власти были вынуждены пойти на компромисс. Вскоре в руках простых людей оказалось такое богатство, что правительству пришлось издать новые законы, запрещавшие простолюдинам носить шелка и горностаевые меха и ограничивавшие количество праздничных дней, которые во многих городах и приходах стали съедать треть или даже половину года. Не случайно XV век считается расцветом средневековой праздничной жизни с ее механическими устройствами и воздушными змеями, майскими деревьями, пасхальными гуляниями и праздниками дураков{342}.
В последующие столетия ничего от этого не осталось. В Англии празднества подвергались систематическим нападкам со стороны пуритан, затем против них повсюду ополчились католические и протестантские реформаторы. В то же время благосостояние народа, бывшее экономической основой культуры праздников, улетучилось.
Причины этого уже несколько веков являются предметом оживленных исторических споров. Что мы знаем точно, так это то, что все началось с массовой инфляции. С 1500 по 1650 год цены в Англии увеличились на 500 %, но зарплаты росли намного медленнее, из-за чего за пять поколений они сократились до 40 % от прежнего уровня. То же самое произошло повсюду в Европе.
Почему? Стандартное объяснение предложил французский юрист Жан Воден в 1568 году. Заключалось оно в том, что после завоевания Нового Света в Европу хлынул мощный поток золота и серебра. По мере того как стоимость драгоценных металлов падала, цены на все остальное быстро росли, и зарплаты просто не поспевали за их темпами[477]. Есть факты, подтверждающие эту точку зрения. Пик народного благосостояния около 1450 года совпал с периодом дефицита драгоценных металлов, а значит, и монет[478]. Отсутствие наличности наносило особый ущерб международной торговле; в 1460-х годах корабли, полные товаров, были вынуждены возвращаться ни с чем из крупнейших портов, поскольку ни у кого на руках не было наличности, чтобы их купить. Проблема начала решаться лишь в конце этого десятилетия, когда внезапно увеличилась добыча серебра в Саксонии и Тироле, а затем были открыты новые морские пути к Золотому берегу в Западной Африке. За этим последовали завоевательные походы Кортеса и Писарро. Между 1520 и 1640 годами испанские галеоны перевезли через Атлантику и Тихий океан огромное количество мексиканского и перуанского золота и серебра.
Проблема с общепринятой версией истории состоит в том, что лишь небольшая часть этого золота и серебра задерживалась в Европе надолго. Золото в основном оседало в индийских храмах, а подавляющее большинство серебряных слитков в конечном оказывалось в Китае. Последний пункт имеет ключевое значение. Если мы действительно хотим понять истоки современной мировой экономики, то начинать надо вовсе не с Европы. Главный сюжет в этой истории — это то, как Китай отказался от бумажных денег. Об этом стоит коротко рассказать, потому что мало кто об этом знает.
Монголы, завоевав Китай в 1271 году, сохранили систему бумажных денег и даже предприняли разрозненные (и, как правило, провальные) попытки ввести ее в других частях своей империи. Однако в 1368 году они были свергнуты очередным китайским народным восстанием, и власть снова перешла в руки бывшего крестьянского вожака.
В течение своего векового правления монголы тесно сотрудничали с иностранными купцами, которые заслужили всеобщую ненависть. Отчасти поэтому бывшие повстанцы, ставшие Минской династией, с подозрением относились к торговле в любой форме и содействовали распространению романтического представления о самодостаточных сельских общинах. Это имело некоторые отрицательные последствия. С одной стороны, сохранялась старая монгольская система налогов, которые выплачивались трудом и натурой; в ее основе лежала квазикастовая система, в которой подданные классифицировались как крестьяне, ремесленники или солдаты и не могли менять род занятий. Она оказалась крайне непопулярной. Хотя правительственные вложения в сельское хозяйство, обустройство дорог и каналов вызвали торговый бум, большая часть этой торговли была в теории незаконной, а налоги на урожай оказались столь высоки, что многие отягощенные долгами крестьяне начали сбегать со своих земель{343}.[479]
Как правило, такое подвижное население ищет что угодно, но только не постоянную работу в промышленности; здесь, как и в Европе, большинство предпочло жить за счет случайных заработков, торговли вразнос, оказания мелких услуг, пиратства или разбоя. В Китае многие стали старателями. Началась небольшая серебряная лихорадка, повсюду появились незаконные шахты. Вскоре в теневой экономике нечеканные серебряные слитки сменили официальные бумажные деньги и связки бронзовых монет в качестве реальных денег. В ответ на попытки закрыть нелегальные шахты, предпринятые правительством в 1430-1440-х годах, на местах вспыхнули восстания, в ходе которых шахтеры, выступая заодно с лишившимися своих земель крестьянами, осаждали близлежащие города, а иногда угрожали целым провинциям[480].
В конце концов правительство отказалось даже от попыток побороть теневую экономику и полностью сменило тактику: прекратив выпускать бумажные деньги, оно легализовало шахты, позволило использовать серебряные слитки для совершения крупных сделок и даже разрешило частным монетным дворам изготавливать связки наличности[481]. Это, в свою очередь, позволило властям постепенно отойти от системы принудительного труда, заменив ее единообразной системой налогов, которые выплачивались серебром.
Китайское правительство вновь вернулось к своей старой политике стимулирования рынков и вмешательства в их функционирование для предотвращения чрезмерной концентрации капитала. Эти меры оказались успешными: китайские рынки стали быстро расти. Многие говорят, что династии Мин принадлежит уникальное в мировой истории достижение: в эту эпоху не только китайское население резко увеличилось, но и уровень жизни заметно повысился{344}. Проблема заключалась в том, что во избежание народного недовольства режим должен был обеспечивать обильный приток серебра в страну, чтобы цена на него оставалась низкой; однако китайские рудники вскоре истощились. В 1530-х годах новые серебряные жилы были обнаружены в Японии, однако и они иссякли через пару десятилетий. Вскоре Китаю пришлось обратиться к Европе и к Новому Свету.
Европа с римских времен экспортировала на Восток золото и серебро: проблема была в том, что европейцы никогда не производили ничего такого, что азиаты хотели бы покупать, и потому были вынуждены платить металлом за шелка, специи, сталь и другие предметы импорта. В первые годы европейская экспансия была во многом обусловлена стремлением получить доступ либо к восточным предметам роскоши, либо к новым источникам золота и серебра, чтобы за них платить. В те годы у атлантической Европы было всего одно существенное преимущество по сравнению с ее мусульманскими соперниками: высокоразвитое искусство ведения войны на море, отработанное на протяжении многих веков в ходе конфликтов в Средиземноморье. Когда Васко да Гама приплыл в Индийский океан, принцип, согласно которому моря должны были быть зоной свободной торговли, в одночасье перестал действовать. Португальские флотилии стали бомбардировать и грабить все торговые города, которые им попадались, затем установили контроль над стратегическими точками и принялись вымогать деньги у местных торговцев за право беспрепятственно вести свои дела.
Почти ровно в то же время Христофор Колумб — генуэзский картограф, искавший короткий путь в Китай, — достиг земли в Новом Свете, и на испанскую и португальскую империи свалилась самая большая экономическая удача в мировой истории: целые континенты, которые были полны несметных богатств и население которых, вооруженное лишь оружием каменного века, очень кстати начало умирать, как раз когда появились европейцы. Завоевание Мексики и Перу привело к обнаружению новых неисчерпаемых источников драгоценного металла; колонизаторы подвергли местное население систематической беспощадной эксплуатации, ради того чтобы извлечь как можно больше золота и серебра в максимально короткий срок. Как недавно отмечал Кеннет Померанц, ничего из этого не произошло бы, если бы не ненасытный азиатский спрос на драгоценные металлы.
Если бы экономика, прежде всего китайская, не была настолько динамичной, что благодаря переходу на металлическую основу могла поглощать на протяжении трех столетий неимоверное количество серебра, добывавшегося в Новом Свете, все эти шахты перестали бы быть рентабельными в течение нескольких десятилетий. Массовая инфляция цен, выраженных в серебре, в Европе между 1500 и 1640 годами показывает падение стоимости этого металла там даже несмотря на то, что Азия поглощала большую часть его предложения{345}.
К 1540 году избыток серебра привел к обвалу цен по всей Европе; в этот момент американские шахты могли просто перестать действовать, и весь проект колонизации Америки обернулся бы крахом, если бы не спрос на серебро в Китае[482]. Вместо того чтобы разгружаться в Европе, галеоны с сокровищами стали огибать мыс Доброй Надежды и плыть дальше, через Индийский океан, к Кантону. После 1571 года, когда был основан испанский город Манила, они стали плыть напрямую через Тихий океан. К концу XVI века Китай импортировал почти пятьдесят тонн серебра в год, что составляло 90 % от всего китайского серебра, а в начале XVII века — 116 тонн, или 97 %{346}. Для его оплаты нужно было в огромных количествах экспортировать шелк, фарфор и другие товары. В свою очередь, многие из этих китайских товаров попадали в новые города Центральной и Южной Америки. Эта азиатская торговля стала самым значимым фактором в складывании глобальной экономики, а те, кто контролировал финансовые рычаги, — прежде всего итальянские, голландские и немецкие торговые банки — сказочно разбогатели.
Но как именно новая глобальная экономика привела к резкому ухудшению уровня жизни в Европе? Мы знаем одно: это произошло не из-за того, что появилось большое количество драгоценных металлов, которое можно было использовать для повседневных сделок. Если уж на то пошло, результат был ровно противоположным. Хотя европейские монетные дворы чеканили в огромных количествах риалы, талеры, дукаты и дублоны, которые стали средством торговли от Никарагуа до Бенгалии, эти монеты практически не оказывались в карманах обычных европейцев. Напротив, мы слышим постоянные жалобы на дефицит денег. В Англии
На протяжении большей части правления Тюдоров монеты, находившиеся в обращении, были столь мелкими, что у налогооблагаемого населения просто не было достаточно денег для оплаты взимаемых с него поборов, взносов и десятин, и снова и снова людям приходилось расставаться с семейной посудой, которая была в доме почти у всех и больше всего походила на деньги{347}.
Это происходило в большей части Европы. Несмотря на масштабный приток металла из Америки, у большинства семей наличности было так мало, что им регулярно приходилось расплавлять семейное серебро для уплаты налогов.
Так было потому, что налоги должны были уплачиваться металлом. Повседневные сделки, напротив, по-прежнему осуществлялись так же, как и в Средние века: посредством различных форм виртуальных кредитных денег (бирок, простых векселей) или — в более мелких общинах — путем простого отслеживания, кто что и кому должен. Причиной инфляции стало то, что те, в чьих руках оказался контроль над драгоценными металлами, — правительства, банкиры, крупные купцы — могли использовать свою власть для изменения правил, во-первых утверждая, что золото и серебро и были деньгами, а во-вторых вводя новые формы кредитных денег для собственного использования и в то же время постепенно разрушая местные системы доверия, которые позволяли мелким общинам в Европе существовать без использования металлических денег.
Это была политическая борьба, которая в то же время представляла собой еще и концептуальный спор о природе денег. Новый режим обращения денег, изготавливаемых из драгоценных металлов, мог быть навязан только путем невиданного насилия — не только в заморских краях, но и у себя дома. В большей части Европы первая реакция на «революцию цен» и сопровождавшие ее огораживания общинных земель не очень отличалась от того, что незадолго до того происходило в Китае: тысячи бывших крестьян бежали или были изгнаны из своих деревень и стали бродягами или «людьми без хозяина»; следствием этого процесса стали народные восстания. Ответ европейских правительств, однако, был совсем иным. Они подавили восстания, но ни на какие уступки не пошли. Бродяг отлавливали, отправляли в колонии в качестве законтрактованных работников или в армию и на флот или же — позднее — заставляли работать на фабриках у себя в стране.
Почти все это делалось посредством манипуляций с долгом. В результате сама природа долга снова стала одним из главных предметов спора.
Часть I
Жадность, террор, возмущение, долг
Ученые, несомненно, никогда не перестанут спорить о причинах великой «революции цен» — во многом потому, что неясно, при помощи каких инструментов ее изучать. Можем ли мы использовать методы современной экономической науки, предназначенные для анализа функционирования сегодняшних экономических институтов, при изучении политических баталий, которые и привели к становлению этих самых институтов?
Эта проблема носит не только концептуальный характер. Здесь присутствуют и опасности нравственного порядка. Применение макроэкономического подхода, кажущегося объективным, для изучения истоков мировой экономики означало бы, что поведение европейских первооткрывателей, купцов и завоевателей рассматривалось бы просто как простой рациональный ответ на появившиеся возможности — как если бы любой на их месте действовал точно так же. Именно к этому часто приводит использование уравнений: начинает казаться совершенно естественным утверждение, что если цена на серебро в Китае вдвое выше, чем в Севилье, и жители Севильи могут присвоить себе много серебра и привезти его в Китай, то они непременно это сделают, пусть даже это потребует уничтожения целых цивилизаций. Или если в Англии есть спрос на сахар и обращение в рабство миллионов людей — это самый простой способ получить рабочую силу для его производства, то кто-нибудь обязательно обратит их в рабство. На самом деле история довольно ясно показывает, что это не так. У многих цивилизаций появлялись возможности причинить другим столько вреда, сколько причинили европейские державы в XVI–XVII веках (Минский Китай здесь — очевидный кандидат), но почти никто так поступать не стал[483].
В качестве примера рассмотрим, как добывались золото и серебро на американских рудниках. Добыча началась почти сразу после падения ацтекской столицы Теночтитлана в 1521 году. Хотя мы привыкли считать, что множество мексиканцев погибло от новых болезней, которые привезли европейцы, современники полагали, что не меньшую роль сыграло то, что недавно завоеванных туземцев насильственно заставляли работать на рудниках[484]. В своей книге «Завоевание Америки» Цветан Тодоров приводит выдержки из ужасающих отчетов, составленных в основном испанскими священниками и монахами. Хотя они зачастую и верили, что уничтожение индейцев было карой Божьей, все же они не могли скрыть отвращения, которое вызывали у них испанские солдаты, испытывавшие клинки своих мечей, выпуская кишки случайным прохожим, и вырывавшие младенцев из рук матерей, чтобы бросить их на съедение собакам. Такие поступки, наверное, можно было бы списать на то, что, мол, чего ожидать от тяжеловооруженных людей, зачастую с преступным прошлым, которые действовали в условиях полной безнаказанности; однако отчеты о положении на рудниках говорят о куда более систематических вещах. Когда фрай Торибио де Мотолиниа описывал десять казней, ниспосланных, по его мнению, Господом на жителей Мексики, он включил в список оспу, войну, голод, принудительный труд, налоги (из-за которых многим приходилось продавать своих детей заимодавцам — в противном случае их замучивали до смерти в тюрьмах) и строительство новой столицы, повлекшее гибель тысяч людей. Но на первом месте, утверждал он, было бесчисленное количество индейцев, погибших на рудниках:
Восьмой казнью были рабы, которых испанцы отправляли работать на шахтах. Сначала брали тех, кого обратили в неволю ацтеки; затем тех, кто выказал неподчинение; наконец стали брать всех, кого удавалось поймать. В первые годы после завоевания работорговля процветала и рабы часто переходили от одного хозяина к другому. Помимо королевского клейма им ставили столько отметин, что их лица были полностью покрыты буквами, поскольку на них были инициалы всех тех, кто их покупал и продавал. Девятой казнью был труд на рудниках, куда тяжело нагруженные индейцы несли провизию на протяжении шестидесяти лиг и более… Когда у них заканчивалась еда, они умирали либо на шахтах, либо на дороге, потому что их никто не кормил, а денег для покупки пищи у них не было. Некоторые возвращались домой в таком состоянии, что вскоре умирали. Тела этих индейцев и рабов, погибших на шахтах, источали такое зловоние, что от него начинался мор, особенно на рудниках в Оахаке. На расстоянии полулиги вокруг шахт и вдоль значительной части дороги приходилось идти по трупам или по костям, а стаи птиц и ворон, которые прилетали полакомиться телами, были столь многочисленны, что за ними не было видно солнца{348}.
Подобные сцены имели место в Перу, где целые области обезлюдели из-за принудительного труда на рудниках, и на Эспаньоле, где туземное население вымерло полностью[485].
Когда речь заходит о конкистадорах, мы говорим не просто о жадности, а о жадности, доведенной до неправдоподобных масштабов. В конце концов, это главное, чем они запомнились. Им всегда было мало. Даже после завоевания Теночтитлана или Куско и приобретения невиданных прежде богатств конкистадоры почти всегда снова собирались вместе и отправлялись на поиски новых сокровищ.
Моралисты разных эпох сурово осуждали бесконечную человеческую жадность, равно как и наше якобы безграничное стремление к власти. Однако на самом деле история показывает, что, хотя людей можно справедливо осуждать за склонность обвинять других в том, что они поступают, как конкистадоры, мало кто в действительности так себя ведет. Даже для самых честолюбивых среди нас главная мечта похожа на то, к чему стремился Синдбад: испытать приключения, приобрести средства для того, чтобы остепениться, и зажить приятной жизнью. Конечно, Макс Вебер утверждал, что суть капитализма заключается в желании никогда не останавливаться, в стремлении к постоянной экспансии, которое, по его мнению, впервые проявилось в кальвинизме. Однако конкистадоры были добрыми средневековыми католиками, пусть даже они были самыми беспощадными и беспринципными представителями испанского общества. Откуда тогда взялась неутомимая тяга захватывать все больше, больше и больше?
Здесь, на мой взгляд, стоит вернуться к самому началу завоевания Мексики Эрнаном Кортесом. Какими непосредственными мотивами он руководствовался? Кортес перебрался в колонию на Эспаньоле в 1504 году, мечтая о славе и приключениях, но в течение последующего полутора десятка лет его приключения в основном ограничивались тем, что он волочился за чужими женами. Однако в 1518 году ему удалось обманным путем получить назначение на должность командующего экспедицией, цель которой заключалась в установлении испанского присутствия на континенте. Как позднее писал Берналь Диас дель Кастильо, сопровождавший его в это время:
Наконец, и собственную свою персону он вырядил авантажнее прежнего: на шляпу нацепил плюмаж, а также золотую медаль. Красивый он был малый! Но денег у него было мало, зато много долгов. Энкомьенда его была неплоха, да и индейцы его работали в золотых приисках, но все уходило на наряды молодой хозяйке. Впрочем, Кортес имел приятную наружность, тонкое обхождение и легко располагал к себе людей…
Немудрено, что его друзья из купцов <…>, когда он получил должность генерал-капитана, снабдили его суммой в целых четыре тысячи песо золотом, да еще дали, под залог энкомьенды, на другие четыре тысячи песо множество разных товаров. Теперь Кортес мог себе заказать бархатный парадный камзол с золотыми галунами, а также велел изготовить два штандарта и знамена, искусно расшитые золотом, с королевскими гербами и крестом на каждой стороне и с надписью, гласившей: «Братья и товарищи, с истинной верой последуем за знаком Святого Креста, вместе с ней победим»{349}.
Иными словами, он жил не по средствам, испытывал трудности и потому, как азартный игрок, решил пойти ва-банк. Неудивительно, что, когда губернатор в последний момент отменил экспедицию, Кортес проигнорировал его приказ и отправился на континент с шестью сотнями человек, каждому из которых он пообещал равную долю в будущей добыче. Высадившись на берег, он сжег свои корабли и поставил все, что имел, на победу.
Перейдем от начала книги Диаса сразу к последней главе. Три года спустя Кортес одержал победу, показав себя одним из самых находчивых, беспощадных, блестящих и откровенно бесчестных военачальников в истории. После восьми месяцев изнурительных боев за каждый дом и гибели сотни тысяч ацтеков Теночтитлан, один из крупнейших городов в мире, был полностью разрушен. Имперская казна была захвачена, и настало время разделить ее между выжившими солдатами.
Однако, согласно Диасу, раздел добычи возмутил людей. Офицеры сговорились захватить большую часть золота, а когда был объявлен окончательный размер доли, причитающейся солдатам, выяснилось, что каждому из них доставалось всего от пятидесяти до восьмидесяти песо. Более того, большая часть их добычи сразу же перешла в руки офицеров, выступавших в роли солдатских кредиторов, — все потому, что Кортес настоял на том, чтобы во время осады с солдат взимали плату за замену любого предмета амуниции и за медицинский уход. Многие из них обнаружили, что потеряли деньги в этом предприятии. Диас пишет:
Отсутствие добычи угнетало нас вдвойне, так как все залезли в неоплатные долги ввиду неслыханной дороговизны. О покупке лошади или оружия нельзя было мечтать: за арбалет надо было платить 50 или 60 песо, за аркебузу — 100, а за лошадь — 800 или 900 песо и за меч — 50; хирург и аптекарь заламывали несуразные цены; всюду теснили нас надувательство и обман. Кортес составил особую комиссию из двух заведомо почтенных персон, и она должна была проверить все претензии; из назначенных одним был — «Санта Клара», личность очень известная, а другим был — некий де Льерна, также весьма известная персона; объявлен был денежный мораторий на два года, снижены проценты, выданы кое-какие ссуды{350}.
Вскоре появились испанские купцы, которые стали назначать немыслимые цены за товары первой необходимости, что вызвало еще большее возмущение:
Наш генерал устал от постоянных упреков, которые ему бросали, говоря, что он все украл, и от постоянных прошений о ссудах и авансах и решил разом избавиться от самых мятежных солдат, основав поселения в тех провинциях, что больше всего подходили для этой цели{351}.
Эти люди захватили контроль над провинциями и создали местную администрацию, установили налоги и трудовые повинности. Это позволяет немного лучше понять описания индейцев, лица которых были покрыты именами так же, как чеки, подписанные по многу раз, или рудников, пространство вокруг которых на много миль было завалено гниющими трупами. Здесь мы имеем дело не с холодной, расчетливой жадностью, а с намного более сложной смесью стыда и справедливого негодования, постоянной необходимости выплачивать долги, которые только увеличивались (это почти наверняка были процентные ссуды), и возмущения при мысли о том, что после всего, что им пришлось перенести, они должны были денег вообще за все.
А что же Кортес? Он только что совершил, возможно, самую большую кражу в мировой истории. Разумеется, он смог расплатиться со своими изначальными долгами. Однако он умудрялся всякий раз влезать в новые. Кредиторы уже начали изымать его владения, когда он находился в экспедиции в Гондурасе в 1526 году; по возвращении он написал императору Карлу V, что его расходы были таковы, что «все, что я получил, оказалось недостаточным, чтобы избавить меня от бедности и нищеты; сейчас, когда я пишу эти строки, мои долги превышают пятьсот унций золота, и у меня нет ни песо, чтобы по ним расплатиться»{352}. Кортес, безусловно, лукавил (у него был свой собственный дворец), но всего несколько лет спустя ему пришлось заложить драгоценности своей жены, чтобы профинансировать ряд экспедиций в Калифорнию, которые должны были поправить его состояние. Однако прибылей они не принесли, и кредиторы стали так сильно на него наседать, что ему пришлось вернуться в Испанию и лично просить помощи у императора[486].
Если все это подозрительно напоминает четвертый крестовый поход, с его увязшими в долгах рыцарями, которые дочиста разграбляли иностранные города и все равно оставались во власти кредиторов, то это неспроста. Финансовый капитал, спонсировавший эти экспедиции, проистекал более или менее из того же места (пусть даже на этот раз это была Генуя, а не Венеция). Более того, отношения между отчаянным авантюристом, игроком, готовым пойти на любой риск, с одной стороны, и осторожным финансистом, все операции которого совершаются с целью обеспечить устойчивый, математический, постоянный рост дохода, — с другой, лежат в самом сердце того, что мы сегодня называем капитализмом.
В результате нашу нынешнюю экономическую систему всегда отличал особый, двойственный, характер. Ученых долго завораживали дебаты, которые велись в испанских университетах вроде Саламанки[487] о человеческой природе индейцев (есть ли у них душа? имеют ли они юридические права? является ли законным принудительное обращение их в рабство?), равно как и споры о подлинном отношении конкистадоров к индейцам (испытывали испанцы к своим противникам презрение, отвращение или даже завистливое восхищение?){353}. Суть, однако, заключается в том, что в ключевые моменты принятия решений все это не имело значения. Те, кто принимал решения, не считали, что они полностью контролируют ситуацию; а тех, кто ее контролировал, детали особо не заботили. Один яркий пример: после первых лет эксплуатации золотых и серебряных рудников, которые описал Мотолиниа и в течение которых миллионы индейцев просто схватывали и замучивали до смерти непосильным трудом, колонисты перешли к политике долговой кабалы: обычный трюк, заключавшийся в том, что индейцев облагали высокими налогами, одалживали деньги под проценты тем, кто не мог их выплатить, а затем требовали, чтобы те работали в счет оплаты долга. Королевские чиновники периодически пытались запретить такие приемы, заявляя, что индейцы теперь христиане и что это нарушает их права как верных подданных испанской короны. Но как почти все королевские меры по защите индейцев, результата это не приносило. Финансовые потребности всегда оказывались на первом месте. Карл V сам сильно задолжал флорентийским, генуэзским и неаполитанским банковским фирмам, а золото и серебро из Америки обеспечивало пятую часть всех его доходов. В конце концов, несмотря на изначальный шум и (обычно довольно искреннее) нравственное возмущение со стороны королевских эмиссаров, такие указы либо игнорировались, либо, в лучшем случае, соблюдались в течение пары лет, после чего о них забывали{354}.[488]
Все это помогает понять, почему церковь занимала такую бескомпромиссную позицию по отношению к ростовщичеству. Это был не просто философский вопрос; речь шла о нравственном соперничестве. У денег всегда есть потенциал для того, чтобы самим стать нравственным императивом. Стоит позволить им расширить свою сферу, и они могут быстро превратиться в такую обязывающую мораль, что все остальное в сравнении с ними покажется никчемным. Для должника мир превращается в собрание возможных опасностей, возможных инструментов и возможного торга[489]. Даже человеческие отношения начинают восприниматься как подсчет выгод и издержек. Разумеется, именно такими конкистадоры видели миры, которые завоевывали.
Отличительной чертой современного капитализма является создание социальных соглашений, которые заставляют нас думать именно в таком ключе. В этом смысле очень показательна структура корпораций — не случайно первыми крупными акционерными корпорациями в мире были английская и голландская Ост-Индские компании, которые, как и конкистадоры, опирались на сочетание исследования новых земель, завоевания и принуждения. Эта структура призвана уничтожить все нравственные императивы, кроме выгоды. Управленцы, принимающие решения, могут утверждать — и часто утверждают, — что, если бы это были их деньги, они, разумеется, не стали бы увольнять работников, проработавших на компанию всю жизнь, за неделю до пенсии или сваливать канцерогенный мусор рядом со школами. Однако нравственность обязывает их игнорировать подобные соображения, потому что они простые сотрудники, чья единственная задача заключается в том, чтобы обеспечить максимальные дивиденды для акционеров компании. (Акционеров, разумеется, никто не спрашивает.)
Фигура Кортеса показательна по другой причине. Мы говорим о человеке, который в 1521 году завоевал империю и уселся на огромной куче золота. Расставаться он с ним не собирался — даже в пользу своих наследников. Пять лет спустя он называл себя должником без гроша денег. Как это стало возможным?
Проще всего было бы ответить так: Кортес не был королем; он был подданным короля Испании и жил в юридической системе королевства, устроенной таким образом, что тот, кто плохо распоряжался своими деньгами, их терял. Однако как мы видели, в других случаях королевские законы могли игнорироваться. Более того, даже короли не были совершенно свободны в своих действиях. Карл V был в долгах как в шелках, а когда его сын Филипп II, чьи армии сражались на трех разных фронтах одновременно, попытался провернуть старый средневековый трюк с дефолтом, то все его кредиторы, от генуэзского Банка святого Георгия до немецких банкирских семей Фуггеров и Вельзеров, сомкнули ряды и заявили, что он не получит новых займов до тех пор, пока не выполнит свои обязательства по старым[490].
Таким образом, капитал — это не просто деньги. Это даже не просто богатство, которое можно обратить в деньги, и не банальное использование политической силы для того, чтобы пустить свои деньги в оборот и заработать еще больше денег. Кортес попытался сделать вот что: в классическом для Осевого времени стиле он попытался использовать свои завоевания для получения добычи и рабов, которые стали бы работать на рудниках, благодаря чему он смог бы расплатиться наличными с солдатами и поставщиками и отправиться на дальнейшие завоевания. Это был проверенный временем метод. Но в случае всех остальных конкистадоров он обернулся колоссальным провалом.
В этом и заключалось отличие. В Осевое время деньги были средством для создания империй. Правителям могло быть выгодно стимулировать развитие рынков, на которых каждый относился к деньгам как к самоцели; нередко правители рассматривали весь аппарат управления как предприятие, нацеленное на получение прибыли; однако деньги всегда оставались политическим инструментом. Именно поэтому, когда империи развалились и армии были демобилизованы, весь аппарат просто исчез. При новом капиталистическом порядке логика денег стала автономной; вокруг нее постепенно выстроилась политическая и военная власть. Такая финансовая логика никогда не смогла бы существовать без опоры на государства и армии. Как мы видели в случае средневекового ислама, в условиях действительно свободного рынка, когда государство никак не регулирует рынок и даже не принуждает к выполнению торговых контрактов, конкурентные рынки в чистом виде не получают развития, а процентные ссуды просто невозможно собрать. На самом деле лишь исламский запрет ростовщичества дал мусульманским купцам возможность создать экономическую систему, которая так далеко отстояла от государства.
Именно об этом писал Мартин Лютер в 1524 году, как раз когда у Кортеса возникли первые проблемы с кредиторами. Здорово, конечно, говорил Лютер, представлять, что все мы можем жить как истинные христиане, в соответствии с евангельскими заповедями. Но на самом деле мало кто действительно способен так поступать:
Христиан в этом мире мало; поэтому миру нужно строгое, суровое светское правительство, которое будет заставлять и принуждать нечестивцев не красть и возвращать то, что они заняли, пусть даже христианин не должен этого просить и даже надеяться получить то, что одолжил. Это необходимо для того, чтобы мир не превратился в пустыню, чтобы не нарушался мир, а торговля и общество не были полностью уничтожены; все это произошло бы, если бы мы управляли миром в соответствии с Евангелием и не принуждали нечестивцев законами и применением силы делать то, что справедливо… Не стоит думать, что миром можно управлять без кровопролития; меч правителя должен быть красным от крови, потому что мир будет и должен быть злом, а меч — это хлыст и месть Господа{355}.
«Не красть и возвращать то, что они заняли» — впечатляющее сопоставление, если учесть, что, согласно теории схоластов, одалживание денег под процент само по себе считалось воровством.
А здесь Лютер имел в виду именно процентные ссуды. История того, как он пришел к этому умозаключению, показательна. Лютер начал свою реформаторскую деятельность в 1520 году с пламенных речей против ростовщичества; одно из главных его возражений против продажи церковных индульгенций состояло в том, что они представляли собой вид духовного ростовщичества. Такие идеи принесли ему огромную народную поддержку в городах и деревнях. Однако скоро он понял, что выпустил из бутылки джинна, который грозил перевернуть весь мир вверх дном. Появились более радикальные реформаторы, утверждавшие, что у бедных нет нравственного обязательства выплачивать проценты по ростовщическим ссудам, и предлагавшие восстановить ветхозаветные обычаи вроде субботнего года. За ними последовали откровенно революционные проповедники, которые снова стали оспаривать легитимность аристократических привилегий и частной собственности. В 1525 году, через год после проповеди Лютера, в Германии полыхало массовое восстание крестьян, шахтеров и городской бедноты: в большинстве случаев повстанцы называли себя простыми христианами, стремившимися восстановить истинный коммунизм Евангелий. Более сотни тысяч из них было перебито. Уже в 1524 году Лютер осознал, что ситуация выходит из-под контроля и что ему придется выбирать одну из сторон; в этом тексте он свой выбор сделал. Ветхозаветные законы вроде субботнего года, утверждал он, уже недействительны; теперь, хотя ростовщичество греховно, законно брать 4–5 % с ссуд при определенных обстоятельствах; и, несмотря на то что взимание процента греховно, ни при каких обстоятельствах не может быть правомерным утверждение, что по этой самой причине заемщики вольны нарушать закон[491].
Цвингли, протестантский реформатор из Швейцарии, был еще более откровенен. Господь, утверждал он, дал нам Божественный закон: любить ближнего своего, как самого себя. Если бы мы действительно придерживались этого закона, люди свободно бы делились всем друг с другом, а частная собственность не существовала бы. Однако за исключением Христа ни один человек не мог жить в соответствии с этим чисто коммунистическими идеалом. Поэтому Господь дал нам также второй, низший, человеческий, закон, к исполнению которого должны обязывать гражданские власти. Хотя этот низший закон не заставляет нас действовать так, как нам следовало бы («магистрат никого не может принудить отдать взаймы все, что ему принадлежит, без вознаграждения или прибыли»), он по крайней мере может нас заставить следовать завету апостола Павла, который сказал:«… отдавайте всякому должное»{356}.
Вскоре после этого Кальвин полностью отменил запрет на ростовщичество, а к 1650 году почти все протестантские течения были согласны с его мнением о том, что разумный процент (обычно 5 %) не был греховным, при условии что заимодавцы ведут себя честно, не превращают кредитование в свое единственное занятие и не эксплуатируют бедняков[492]. (Католицизм шел к этому медленнее, но в конечном счете и он молчаливо с этим согласился.)
Если взглянуть на оправдания, которые для этого изыскивались, то в глаза бросаются две вещи. Во-первых, протестантские мыслители продолжали обращаться к старому средневековому доводу об “interesse”, заключавшемуся в том, что процент на самом деле является вознаграждением за деньги, которые заимодавец заработал бы, если бы вложил их в более выгодное предприятие. Изначально эта логика применялась только к торговым ссудам, но теперь ее распространили на все займы. Рост денег теперь уже считался не противоестественным, а совершенно закономерным. Все деньги рассматривались как капитал[493]. Во-вторых, от допущения о том, что ростовщичеством можно заниматься с врагами, а значит, вся торговля сходна с войной, они полностью так и не отказались. Кальвин, например, отрицал, что Второзаконие имело в виду только амаликитян; по его мнению, это означало, что ростовщичество было допустимо при ведении дел с сирийцами или египтянами и вообще со всеми народами, с которыми евреи торговали[494]. Результатом этого стало негласное предположение, что с любым человеком, даже с соседом, можно обращаться как с чужаком{357}. Достаточно посмотреть на то, как европейские купцы — искатели приключений той поры обращались с чужеземцами в Азии, Африке и обеих Америках, чтобы понять, что это означало на практике.
Впрочем, так далеко за примерами можно и не ходить. Обратимся к истории другого хорошо известного должника той эпохи — Казимира, маркграфа Бранденбург-Ансбаха (1481–1527), из знаменитой династии Гогенцоллернов.
Казимир был сыном Фридриха Старшего, маркграфа Бранденбурга, который прославился как один из «безумных князей» немецкого Возрождения. Его безумие источники оценивают по-разному. Один хронист тех времен писал, что «у него в голове что-то помутилось от постоянного участия в скачках и турнирах». Большинство соглашалось с тем, что он был подвержен приступам необъяснимой ярости и имел обыкновение устраивать экстравагантные празднества, которые, как говорили, часто завершались дикими вакханалиями{358}.
Однако все сходились во мнении, что с деньгами он обращался из рук вон плохо. В начале 1515 года Фридрих, столкнувшись с серьезными финансовыми трудностями (говорят, он задолжал двести тысяч гульденов), предупредил своих кредиторов, по большей части дворян, что скоро ему придется временно приостановить выплату процентов по своим долгам. Это вызвало кризис доверия, и спустя всего несколько недель его сын Казимир устроил дворцовый переворот: ранним утром 26 февраля 1515 года, пока его отец праздновал Масленицу, он отправился к замку Плассенбург, захватил его и заставил отца подписать бумаги об отречении по причине умственного недуга. Фридрих провел остаток своих дней в заточении в Плассенбурге, где ему было запрещено принимать посетителей и вести переписку. Когда его охранники попросили у нового маркграфа пару гульденов, чтобы его отец мог коротать время за игрой, Казимир устроил целую сцену, заявив (это, конечно, звучало смешно), что его отец оставил дела в таком ужасающем состоянии, что он не может пойти на такой шаг{359}.[495]
Казимир покорно передал права управления и другие важные должности кредиторам своего отца. Он попытался навести порядок в делах, однако это оказалось на удивление сложной задачей. Горячая поддержка, которую он оказал реформам Лютера в 1521 году, была скорее обусловлена перспективой прибрать к рукам церковные земли и монастырскую собственность, чем религиозным пылом. Однако поначалу вопрос об отчуждении церковного имущества оставался спорным, да и сам Казимир усугубил свое положение собственными игорными долгами, которые, по оценкам, составили около пятидесяти тысяч гульденов{360}.[496]
Передача гражданского управления в руки кредиторов привела к предсказуемым последствиям, а именно к увеличению поборов с его подданных, многие из которых сами безнадежно увязли в долгах. Неудивительно, что владения Казимира в долине реки Таубер во Франконии стали одним из эпицентров восстания 1525 года. Вооруженные крестьяне стали сколачивать банды, провозглашая, что они не будут подчиняться ни одному закону, который не согласуется со «священным словом Господа». Поначалу дворяне, изолированные в своих замках, оказывали слабое сопротивление. Вожаки повстанцев, многие из которых были местными лавочниками, мясниками и другими «видными» людьми из окрестных городов, начали с того, что организовали масштабные кампании по разрушению укреплений замков, а владевшим ими рыцарям предоставили гарантии безопасности, при условии что те соглашались сотрудничать, отказывались от феодальных привилегий и приносили клятву соблюдать «Двенадцать статей» восставших. Многие подчинились. Но в первую очередь ненависть повстанцев была направлена против соборов и монастырей — десятки из них были разграблены и разрушены.
Казимир решил перестраховаться. Пока он набирал войско из двух тысяч опытных солдат, он выжидал удобного момента и не препятствовал повстанцам, грабившим близлежащие монастыри; на самом деле он так доброжелательно вел переговоры с различными повстанческими отрядами, что многие поверили, будто он готовится присоединиться к ним как «христианский брат»[497]. Однако в мае, после того как рыцари Швабского союза разгромили повстанцев из Христианского объединения на юге, Казимир вступил в дело: его силы рассеяли плохо обученные отряды восставших и двинулись на его территории как завоевательная армия, сжигая и грабя деревни и города, убивая женщин и детей. В каждом городе он образовывал карательные трибуналы и конфисковал всю захваченную собственность, в то время как его солдаты грабили сокровища в местных соборах — это представлялось как экстренные займы для оплаты войск.
Примечательно, что из всех немецких князей Казимир дольше всех не решался вмешиваться, а когда вступил в дело, оказался самым мстительным феодалом. Его силы прославились не только казнями повстанцев, но и систематическим отрубанием пальцев обвиненным в пособничестве восстанию, а его палач вел зловещий учет отсеченных частей тела, для того чтобы позже предъявить маркграфу счет, — своего рода кровавая инверсия бухгалтерских книг, которые создали ему в жизни столько проблем. Однажды, находясь в городе Китцингене, Казимир приказал выколоть глаза пятидесяти восьми бюргерам, которые, по его словам, «отказались смотреть на него как на своего сеньора». После этого он получил следующий счет{361}:[498]
80 обезглавленных
69 выколотых глаз и отрубленных пальцев — 1141/2 флорина
из этого вычитаются
деньги, полученные от Ротенбургеров — 10 флоринов
деньги, полученные от Людвига фон Гуттена — 2 флорина
Остаток
Плюс 2 месячные платы по 8 флоринов за месяц — 16 флоринов
Итого — 1181/2 флорина
[Подпись] Августин, палач, которого жители Китцингена называют «Мастер увечий».
Впоследствии эти репрессии побудили Георга, позже получившего прозвище «благочестивый», написать письмо своему брату Казимиру, в котором он спрашивал, собирается ли Казимир заняться торговлей, поскольку, как мягко напоминал ему Георг, нельзя оставаться феодальным властителем, если все крестьяне погибли{362}.[499]
На фоне таких событий вряд ли стоит удивляться тому, что люди вроде Томаса Гоббса стали считать, что базовой чертой общества является война всех против всех, от которой нас может спасти только абсолютная власть монарха. В то же время поведение Казимира, в котором беспринципные, хладнокровные расчеты сочетались со вспышками почти необъяснимой мстительной жестокости, отражает — как и поведение разгневанных пехотинцев Кортеса, которым дали волю в ацтекских провинциях, — ключевые особенности психологии долга. Или если точнее, особенности психологии должника, который считает, что он ничем не заслуживает положения, в котором оказался: он вынужден превращать в деньги все, что ему попадается под руку, и это вызывает у него гнев и возмущение.
Часть II
Мир кредита и мир процента
Из всего того, что существует лишь в головах у людей, ничто так не изумляет и восхищает, как Кредит; его нельзя навязать; он полагается на мнение; он зависит от наших надежд и страхов; часто он появляется нежданно и столь же часто утекает без причины; потеряв его однажды, его трудно полностью восстановить.
Чарльз Давенант, 1696
Тот, кто утратил свой кредит, мертв для мира.
Английская и немецкая пословица
Крестьянские представления о коммунистическом братстве были взяты не с потолка, а основывались на реальном опыте повседневной жизни: на пользовании общинными полями и лесами, на повседневном сотрудничестве и солидарности соседей. Именно из такого обыденного опыта повседневного коммунизма всегда и создаются великие мифы{363}. Разумеется, в сельских общинах тоже были ссоры и перебранки — такое случается всегда; но поскольку они являются общинами, то в основе их обязательно лежит взаимопомощь. Кстати, то же самое можно сказать об аристократах, которые могли бесконечно сражаться за любовь, землю, честь и религию, но тем не менее отлично сотрудничали друг с другом, когда им это было действительно нужно (прежде всего когда их положение оказывалось под угрозой); подобно купцам и банкирам, они могли сколько угодно соперничать друг с другом, но смыкали ряды, когда это было необходимо. Именно это я называю «коммунизмом богатых», который является исторической мощной силой[500].
То же самое, как мы неоднократно видели, применимо к кредиту. Всегда есть два разных мерила по отношению к друзьям или соседям. Неумолимая природа процентного долга и попеременно дикое и расчетливое поведение тех, кто ему подчинен, характерны прежде всего в делах с иностранцами: вряд ли Казимир испытывал большее родство со своими крестьянами, чем Кортес — с ацтеками (скорее всего, намного меньшее, поскольку ацтекские воины хотя бы были аристократами). В мелких городках и сельских хуторах, где до государства было далеко, средневековые нормы жизни оставались нетронутыми, а «кредит» был все тем же вопросом чести и репутации, что и прежде. Суть великой нерассказанной истории нашей эпохи заключается в том, как эти древние кредитные системы были в конечном счете разрушены.
Недавние исторические исследования, особенно те, что провел Крейг Малдрю, изучивший тысячи описей и судебных дел в Англии XVI и XVII веков, заставили нас пересмотреть почти все наши старые допущения о том, какой была повседневная экономическая жизнь в ту эпоху. Разумеется, очень небольшая доля американского золота и серебра, попадавшего в Европу, оказывалась в карманах обычных крестьян или торговцев текстилем и галантереей{364}.[501] Львиная доля оседала в сундуках аристократов либо крупных лондонских купцов или же в королевской казне[502]. Мелкие деньги почти отсутствовали. Как я уже отмечал, в более бедных районах средних и крупных городов лавочники могли выпускать собственные свинцовые, кожаные или деревянные денежные знаки; в XVI столетии это стало повальным увлечением: даже ремесленники и бедные вдовы изготавливали собственные деньги, для того чтобы свести концы с концами{365}. В других местах клиенты местного мясника, пекаря или башмачника просто просили записать купленные вещи на свой счет. То же самое происходило на еженедельных рынках или когда соседи продавали молоко, сыр и свечной воск. В обычной деревне единственными людьми, расплачивавшимися наличными, были путешественники, которых считали нищими бездельниками, настолько опустившимися, что никто не был готов предоставить им кредит. Однако поскольку каждый был вовлечен в продажу чего-нибудь, то любой человек был одновременно кредитором и должником; доход большинства семей состоял из обещаний, данных другими семьями; все знали и вели учет того, что их соседи были должны друг другу, и каждые полгода или год устраивался всеобщий «подсчет», круговое списание долгов друг перед другом и только остававшуюся после этого разницу уплачивали монетами или товарами[503].
Наши допущения это опровергает, потому что мы привыкли обвинять капитализм в чем-то, что туманно называется рынком: мол, он разрушил прежние системы взаимопомощи и солидарности и создал мир холодного расчета, где все имеет свою цену. На самом деле жители английских деревень, судя по всему, не видели между ними противоречия. С одной стороны, они твердо верили в общинное использование полей, ручьев и лесов и в необходимость помогать соседям, оказавшимся в беде. С другой стороны, рынки считались более мягкой версией того же принципа, поскольку были полностью основаны на доверии. Подобно женщинам тив, дарившим батат и охру, соседи полагали, что должны постоянно находиться в небольшом долгу друг перед другом. В то же время большинство легко мирилось с идеей купли-продажи и даже с колебанием рыночных цен, при условии что они не угрожали существованию честных семейств[504]. Даже когда в 1545 году процентные ссуды были узаконены, это не вызвало особого раздражения, поскольку вписывалось в те же более широкие нравственные рамки: кредитование считалось достойным занятием, например для вдов, не имевших иного источника дохода, или рассматривалось как способ принять участие вместе с соседями в каком-нибудь небольшом доходном торговом предприятии. Уильям Стаут, купец-квакер из Ланкашира, восторженно отзывается о торговце Генри Коварде, в лавке которого он учился ремеслу:
Мой хозяин вел бойкую торговлю бакалеей, скобяными изделиями и многими другими товарами и пользовался большим уважением и доверием не только среди людей его вероисповедания, но и среди людей любого вероисповедания и положения… Его кредит был настолько велик, что всякий, кто располагал деньгами, давал ему их либо под процент, либо на дело{366}.
В таком мире доверие — это все. Большая часть денег в прямом смысле были доверием, поскольку кредитные соглашения в основном представляли собой сделки, скреплявшиеся рукопожатием. Употребляя слово «кредит», люди имели в виду в первую очередь репутацию честного человека, а когда речь заходила о предоставлении займа, то честь, добродетель и респектабельность мужчины или женщины, равно как и их щедрость, благопристойность и благожелательная манера общения, имели не меньшее значение, чем сведения о чистом доходе[505]. Как следствие, финансовые категории стали неотличимы от нравственных. Можно было отзываться о других людях как о «солидной особе», об «очень достойной женщине» или о «никчемном человеке» или говорить, что чьи-то слова «заслуживают доверия», когда им верили («доверие» (“credit”)[506] происходит от того же корня, что и «вероисповедание» (“creed”) и «достоверность» (“credibility”)), или что им можно «предоставить кредит», когда вы верили им на слово, что они вернут то, что одолжили.
Эту ситуацию не стоит идеализировать. Речь здесь идет о патриархальном мире: репутация целомудренной женщины, которой пользовалась чья-то жена или дочь, была такой же составляющей «кредита» мужчины, как и его собственная репутация доброго или благочестивого человека. Более того, почти все мужчины и женщины младше тридцати прислуживали в чьем-нибудь доме, работая батраками, доярками или подмастерьями, а значит, были людьми совершенно «никчемными»{367}. Наконец, те, кто утрачивал доверие в глазах общины, становились париями и пополняли ряды преступного или полупреступного мира безродных чернорабочих, попрошаек, проституток, карманников, лоточников, разносчиков, гадателей, менестрелей и других «мужчин без хозяина» или «женщин с дурной репутацией»{368}.
Наличные деньги использовались в основном в отношениях с чужаками или при уплате рент, десятин и налогов землевладельцам, бейлифам, священникам и другим вышестоящим лицам. Мелкие дворяне, владевшие землей, и состоятельные купцы, которые избегали сделок, заключавшихся путем рукопожатия, часто использовали наличность между собой, особенно при оплате переводных векселей, обращавшихся на лондонских рынках{369}. Золото и серебро использовалось прежде всего правительством для покупки оружия и выплаты жалованья солдатам, а также в преступной среде. Это означало, что монеты, как правило, имели хождение среди магистратов, констеблей и мировых судей, т. е. людей, которые управляли правовой системой, и тех элементов общества, которых они считали своим долгом контролировать.
С течением времени это привело ко все увеличивавшейся нравственной пропасти. Для большинства из тех, кто стремился не связываться с правовой системой, равно как и не желал иметь ничего общего с солдатами и преступниками, долг оставался основой социального общения. Но те, кто трудился в правительственных учреждения и в крупных торговых домах, постепенно стали смотреть на вещи совсем по-иному: для них обмен наличностью был нормой, а вот долг приобретал все более преступный оттенок.
Обе точки зрения превратились в негласные теории, объясняющие природу общества. Для большинства жителей английских деревень настоящим средоточием социальной и нравственной жизни была не церковь, а местная пивная, а общинность выражалась прежде всего в народных празднествах вроде Рождества или Майского дня со всеми их атрибутами: совместными удовольствиями, общностью взглядов и физическим воплощением того, что называлось добрососедством. Основой общества считались в первую очередь любовь и приязнь среди друзей и родственников, находившие выражение во всех формах повседневного коммунизма (помощь соседям в повседневных делах, обеспечение пожилых вдов молоком или сыром), которые из этого проистекали. Рынки не противоречили этой этике взаимопомощи, а, напротив, были ее продолжением — по той же причине, на которую указывал ат-Туси: рынки действовали исключительно на основе доверия и кредита{370}.
В Англии не было великих теоретиков вроде ат-Туси, но те же самые утверждения можно обнаружить в трудах большинства ученых-схоластов, например в трактате «О государстве», получившем широкое распространение в Англии после 1605 года, когда он был переведен на английский. «Приязнь и дружба, — писал Боден, — суть основания любого человеческого и гражданского общества», они представляют собой ту «подлинную, естественную справедливость», на которой должна непременно выстраиваться вся правовая структура контрактов, судов и даже управления{371}.[507] Подобным же образом мыслители, размышлявшие об истоках денег, писали о «доверии, обмене и торговле»{372}. Считалось само собой разумеющимся, что человеческие отношения имеют первостепенное значение.
В результате все нравственные отношения стали считаться долгами. «Прости нам наши долги» — именно в эту эпоху, в самом конце Средневековья, такой перевод «Отче наш» стал столь популярным. Грехи — это долги перед Господом: они неизбежны, но с ними можно справиться, поскольку в конце времен наши нравственные долги и займы взаимно уничтожатся, когда Господь сведет счета. Понятие долга вплелось даже в интимные отношения между людьми. Как и тив, жители средневековых деревень иногда говорили о «долгах плоти», но это понятие имело совершенно иной смысл: оно подразумевало право обоих партнеров в браке требовать друг от друга секса, которым в принципе можно было заниматься всякий раз, когда он или она этого хотели. Так фраза «уплачивать собственные долги» получила новые оттенки, так же как и римская фраза «выполнять свой долг» за много столетий до того. Джеффри Чосер даже сочинил каламбур из слов «бирка» (“tally”, или “taille” по-французски) и «влагалище» (“tail”) в «Рассказе шкипера», истории о женщине, которая оплачивает долги мужа сексуальными услугами: «Я ж долг супружеский плачу исправно. // А задолжаю — так поставьте в счет, // И заплачу сторицей в свой черед»{373}.[508]
Даже лондонские купцы иногда обращались к языку социального общения, утверждая, что вся торговля в конечном счете основана на кредите, а кредит — это всего лишь продолжение взаимопомощи. Например, Чарльз Давенант в 1696 году писал, что даже если бы кредитная система полностью лишилась доверия, то долго бы это не продлилось, поскольку по зрелом размышлении люди осознали бы, что кредит — это просто продолжение человеческого общества:
Они обнаружат, что ни одна торговая нация не могла существовать и вести дела на основе реальных запасов [т. е. только на основе монет и товаров]; что доверие друг к другу столько же необходимо для создания и поддержания связей между людьми, как и подчинение, любовь, дружба и словесное общение. А когда опыт показывает человеку, насколько он слаб, если действует в одиночку, то он стремится получить помощь от других и обращается за поддержкой к соседям, что, разумеется, постепенно восстанавливает течение кредита{374}.
Давенант был необычным купцом (его отец был поэтом). Более типичными представителями его класса были люди вроде Томаса Гоббса, чья книга «Левиафан», изданная в 1651 году, в значительной степени являлась атакой на саму мысль о том, что общество основывается на изначальных связях общинной солидарности.
Можно сказать, что Гоббс первым начал наступление с новых нравственных позиций и наступление это было сокрушительным. Когда вышел «Левиафан», неясно, что больше шокировало его читателей: безжалостный материализм (Гоббс утверждал, что люди представляют собой машины, чьи действия следуют одному-единственному принципу: они стремятся к удовольствию и избегают страдания) или же вытекающий из него цинизм (если любовь, приязнь и доверие являются такими мощными силами, спрашивал Гоббс, то почему же мы прячем в сундуках самые ценные предметы даже от членов своей семьи?). Однако ключевой аргумент Гоббса заключался в том, что люди, движимые личным интересом, не могут самостоятельно обращаться друг с другом справедливо, а значит, общество возникает лишь тогда, когда они понимают, что их собственный долгосрочный интерес состоит в том, чтобы отказаться от части своих свобод и принять абсолютную власть короля; эта мысль мало чем отличалась от доводов, которые богословы вроде Мартина Лютера выдвигали столетием раньше. Гоббс просто заменил ссылки на Библию научным языком[509].
Я хочу обратить особое внимание на понятие «личный интерес», лежащее в основе этого[510]. Оно дает ключ к пониманию новой философии. Впервые появившись в английском языке во времена Гоббса, это слово напрямую восходило к “interesse”, римскому правовому термину, обозначавшему процентные платежи. Когда оно вошло в речь, большинство английских авторов считали мысль о том, что всю человеческую жизнь можно представить как преследование личного интереса, циничной и чужеродной — привнесенная Макиавелли, она плохо состыковывалась с английскими нравами. В XVIII столетии образованные люди уже считали ее чем-то само собой разумеющимся.
Но почему именно «интерес»? Зачем разрабатывать общую теорию мотивов, движущих человеком, на основе слова, которое изначально означало «штраф за несвоевременную уплату ссуды»?
Отчасти очарование этого термина объяснялось тем, что он был заимствован из бухгалтерского дела. Это был математический термин и потому казался объективным и даже научным. Утверждение о том, что все мы на самом деле преследуем свой личный интерес, дает возможность отсечь весь сумбурный набор страстей и чувств, которые предопределяют наше повседневное существование, и объяснить мотивацию большей части человеческих поступков (а в их основе лежат не только любовь и приязнь, но еще и зависть, злость, привязанность, жалость, вожделение, замешательство, глупость, возмущение и гордость); оно также позволяет прийти к выводу, что несмотря на все это большинство действительно важных решений основаны на рациональном расчете материальной выгоды, а значит, вполне предсказуемы. «Подобно тому как физический мир управляется законами движения, — писал Гельвеций в отрывке, посвященном Шань Яну, — мир нравственности управляется законами интереса»{375}.[511] И разумеется, на этом допущении можно было строить все замысловатые уравнения экономической теории[512].
Проблема в том, что у этого понятия вовсе не рациональное происхождение. У него богословские корни, и богословские допущения, на которых оно зиждется, никуда не исчезли. «Личный интерес» впервые появляется в трудах итальянского историка Франческо Гвиччардини (который дружил с Макиавелли) около 1510 года как эвфемизм августиновского понятия «самолюбие». По Августину, «Божья любовь» ведет нас к благожелательности по отношению к окружающим; самолюбие, напротив, определяется тем, что со времен грехопадения нас преследует бесконечное, ненасытное стремление к удовлетворению своих желаний — оно настолько сильно, что, окажись мы предоставлены сами себе, мы бы непременно стали соперничать и даже воевать друг с другом. Замена «любви» на «интерес» казалась само собой разумеющейся, поскольку авторы вроде Гвиччардини пытались уйти от мысли о первостепенности любви. Однако эта замена оставила нетронутым допущение о ненасытных желаниях, скрыв его безличным термином, — ведь что такое «интерес», если не желание, чтобы деньги никогда не переставали расти? То же самое произошло, когда его стали применять по отношению к вложениям: «у меня в этом деле свой интерес — 12 %» — это деньги, размещенные так, чтобы постоянно приносить выгоду[513]. Таким образом, сама мысль о том, что людьми движет прежде всего «личный интерес», уходит корнями в христианское утверждение о том, что все мы неисправимые грешники; если мы будем предоставлены сами себе, то мы не будем просто стремиться к определенному уровню комфорта и счастья и наслаждаться, достигнув его; мы никогда не будем обменивать стружку на наличные, как Синдбад, — оставим в стороне вопрос, зачем нам вообще покупать стружку. И как говорил еще Августин, безграничные желания в ограниченном мире ведут к бесконечной конкуренции, вследствие чего, как утверждал Гоббс, наш единственный шанс обеспечить социальный мир заключается в контрактных соглашениях и строгом принуждении со стороны государственного аппарата.
История истоков капитализма заключается не в постепенном разрушении традиционных общин безличной силой рынка. Скорее это история того, как кредитная экономика превратилась в экономику интереса, как нравственные сети постепенно преобразовывались под влиянием безличной — и зачастую мстительной — силы государства. Жители английских деревень во времена Елизаветы I или Стюартов не любили обращаться к системе правосудия даже в тех случаях, когда закон был на их стороне, — отчасти потому, что они исходили из принципа, что соседи должны сами решать дела между собой, но прежде всего потому, что закон был необычайно суровым. При Елизавете, например, наказанием за бродяжничество (безработицу) было пригвождение ушей к позорному столбу, когда человека ловили в первый раз, и смерть, если он попадался снова{376}.[514]
То же относится и к закону о долгах, поскольку зачастую долги могли рассматриваться как преступление, если кредитор оказывался достаточно мстительным. В Челси около 1660 года
Маргарет Шарплес был предъявлен иск за кражу ткани, «из которой она сшила юбку для личного пользования», из лавки Ричарда Беннетта. Она оправдывалась тем, что о продаже ткани она сговорилась со слугой Беннетта, «но, поскольку у нее в кошельке не оказалось достаточно денег, чтобы заплатить, она взяла ее, намереваясь заплатить, как только сможет; и что впоследствии она договорилась с г-ном Беннеттом о цене за нее». Беннетт подтвердил, что так и было: после того как они сошлись на цене в 22 шиллинга, Маргарет «принесла корзину с товарами в качестве залога и четыре шиллинга девять пенсов деньгами». Однако «вскоре он, поразмыслив, отказался соблюдать договоренность, вернул ей корзину и товары» и начал против нее дело{377}.
В результате Маргарет Шарплес была повешена.
Разумеется, мало какой лавочник хотел увидеть, как его клиент, пусть даже самый неприятный, болтается на виселице. Поэтому приличные люди всячески избегали судебных разбирательств. Одним из самых интересных открытий, сделанных Крейгом Малдрю в ходе его исследований, было то, что с течением времени это утверждение все меньше соответствовало действительности.
Даже в позднем Средневековье в случае действительно крупных займов кредиторы нередко обращались в местные суды — но это делалось для того, чтобы этот долг был публично зафиксирован (напомню, что в те времена большинство людей были неграмотными). Должники соглашались на судебное разбирательство, по-видимому, отчасти потому, что если по займу взимались проценты, то в случае неуплаты долга заимодавец был бы так же виновен перед законом, как и они. До вынесения решения доводилось менее 1 % таких дел{378}. Узаконивание процента начало менять эту ситуацию. В 1580-х годах, когда процентные ссуды получили распространение среди деревенских жителей, кредиторы стали настаивать на том, чтобы обязательства носили законный характер и чтобы под ними стояла подпись; это привело к такому взрывному росту обращений в суд, что во многих мелких городках почти каждое домохозяйство оказалось вовлеченным в долговую тяжбу того или иного рода. Впрочем, приговоры были вынесены лишь по небольшой доле этих дел: как правило, кредиторы лишь использовали угрозу наказания, чтобы решить вопрос с должниками во внесудебном порядке{379}. Как бы то ни было, вскоре страх долговой тюрьмы — или чего-то худшего — стал преследовать каждого, а социальное общение стало приобретать преступный оттенок. Даже г-н Ковард, добродушный лавочник, в конечном счете прогорел. Его хорошая репутация стала проблемой, особенно когда он почувствовал, что честь обязывает использовать ее для помощи тем, кому повезло меньше.
Он также торговал товарами с различными партнерами и связался со многими людьми, которые находились в трудных обстоятельствах и дела с которыми не могли принести ни выгоды, ни кредита; посещение им некоторых домов, обладавших дурной репутацией, вызывало тревогу у его жены. А она была женщиной очень ленивой и тайком брала у него деньги, из-за чего его положение усугубилось настолько, что он каждый день ждал ареста. Это, наряду со стыдом, который он испытывал из-за того, что растерял прежнюю репутацию, привело его в отчаяние и разбило ему сердце, поэтому он перестал выходить из дома и вскоре скончался от горя и стыда{380}.
Наверное, это не вызовет особого удивления, если ознакомиться с источниками той поры, рассказывающими о долговых тюрьмах, особенно о тех из них, что были предназначены для людей неаристократического происхождения. Г-н Ковард, должно быть, об этих тюрьмах прекрасно знал, поскольку условия содержания в самых известных из них, таких как Флит и Маршалси, шокировали публику всякий раз, когда о них заходила речь в парламенте и в народной прессе, падкой до историй о закованных в кандалы должниках, которые, «покрытые грязью и вшами, страдали и гибли от голода и тюремной лихорадки, не находя ни капли сострадания», в то время как в элитной части тех же тюрем повесы из высшего общества наслаждались комфортом и принимали у себя маникюрш и проституток[515].
Тем самым криминализация долга представляла собой криминализацию самой основы человеческого общества. Не будет лишним снова подчеркнуть, что в небольшой общине все, как правило, были и кредиторами, и заемщиками. Можно только предполагать, какие противоречия и соблазны появились в общинах, — а общины, несмотря на то, что они основаны на любви, а вернее, потому, что они основаны на любви, всегда полны ненависти, соперничества и страстей — когда стало ясно, что хорошо продуманные интриги, манипуляции и, возможно, толика стратегического мздоимства могли помочь отправить всех тех, кого вы ненавидите, в тюрьму или даже на виселицу. Что на самом деле имел Ричард Беннетт против Маргарет Шарплес? Мы никогда не узнаем подоплеки, но можно с уверенностью утверждать, что она была. Последствия для общинной солидарности должны были быть разрушительными. Неожиданная доступность насилия действительно грозила превратить то, что было основой социального общения, в войну всех против всех[516]. В таких условиях неудивительно, что к XVIII веку само понятие личного кредита стало пользоваться дурной славой, а заемщики и заимодавцы стали в равной степени вызывать подозрение[517]. Использование монет, по крайней мере теми, у кого был к ним доступ, стало считаться нравственным само по себе.
Понимание всего этого позволяет взглянуть на произведения европейских авторов, о которых шла речь в предыдущих главах, в совершенно ином свете. Возьмем, к примеру, панегирик долгу, произнесенный Панургом: выясняется, что вся соль здесь заключается не в предположении о том, что долг связывает общины (любой английский или французский крестьянин того времени просто согласился бы с тем, что так оно и есть) или даже что один лишь долг связывает общины; а в том, что эта речь вложена в уста состоятельного ученого, который на самом деле является отъявленным преступником, т. е. народная нравственность здесь используется в качестве зеркала, для того чтобы высмеять высшие классы общества, пытавшиеся ее опровергнуть. Или обратимся к Адаму Смиту:
Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах{381}.
Странность здесь состоит в том, что во времена Смита это не соответствовало действительности{382}. Большинство английских лавочников продолжали вести свои дела по большей части в кредит, а значит, клиенты постоянно взывали к их благожелательности. Смит вряд ли этого не знал. Скорее он рисовал утопическую картину. Он пытался представить мир, в котором все используют наличность, отчасти потому, что соглашался с мнением нарождавшегося тогда среднего класса о том, что мир был бы лучше, если бы все на самом деле так себя вели, избегая туманных и потенциально развращающих долгосрочных связей. Мы все просто должны платить деньги, говорить «пожалуйста» и «спасибо» и уходить из магазина. Более того, он использует этот утопический образ, чтобы обосновать более масштабный довод, который заключается в том, что даже если все дела велись бы так, как это делается в крупных торговых компаниях, т. е. исходя исключительно из личных интересов, то это не имело бы особого значения. Даже «естественный эгоизм и жадность» богачей с их «пустыми и ненасытными желаниями» все равно будет вести ко всеобщему благу благодаря логике невидимой руки{383}.
Иными словами, Смит просто по-своему представлял роль потребительского кредита в ту эпоху, подобно тому, как у него была своя версия происхождения денег[518]. Это позволяло ему не обращать внимания на роль как благожелательности, так и недоброжелательности в экономических делах, как на этику взаимопомощи, лежащую в основе свободного рынка (т. е. рынка, который не был создан и не поддерживается государством), так и на насилие и откровенную мстительность, внесших свой вклад в создание конкурентных, построенных на принципе личного интереса рынков, которые он использовал в качестве модели.
Ницше, в свою очередь, исходил из смитовской предпосылки о том, что жизнь — это обмен, но вместе с тем показывал все то (пытки, убийства, нанесение увечий), о чем Смит предпочитал не говорить. Теперь, когда мы немного коснулись социального контекста, трудно читать приводимые Ницше путаные описания древних охотников и пастухов, подсчитывавших долги и требовавших друг у друга глаза, не вспоминая о палаче Казимира, который действительно предъявил своему хозяину счет за выколотые глаза и отрубленные пальцы. На самом деле он описывает то, что потребовалось для создания мира, в котором сын благоустроенного священника из среднего класса, такой как он, мог просто считать, что вся человеческая жизнь основана на расчетливом, эгоистичном обмене.
Часть III
Безличные кредитные деньги
Одна из причин, по которой историкам потребовалось столько времени, чтобы заметить сложные народные кредитные системы в Англии времен Тюдоров и Стюартов, состоит в том, что интеллектуалы той эпохи говорили о деньгах в абстрактном ключе и редко их упоминали. Образованные классы скоро стали понимать под деньгами золото и серебро. Большинство писало как о чем-то очевидном о том, что исторически все народы всегда употребляли золото и серебро в качестве денег и, судя по всему, всегда будут.
Это не только шло вразрез с мнением Аристотеля, но и прямо противоречило открытиям европейских путешественников той поры, которые обнаруживали, что повсюду в качестве денег использовались раковины, бусы, перья, соль и бесчисленное количество других вещей[519]. Однако все это лишь добавило упрямства ученым-экономистам. Некоторые обращались к алхимии, чтобы доказать, что у денежного статуса золота и серебра имелась естественная основа: золото (символизировавшее солнце) и серебро (символизировавшее луну) были совершенными, вечными формами металла, к которым стремились все менее благородные металлы[520]. Большинство, однако, не видело в таком объяснении необходимости; ценность драгоценных металлов была и так очевидна. В результате, когда королевские советники или лондонские памфлетисты обсуждали экономические проблемы, они всегда поднимали одни и те же вопросы: как нам не допустить утечки драгоценных металлов из страны? Что делать с пагубным дефицитом монет? Для большинства вопросы вроде «Как нам поддержать доверие в местных кредитных системах?» просто не возникали.
В Великобритании это приобретало еще более утрированные формы, чем на континенте, где правительства по-прежнему могли «усиливать» и «ослаблять» деньги. После катастрофической попытки девальвации при Тюдорах в Великобритании от подобных мер отказались. Впоследствии порча монеты стала нравственным вопросом. Правительство выступало против подмешивания неблагородных металлов к чистой вечной сути монеты. Поэтому в Англии почти повсеместной практикой стало распиливание монет, которое можно рассматривать как своего рода народную версию девальвации, поскольку она подразумевала тайное отпиливание серебра с краев монет и их последующее сдавливание, с тем чтобы казалось, будто их размер не изменился.
Более того, новые формы виртуальных денег, которые стали появляться в новую эпоху, корнями уходили во все те же допущения. Это имеет ключевое значение, поскольку позволяет объяснить то, что иначе казалось бы странным противоречием: как так получилось, что в эпоху беспощадного материализма, когда от представления о том, что деньги — это социальная условность, окончательно отказались, также получили распространение бумажные деньги и целый ряд новых кредитных инструментов и абстрактных финансовых форм, которые стали характерными чертами современного капитализма? Конечно, большинство из них — чеки, обязательства, акции, аннуитеты — были родом из метафизического мира Средневековья. Однако в новую эпоху они расцвели пышным цветом.
Впрочем, если взглянуть на то, что происходило на самом деле, быстро становится ясно, что все эти новые формы денег ни в коей мере не противоречили утверждению о том, что деньги основывались на «объективной» ценности золота и серебра: на самом деле они лишь подкрепляли его. По-видимому, произошло вот что: когда кредит перестал быть связанным с реальными отношениями доверия между индивидами (будь то купцы или деревенские жители), то стало очевидно, что деньги можно создавать, просто сказав, что вот это будет деньгами; однако когда это делается в безнравственном мире конкурентного рынка, то почти неизбежным следствием будут самые разные аферы и формы мошенничества, из-за чего блюстители системы периодически будут паниковать и бросаться искать новые способы обратно привязать стоимость различных видов бумажных денег к золоту и серебру.
Эту историю обычно выдают за «истоки современного банковского дела». Однако, с нашей точки зрения, она показывает лишь то, насколько тесно были связаны деньги, драгоценные металлы и эти новые кредитные инструменты. Нужно лишь обратить внимание на те пути, которые остались непроторенными. Например, не было объективных причин, по которым вексель не мог быть передан третьему лицу и начать переходить из рук в руки, превращаясь тем самым в бумажные деньги. В Китае бумажные деньги так и возникли. В средневековой Европе шаги в этом направлении периодически предпринимались, но по целому ряду причин ни к чему не привели{384}.[521] Банкиры также могут создавать деньги, выдавая кредиты в виде наличного счета на суммы, превышающие их запасы наличности. Это считается самой сутью современного банковского дела и способствует введению в обращение частных банкнот[522]. Некоторые шаги делались и в этом направлении, особенно в Италии, но это было делом рискованным, поскольку всегда была опасность того, что охваченные паникой вкладчики бросятся забирать свои деньги, а средневековые правительства грозили самыми страшными карами банкирам, не способным вернуть деньги в таких случаях: это подтверждает пример Франсеска Кастелло, которому отрубили голову перед его собственным банком в Барселоне в 1360 году{385}.[523]
Там, где банкиры контролировали средневековые правительства, более надежным и выгодным методом оказались манипуляции с финансами самого правительства. История современных финансовых институтов и настоящие истоки бумажных денег на самом деле восходят к выпуску городских облигаций — эту практику в XII веке ввело венецианское правительство, которое, столкнувшись с необходимостью быстро увеличить доходы для военных нужд, взыскало принудительный заем с горожан, плативших налоги; каждому из них был обещано 5 % годового дохода, а сами «облигации», или контракты, разрешалось продавать, благодаря чему возник рынок правительственного долга. Венецианцы довольно педантично относились к выплате процентов, но поскольку у обязательств не было точной даты погашения, то их рыночная цена колебалась в зависимости от политических и военных перипетий, которые переживал город, а с ней колебалась и оценка вероятности того, что они будут выплачены. Подобные приемы быстро распространились в других итальянских государствах, равно как и в купеческих анклавах в Северной Европе: Соединенные Провинции Нидерландов финансировали свою многолетнюю войну за независимость от Габсбургов (1568–1648) в значительной степени за счет ряда принудительных займов, хотя они также выпустили множество добровольных облигаций{386}.
Принуждение налогоплательщиков к займу, с одной стороны, просто представляет собой требование уплатить налоги раньше срока; но, когда венецианское государство впервые согласилось выплачивать проценты — ас юридической точки зрения это снова был “interesse”, штраф за просрочку выплаты, — оно чисто теоретически налагало на самого себя штраф за то, что не отдавало деньги сразу же. Очевидно, что это могло породить множество вопросов о юридической и нравственной стороне отношений между народом и правительством. В конечном счете торговые классы в таких купеческих республиках, выступившие пионерами в области новых форм финансирования, стали считать, что это правительство им должно, а не они ему. И не только торговые классы: к 1650 году большинство голландских домохозяйств владело хотя бы небольшой долей правительственного долга{387}. Однако настоящий парадокс возникает лишь тогда, когда этот долг начинает «монетизироваться», т. е. когда правительственные обещания заплатить по долгу получают хождение в качестве денег.
Хотя уже в XVI веке купцы использовали векселя для погашения долгов, настоящими кредитными деньгами новой эпохи были правительственные облигации — ренты, хурос, аннуитеты. Именно здесь нужно искать подлинные истоки «революции цен», которая пригвоздила к земле некогда независимых жителей городов и деревень и постепенно низвела их до положения наемных рабочих, вынужденных работать на тех, кто имел доступ к этим высшим формам кредита. Даже в Севилье, первом порту Старого Света, куда прибывали галеоны с сокровищами из Света Нового, драгоценные металлы мало использовались в повседневных сделках. Большая их часть напрямую отправлялась на склады генуэзских банкиров, базировавшихся в этом порту, и затем переправлялась далее на восток. Однако этот процесс положил начало сложным кредитным схемам, посредством которых стоимость драгоценных металлов одалживалась императору для финансирования военных операций в обмен на бумаги, дававшие право их владельцу получать процентные аннуитеты от правительства, — этими бумагами, в свою очередь, можно было торговать так же, как деньгами. При помощи таких средств банкиры могли практически до бесконечности увеличивать стоимость имевшегося у них золота и серебра. Уже в 1570-х годах мы обнаруживаем ярмарки в местах вроде Медины-дель-Кампо, недалеко от Севильи, которые стали «настоящими фабриками сертификатов» и на которых сделки осуществлялись исключительно при помощи бумаги{388}. Поскольку никогда не было полной уверенности в том, что испанское правительство действительно расплатится по своим долгам, равно как и в том, насколько регулярно оно будет это делать, векселя обычно обращались с дисконтом — особенно когда хурос получили хождение в остальной Европе, — что приводило к постоянной инфляции{389}.[524]
Лишь после создания Банка Англии в 1694 году стало возможным говорить о настоящих бумажных деньгах, поскольку его банкноты ни в коей мере не являлись облигациями. Они, как и все остальные бумажные деньги, были основаны на военных долгах короля. Важно подчеркнуть это еще раз. Поскольку деньги теперь были не долгом перед королем, а долгом короля, они полностью отличались от прежних денег. Во многих отношениях они стали зеркальным отражением более старых форм денег.
Читатель, наверное, помнит, что Банк Англии был создан, когда консорциум из сорока лондонских и эдинбургских купцов, по большей части уже являвшихся кредиторами короны, предложил королю Вильгельму III кредит в 1,2 миллиона фунтов для финансирования войны с Францией. При этом они также убедили его взамен позволить им создать корпорацию, которая обладала бы монополией на выпуск банкнот, на самом деле представлявших собой простые векселя на деньги, одолженные ими королю. Это был первый независимый национальный центральный банк, который также стал расчетной палатой для долгов между меньшими банками; векселя вскоре превратились в первую европейскую национальную бумажную валюту. Однако главные споры той эпохи, споры об истинной природе денег, касались не бумаги, а металла. 1690-е годы стали временем кризиса британской монетной системы. Стоимость серебра выросла настолько, что новые британские монеты (монетный двор незадолго до того придумал «гурт», характерный для современных монет, который защищал их от отпиливания) стоили меньше, чем содержавшееся в них серебро, что приводило к предсказуемым последствиям. Чистые серебряные монеты исчезли; в обращении остались только обкромсанные монеты, да и их становилось все меньше. Нужно было что-то делать. Началась война памфлетов, достигшая своего пика в 1695 году, через год после основания банка. Очерк Чарльза Давенанта, который я уже цитировал, был частью этой своеобразной памфлетной войны: он предлагал Великобритании перейти на чистую кредитную систему, основанную на общественном доверии, но к нему не прислушались. Казначейство предложило изъять монеты, переплавить их и изготовить новые, вес которых будет на 20–25 % меньше, благодаря чему их стоимость упадет ниже рыночной цены серебра. Многие из тех, кто поддерживал это предложение, придерживались явно харталистских воззрений и утверждали, что у серебра нет собственной ценности и что деньги — это всего лишь мера стоимости, установленная государством[525]. Тем не менее победу в споре одержал либеральный философ Джон Локк, который в те времена был советником Сэра Исаака Ньютона, тогдашнего смотрителя Монетного двора. По утверждению Локка, от того, что мелкую серебряную монету назовут шиллингом, она не станет больше стоить, точно так же как низкорослый человек не станет выше, если объявить, что отныне в футе пятнадцать дюймов. Золото и серебро имеют стоимость, которую признает любой человек на земле; правительственное клеймо лишь подтверждает вес и пробу монеты, и, добавлял он, дрожа от возмущения, если правительство будет тайком менять их стоимость ради собственной выгоды, то это будет таким же преступлением, как и отпиливание металла от монет:
Использование и назначение государственного клейма заключается лишь в защите и гарантии качества серебра, при помощи которого люди заключают сделки; посему отпиливание металла от монет и фальшивомонетчество наносит такой ущерб общественному доверию, что воровство в данном случае превращается в измену{390}.
А значит, утверждал он, единственным выходом в такой ситуации является изъятие и перечеканка денег по той же самой стоимости, что и прежде.
Это и было сделано. Результаты были катастрофическими. В последующие годы монеты практически исчезли из обращения; цены и зарплаты рухнули; начался голод и волнения. Только богатые избежали этих последствий, поскольку могли пользоваться преимуществами новых кредитных денег, обмениваясь долями королевского долга в форме банкнот. Стоимость последних поначалу несколько колебалась, но затем стабилизировалась, когда стало возможным обменивать их на драгоценные металлы. В остальном ситуация улучшилась только тогда, когда бумажные деньги и — позже — мелкие монеты получили более широкое хождение. Реформы проводились сверху вниз и очень медленно, но все-таки проводились, в результате чего постепенно сложился мир, в котором даже обычные повседневные сделки с мясниками и пекарями осуществлялись в вежливых, безличных категориях, при помощи мелких монет; это позволило представить всю повседневную жизнь в расчетливых терминах личного интереса.
Довольно легко понять, почему Локк занял такую позицию. Он был ученым-материалистом. Для него «доверие» к правительству, о котором шла речь в приведенной выше цитате, заключалось в вере граждан не в то, что правительство выполнит свои общения, а в то, что оно просто не будет им врать; что, подобно порядочному ученому, оно будет предоставлять им точную информацию и считать, что человеческое поведение исходит из естественных законов, которые, подобно законам физики, незадолго до того описанным Ньютоном, были выше законов, принимаемых обычным правительством. Главный вопрос заключается в том, почему британское правительство с ним согласилось и полностью приняло его точку зрения, несмотря на все вытекавшие из этого решения неурядицы. Вскоре после этого Великобритания перешла на золотой стандарт (в 1717 году), а Британская империя придерживалась его до конца своих дней, равно как и представления о том, что золото и серебро — это и есть деньги.
Материализм Локка действительно получил широкое признание — и даже стал девизом эпохи[526]. Однако зависимость от золота и серебра лишь подтвердила опасности, порождаемые новыми формами кредитных денег, которые стали очень быстро распространяться, особенно после того, как создавать деньги было дозволено и обычным банкам. Вскоре стало очевидным, что финансовая спекуляция, освобожденная от любых правовых или общественных ограничений, может приводить к последствиям, граничащим с безумием. Голландская республика, ставшая пионером в области развития фондовых рынков, уже пережила ее во время тюльпанной лихорадки в 1637 году, первого из спекулятивных пузырей, как их стали называть, в ходе которых фьючерсная цена стараниями инвесторов сначала взлетала к потолку, а затем обрушивалась. Целый ряд таких пузырей сформировался на лондонских рынках в 1690-х годах; почти всякий раз толчком к их возникновению становилось появление новой акционерной корпорации, создававшейся по образцу Ост-Индской компании, т. е. с целью организации какого-нибудь перспективного колониального предприятия. Знаменитый пузырь Компании Южных морей, который возник, когда новая компания, получившая монополию на торговлю с испанскими колониями, скупила значительную часть британского национального долга, что привело к короткому взлету цены на ее акции, а затем к их позорному обвалу в 1720 году, стал лишь кульминацией этого феномена. Год спустя последовал крах знаменитого Королевского банка — еще одного эксперимента по созданию центрального банка, проведенного Джоном Лоу во Франции в подражание Банку Англии; этот пузырь рос так быстро, что всего за несколько лет благодаря выпуску собственных бумажных денег поглотил все французские компании, торговавшие с колониями, и большую часть долга французской короны. В 1721 году банк обратился в ничто, а его создатель был вынужден скрываться всю оставшуюся жизнь. В обоих случаях за схлопыванием пузырей последовало принятие соответствующих законов — в Великобритании они запрещали создавать новые акционерные компании (за исключением тех, что занимались строительством дорог и каналов), а во Франции уничтожили бумажные деньги, которые целиком обеспечивались правительственным долгом.
Неудивительно, что ньютоновская экономика (если ее можно так назвать), т. е. допущение, что деньги нельзя просто создавать и даже экспериментировать с ними, получила всеобщее признание. У всего этого должно было быть прочное материальное основание, иначе вся система собьется. Экономистам предстояло провести несколько столетий в спорах о том, что же было этим основанием (было ли это золото или земля, человеческий труд, полезность или желанность товаров в целом?), но практически никто не возвращался к воззрениям, близким к аристотелевским.
Если взглянуть на это с другой точки зрения, то можно сказать, что с течением времени новой эпохе было все сложнее мириться с политической природой денег. В конечном счете политика — это искусство убеждения; политика — это то измерение общественной жизни, в котором вещи становятся реальностью, если достаточное количество людей в них верит. Проблема в том, что если хочешь играть в эту игру, то признавать это нельзя: возможно, если бы я смог убедить всех в этом мире, что я король Франции, то я действительно стал бы королем Франции; но это никогда бы не сработало, если бы я должен был признать, что других оснований у моего требования нет. В этом смысле политика очень похожа на магию: и вокруг политики, и вокруг магии почти везде создается своеобразный ореол надувательства. В те времена такие подозрения были широко распространены. В 1711 году эссеист и сатирик Джозеф Адди-сон написал небольшую фантазию на тему зависимости Банка Англии — и, как следствие, британской монетарной системы — от общественной веры в политическую стабильность трона. (Акт о престолонаследии 1701 года обеспечивал наследование короны, а губка была народным символом банкротства.) Во сне, писал он,
Я увидел королеву Государственного кредита, восседающую на своем троне в Торговом зале; над ее головой висит Великая Хартия, а перед ней — Акт о престолонаследии. Ее прикосновение все обращает в золото. За ее троном до самого потолка навалены мешки, полные монет. Справа от нее распахивается дверь, в зал влетает Претендент. В одной руке у него губка, в другой — шпага, которой он потрясает перед Актом о престолонаследии. Прекрасная королева падает, теряя сознание. Чары, при помощи которых она превратила все вокруг себя в сокровища, разрушены. Мешки с деньгами сдуваются, словно проколотые пузыри. Кучи золотых монет превращаются в лохмотья или в связки деревянных бирок{391}.
Если королю не верят, то деньги исчезают.
В эту эпоху короли, волшебники, рынки и алхимики смешались в народном воображении, и мы до сих пор говорим об «алхимии» рынка и «финансовых волшебниках». В «Фаусте» Гёте (1808) главный герой, алхимик и волшебник, отправляется с визитом к императору Священной Римской империи. Император тонет под грузом бесчисленных долгов, которые пошли на оплату экстравагантных придворных причуд. Фауст и его помощник Мефистофель убеждают его, что он может заплатить своим кредиторам, создав бумажные деньги. Это представлено так, будто речь идет о фокусе. «У тебя полно золота где-то под землей, — отмечает Фауст. — Просто выпусти векселя и пообещай кредиторам, что вернешь им его позже. Поскольку никто не знает, сколько там на самом деле золота, то и пообещать ты можешь сколько угодно»{392}.[527]
Такой колдовской язык практически не использовался в Средние века[528]. Он появился лишь в материалистическую эпоху, когда эта способность создавать вещи, просто сказав, что они существуют, стала вызывать возмущение и даже считаться дьявольской. Самым надежным признаком того, что такая материалистическая эпоха наступила, является то, что именно так эта способность и оценивается. Мы уже отмечали, что в самом начале этой эпохи Рабле использовал почти те же обороты, что и Плутарх, выступавший против заимодавцев римских времен, которые «смеются над физиками, говорящими, что ничто из ничего не рождается» и манипулируют своими счетными книгами, требуя деньги, которых у них никогда не было. Панург перевернул это с ног на голову: нет, я могу сделать что-то из ничего и стать своего рода богом, занимая деньги.
Однако прочтите строки, часто приписываемые лорду Иосии Чарльзу Стампу, директору Банка Англии:
Современная банковская система делает деньги из ничего. Этот процесс, возможно, самый ловкий трюк, который когда-либо придумывали люди. Банковское дело было зачато в беззаконии и рождено во грехе. Земля принадлежит банкирам; отнимите ее у них, но оставьте им возможность создавать кредит, и они росчерком пера создадут достаточно денег, чтобы снова ее купить… Если вы хотите остаться рабами банкиров и платить за ваше рабство, позвольте им и дальше создавать вклады[529].
Очень маловероятно, что лорд Стамп действительно такое говорил, однако этот пассаж цитировался бесчисленное количество раз — пожалуй, чаще всего эта цитата приводится критиками современной банковской системы. Несмотря на свою недостоверность, она бьет в точку: банкиры создают что-то из ничего. Они не просто мошенники и колдуны. Они — само зло, потому что берут на себя роль Бога.
Однако все это вызывает большее возмущение, чем обычный фокус. Средневековые моралисты не выдвигали таких возражений не просто потому, что их устраивали метафизические сущности. Для них в рынке была намного более значимая проблема — жадность. Рыночная мотивация считалась изначально извращенной. Когда жадности придали законную силу, а неограниченная прибыль превратилась в совершенно допустимую цель, эта политическая, магическая сторона стала настоящей проблемой, потому что она означала, что даже те, кто на деле заставлял систему функционировать (брокеры, маклеры, трейдеры), не были привязаны ни к чему, даже к самой этой системе.
Гоббс, первым облекший это представление о человеческой природе в слаженную теорию общества, осознавал проблему, связанную с жадностью. Она легла в основу его политической философии. Даже если, утверждал он, все мы достаточно рациональны, чтобы понимать, что наши долгосрочные интересы заключаются в поддержании мира и безопасности, наши краткосрочные интересы зачастую таковы, что убийства и грабежи приносят нам максимальную выгоду — для создания полного хаоса достаточно, лишь чтобы горстка людей отложила в сторону свои нравственные принципы. Именно поэтому он считал, что рынки могут существовать только под сенью абсолютистского государства, которое будет заставлять нас выполнять обещания и уважать чужую собственность. Однако что происходит тогда, когда мы говорим о рынке, на котором ведется торговля государственными долгами и облигациями; когда нельзя говорить о монополии государства на насилие, потому что речь идет о международном рынке, где главной валютой являются ценные бумаги, от которых зависит сама способность государства обладать военной силой?
По завершении упорной борьбы со всеми остававшимися формами коммунизма бедных, которая дошла даже до криминализации кредита, хозяева нового рынка обнаружили, что у них не осталось оправдания для поддержания даже коммунизма богатых — того уровня сотрудничества и солидарности, что необходим для дальнейшего функционирования экономической системы. Конечно, система устояла, даже несмотря на постоянное давление и периодические кризисы. Однако как со всей очевидностью показали недавние события, проблема так и не была разрешена.
Часть IV
Так все-таки что же такое капитализм?
Мы привыкли считать, что современный капитализм (наряду с современными традициями демократического управления) появился позже: в эпоху Революций — промышленной революции, американской и французской революций, т. е. благодаря целому ряду глубоких изменений, которые произошли в конце XVIII века и окончательно завершились лишь после окончания наполеоновских войн. Здесь мы сталкиваемся с необычным парадоксом. Почти все элементы финансового аппарата, которые мы привыкли ассоциировать с капитализмом, — центральные банки, рынки облигаций, торговля ценными бумагами, брокерские конторы, спекулятивные пузыри, секьюритизация, аннуитеты — сложились не только до возникновения экономической науки (что, возможно, неудивительно), но и до появления фабрик и наемного труда[530]. Для привычных схем это настоящий вызов. Мы привыкли думать, что фабрики и мастерские — это «реальная экономика», а все остальное — лишь надстройка, возведенная над ней. Но если это так, то как надстройка могла появиться раньше? Разве могут мечты о системе создать ее структуру?
Все это ставит вопрос о том, что вообще такое «капитализм». Консенсуса здесь не наблюдается. Слово это изначально было изобретено социалистами, видевшими в капитализме систему, при помощи которой те, кто владеет капиталом, распоряжаются трудом тех, у кого его нет. Поборники капитализма, напротив, видят в нем свободу рынка, которая позволяет тем, у кого есть перспективные идеи, получить ресурсы для их осуществления. Тем не менее почти все согласны с тем, что капитализм — это система, которая требует постоянного, бесконечного роста. Компании должны расти, для того чтобы оставаться на плаву. То же касается и народов. Подобно тому как на заре капитализма было решено, что 5 % годовых — это законная торговая ставка, т. е. то, насколько деньги, вложенные инвестором, должны расти в соответствии с принципом “interesse”, так же сегодня считается, что ВВП любой страны должен расти на 5 % в год. То, что некогда было безличным механизмом, который подталкивал людей к тому, чтобы рассматривать все вокруг как возможный источник дохода, стало считаться единственным объективным показателем жизнеспособности человеческого общества.
Если взять за исходную точку 1700 год, то у истоков современного капитализма мы обнаружим гигантский финансовый аппарат кредита и долга, который выжимает все больше и больше труда из каждого, с кем вступает в контакт, и производит материальные товары в бесконечно увеличивающемся объеме. Он добивается этого не только за счет нравственного принуждения, но прежде всего используя нравственное принуждение для мобилизации голой физической силы. Своеобразное, хоть и привычное для Европы переплетение между войной и торговлей проявляется вновь и вновь, причем зачастую в совершенно новых формах. Начало первым фондовым рынкам в Голландии и Великобритании положила прежде всего торговля акциями Ост- и Вест-Индских компаний, которые были и военными, и торговыми организациями. На протяжении столетия одна из таких частных, стремившихся к получению прибыли корпораций управляла Индией. В основе национального долга Англии, Франции и других стран лежали деньги, которые заимствовались не для рытья каналов и возведения мостов, а для приобретения пороха, использовавшегося затем при бомбардировке городов, и для строительства лагерей, в которых содержались военнопленные и велась подготовка рекрутов. Почти все пузыри XVIII века строились на какой-нибудь фантастической схеме, которая предполагала пустить доходы от колониальных предприятий для оплаты европейских войн. Бумажные деньги были долговыми деньгами, а долговые деньги были военными деньгами и остаются таковыми и по сей день. Те, кто финансировал бесконечные европейские военные конфликты, также использовали правительственные тюрьмы и полицию, чтобы заставить остальное население трудиться все более и более эффективно.
Всем известно, что толчком к созданию мировой рыночной системы, начало которой положили испанская и португальская империи, стали поиски пряностей. Ее основой быстро стали три сферы, которые можно обозначить как торговлю оружием, рабами и наркотиками. Последнее, разумеется, относится в большей степени к торговле легкими наркотиками вроде кофе, чая, сахара и табака, однако именно на этом историческом этапе появились и крепкие спиртные напитки и, как все мы знаем, европейцев не мучили угрызения совести за то, что они вели агрессивную торговлю опиумом в Китае, для того чтобы положить конец необходимости экспортировать туда драгоценные металлы. Торговля тканями началась позже, после того как Ост-Индская компания применила военную силу для подавления (более эффективного) экспорта хлопковых изделий из Индии. Достаточно лишь взглянуть на книгу, в которой содержится эссе о кредите и человеческом товариществе, которое Чарльз Давенант написал в 1696 году: «Работы на тему политики и коммерции знаменитого писателя Чарльза Д'Авенанта, касающиеся торговли и доходов Англии, плантационной торговли, Ост-Индской торговли и Африканской торговли». «Подчинения, любви и дружбы» могло быть достаточно для регулирования отношений между англичанами, однако в колониях обходились в основном насилием.
Как я писал выше, атлантическую работорговлю можно представить в виде гигантской цепи долга и обязательств, которая тянулась от Бристоля до Кала-бара и затем к верховьям реки Кросс, где торговцы аро создали свои тайные общества; в Индийском океане сложились схожие цепи, связывавшие Утрехт с Кейптауном, Джакартой и царством Гелгел, где балийские цари устраивали петушиные бои, из-за которых их подданные теряли свободу. В обоих случаях конечный продукт был одинаковым; им были люди, настолько оторванные от привычной среды и вследствие этого настолько лишенные всего человеческого, что их можно было полностью вывести за рамки долга.
Посредники в различных торговых звеньях долговой цепи, связывавшей лондонских биржевых маклеров со священниками аро в Нигерии, с ловцами жемчуга на островах Ару в Восточной Индонезии, с плантациями чая в Бенгалии или каучука в Амазонии, производят впечатление трезвых, расчетливых людей, лишенных воображения. На другом конце цепи все зависело от способности манипулировать воображением и постоянно грозило перетечь в нечто, что даже тогдашние наблюдатели считали фантасмагорическим безумием. На одном конце периодически возникали пузыри, в основе которых лежали отчасти слухи и фантазии, а отчасти то, что в городах вроде Лондона и Парижа почти все, у кого имелась наличность, легко верили, что они так или иначе смогут погреть руки на том, что все остальные поддаются слухам и фантазиям.
Чарльз Маккей оставил нам бессмертное описание одного из них — знаменитого пузыря Компании Южных морей, основанной в 1710 году. Сама Компания (которая разрослась настолько, что скупила большую часть национального долга) была лишь эпицентром происходивших событий, гигантской корпорацией, чей капитал постоянно раздувался, из-за чего она, выражаясь современным языком, стала «слишком большой, чтобы обанкротиться». Компания вскоре стала образцом для сотен других подобных начинаний:
Повсюду стало возникать бесчисленное количество акционерных компаний, которые вскоре получили название пузырей, очень точно отражавшее их суть… Некоторые из них просуществовали неделю или две, после чего о них больше ничего не было слышно; другим же не удавалось продержаться даже на протяжении этого небольшого срока. Каждый вечер создавались новые схемы, каждое утро возникали новые проекты. Сливки аристократии были столь же увлечены этим стремлением к легкой наживе, как и самые усердные спекулянты с Корнхилла{393}.
В качестве примера автор перечисляет восемьдесят шесть различных схем — от производства мыла или парусины до страхования лошадей и метода «изготовления сосновых досок из опилок». Каждый выпускал акции; их быстро собирали и начинали бойко ими торговать в тавернах, кофейнях, на улицах и в галантерейных лавках города. В каждом случае их цена быстро взлетала до небес — каждый новый покупатель рассчитывал, что сможет сбросить их какому-нибудь еще более доверчивому болвану до того, как их цена рухнет. Иногда люди торговали картами и купонами, которые давали им всего лишь право позже участвовать в торговле другими акциями. Тысячи разбогатели. Тысячи разорились.
Самой абсурдной и нелепой аферой из всех, которая больше чем иные вызвала у людей полное помешательство, была организована неким неизвестным авантюристом и получила название «Компания для продолжения получения большой выгоды, но как, никому неизвестно». Гениальный человек, который предпринял эту смелую и успешную попытку нажиться на общественной доверчивости, просто заявил в своей листовке, что необходимый капитал составлял полмиллиона, или пять тысяч акций стоимостью по 100 фунтов каждая и по два фунта депозита на каждую акцию. Каждому подписчику, внесшему депозит, предоставлялось право на получение 100 фунтов в год за акцию. Он не снизошел до того, чтобы объяснить, как он намеревался получить такой огромный доход, но пообещал, что через месяц известит вкладчиков обо всех необходимых подробностях и предложит внести остальные 98 фунтов за акцию по подписке. На следующее утро, в девять утра, этот великий человек открыл контору в Корнхилле. Дверь осаждали целые толпы; к трем часам дня, когда он закрыл контору, они подписались не менее чем на тысячу акций и заплатили депозит. Он был в достаточной мере философом, чтобы этим удовлетвориться, и в тот же вечер отправился на континент. Больше о нем не слышали{394}.
Если верить Маккею, все жители Лондона испытали огромное разочарование — не от того, что деньги можно было делать из ничего, а от того, что раз другие люди были настолько безумны, что в это верили, то это действительно давало возможность делать деньги из ничего.