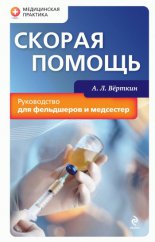Парадокс о европейце (сборник) Климонтович Николай
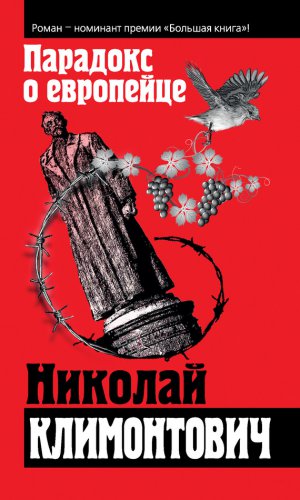
Здесь для меня начинаются загадки – не меньше, чем для господина-товарища следователя Праведникова.
Что повлияло на Иозефа?
Что дела на фронте шли все хуже?
Или его тоже увлекла мутная волна скороспелой политики, которая была тогда растворена в самом воздухе? Предчувствия революции и гибели России? Или кто-то позвал его на вильную уже Украину, где он рассчитывал стать нужным? Или все вместе…
Думается, его подвижный внутренний состав, некая неуспокоенность души гнала его вперед. В конце концов, в Сан-Франциско он доказал, что может быть отличным врачом. В Москве из него получился успешный издатель. Так отчего ж не попробовать себя в политике… Так или иначе, но ранней весной семнадцатого года он внезапно распустил немногих сотрудников, расторг авторские договоры и закрыл издательство – считалось, что временно. Написал знакомым, чтоб подыскали ему на весну и лето дачу в Белой Церкви, запер московский дом и сел вместе с женой, крохой-сыном и немалым багажом на киевский поезд.
Когда отъезжали от Москвы, под насыпью придорожные молодые березки стояли еще по щиколотку в талой воде. В тени, в оврагах и лощинах, синели косяки последнего грязного, уже перепачканного сырой землей снега. В полях разлились широкие лужи, и мелькали рассыпанные по прошлогоднему сырому жнивью черные точки – прилетели грачи. Киев решили объехать: говорили, там идет стрельба, но никто не знал, кто в кого палит. Поехали через Конотоп, Нежин и Фастов. Замелькали пьющие из влажной теплой земли, с наливающимися почками тополя, и чем дальше, тем больше они теснились к дороге.
Белой Церкви достигли недели через полторы, когда уж принялась цвести ранняя белая сирень и весело сквозь пышные душистые ветви желтели черепичные крыши. Добрались наконец до знакомого домика на высоком правом берегу, на Торочанской улице, над церковью Марии Магдалины. Знакомый по прошлым дачным сезонам киевский художник Мащенко стоял у калитки своей дачи и снял шляпу, завидев их, поклонился. Иозеф поклонился в ответ. Как и прежде, за плотиной, на другом берегу, медленно крутилось колесо уютного белоцерковского млына и виднелись красного кирпича корпуса ткацкой фабрики, построенной некогда графами Браницкими. Внизу на площади, в жидовских рядах, уже было заметно шевеление, хоть день был не базарный.
В Киеве же кипело. Все было в тумане, и карьеры составлялись молниеносные и даже фантастические. Так былой московский приятель Иозефа, страховой агент Семен Петлюра явился в Киев земгусаром, щеголял в форме созданного в начале войны в Москве в помощь армии Земгорсоюза, а потом и впрямь пошел в гору. Как и положено заправскому революционеру, он кричал и хрипел на митингах, обращался к кучкам зевак громодяне, на первых порах, не освоившись, орал на площадях вместе с чернью геть, москали, геть! Черкал какие-то сбивчивые статейки, созывал съезды и сам выдвигал себя в президиумы. Публиковал Универсалы. Для порядка в этих самозваных органах он терпел до поры наиболее видных интеллигентов. Но, кажется, в серьезный расчет не принимал: чего от них можно было ждать дельного, если тот же профессор Грушевский все бубнил, подхватывая пенсне, что ведущим направлением в историческом развитии Украины должен быть не революционный путь, который сопровождается насилием, кровью и разрушениями, а эволюционный и мирный, – плюнуть и растереть!
Пока интеллигенты распинались, штатскому Петлюре за несколько месяцев удалось создать украинские войсковые рады, и он сам возглавил это загадочное движение, что-то наподобие солдатских советов. Но, кажется, тогда еще как гражданский деятель военных званий себе не присваивал. В апреле он созвал в Минске украинский съезд Западного фронта, а там и Украинскую фронтовую раду, председателем которой сам себя выбрал. Иозеф следил за всей этой чехардой со смешанным чувством, втайне будучи уверен, что в конечном итоге от суетливого Петлюры не будет для Украины никакого толка. Но, в отличие от своей прозорливой жены, которая, узнав об успехах былого московского гостя, шепнула: теперь жди беды, Иозеф легкомысленно не желал видеть во всей этой лихорадке настоящей угрозы.
В Петербурге не знали, что делать с отпадающими частями бывшей империи. У Временного правительства не было никакой, даже временной, национальной политики. Господа адвокаты оказались капризны, крикливы, обидчивы. И так сбивчивы, что решения принимали впопыхах. Что ж говорить о далеком Киеве, если они не смогли даже отправить венценосную семью в Мурманск, а оттуда английским кораблем в Лондон или Копенгаген. И обрекли ее на гибель. А ведь Царское Село – не Украина, было у них под носом.
В Киеве съезды созывались один за другим. Там под воинственные, но пустопорожние крики и споры автономников и самостийников делились посты и портфели. Михновский сражался с Винниченко, и Михновского следовало унять. Липинский, будучи католиком, проповедовал идею трех монархий, Великой, Белой и Малой Руси. При одном московском православном Патриархе. Тут еще всплыл генерал Рагоза с его планом концентрации войск в Чернигове и создания корпуса особого назначения для освобождения России. А Петлюра при поддержке умного и циничного Кистяковского отстоял заодно кандидатуру какого-то балтийского матроса Грамотного, и все согласились также, что без командира полка имени гетмана Хмельницкого Капкана тоже никак не обойтись.
Одни социалисты-федералисты с Дорошенко во главе стремились выдвинуть взаимно приемлемые условия русско-украинских отношений, остальные были неуступчивы и не испытывали желания договариваться. Все тянули в разные стороны, и выходило, что украинцы для русских – сплошь сепаратисты, тогда как русские в глазах украинцев до края отравлены московским централизмом.
Тем временем и войска забродили. Общее возбуждение заставляло требовать решительных приказов. В нетерпении даже пытались бунтовать по примеру Второго украинского полка имени гетмана Полуботка. Полк этот формировался в Чернигове, а в Киев прибыл для отправки на фронт и тут же попал под агитацию самостийной оппозиции. Полуботковцы ерепенились, обвиняли Центральную раду в угодничестве перед петроградским правительством и низкой активности. Петлюра зря призывал не поддаваться анархии: на фронте русские солдаты массово дезертировали, немцы перешли в контрнаступление, а в Киеве бунтующие украинские войска хулиганили, полуботковцы захватили оружие в казармах Первого украинского запасного полка, реквизировали автомобили в Железнодорожном батальоне и третьем автопарке, захватили штаб милиции и комендатуру Киева, арестовали начальника милиции и коменданта, разоружили юнкеров, захватили интендантские склады, и это не говоря о других мелких безобразиях вроде погрома нескольких винных подвалов. Одновременно планировались выступления в Житомире, Чернигове, Коростене, Полтаве, Умани, Александровске, Юзовке, Одессе и разоружение российских военных эшелонов на линии Звенигородка – Христиновка – Знаменка. На помощь восставшим вышел Звенигородский кош Свободного казачества. Казаки добрались поездом до пригородной Мотовиловки, и Петлюра чудом успел сообщить им, что, мол, восстание уже окончено и господа казаки опоздали. Это было вранье во спасение: все висело на волоске в эти июльские дни. Ему удалось обмануть и восставших, хитростью включить их в состав Немировского полка, располагавшегося на передовой в Галиции, и спихнуть на фронт. Заодно был решен вопрос с Первым украинским полком имени гетмана Богдана Хмельницкого: условие переформирования его в отдельное украинское формирование было выполнено. Полк тоже выдвинулся было в сторону фронта, но был обстрелян российскими кирасирами и донскими казаками. Заваривалась каша. Петлюра выезжал на место для расследования, однако мешал командующий войсками Киевского военного округа полковник Оберучев – черт знает, откуда он взялся. Но и тут Петлюра вывернулся: по его настоянию полк был разоружен, солдаты отправлены на фронт в составе других формирований, а командира полка полковника Капкана на сей раз поместили под домашний арест.
И все, Петлюра был наверху.
Уже и в Центральную раду его кооптировали. А горячие симпатии украинских военных он завоевал смелым предложением национализировать армию, а солдат-украинцев обучать на родном языке, для чего требовалось в тех условиях неисполнимое, а именно срочно перевести на украинский кипы уставов и наставлений. Но ведь и остальное было невыполнимо: сами офицеры были под присягой русскому царю, который, правда, уже подписал отречение в пользу брата. К тому ж многие по-украински почти не говорили. Но что там! Главное было – своевременно выкрикнуть нужный лозунг, который подхватит и понесет пьянящий революционный ветер…
– Что ж, вот вы и назвали десяток имен, а прежде мялись, – сказал удовлетворенный Праведников.
– Из газет все, из газет.
– Полно скромничать, Иосиф Альбинович. Вы же были тогда в центре событий. Чуть не в правительстве, пока наши вас оттуда не вышибли.
– К сожалению, это было правительство безо всяких полномочий…
Дело было так. Грушевский привез в Белую Церковь Винниченко, человека Иозефу малоприятного. Сидя под цветущей яблоней за чайным столом говорили о надвигающейся катастрофе, которую готовит Украине авантюрист Петлюра. Начинал-то военную карьеру бывший страховой агент скромно, сделался атаманом гайдамацкого коша. Но нынче шагнул уже на пост главного атамана армии и флота – никакого флота, впрочем, у него не было. И метит в диктаторы, глядит в Наполеоны. Решено было брать дело в свои руки. Тут же организовали Малую раду из трех присутствующих, о чем составили протокол. Первым пунктом первого же заседания значилось отстранение Симона Петлюры от власти путем передачи полномочий от Центральной рады к Малой. С атаманством постановили разобраться позже: кажется, никак было не избежать временно сохранить за Петлюрой портфель военного министра при новом правительстве – он пользовался популярностью у части войск. А другой кандидатуры пока не было. Так или иначе, постулировалось главное: разделение власти военной и политической…
Конечно, это садовое решение ни на что не повлияло. Хотя осенью Винниченко удалось побыть на посту президента восстановленной Украинской народной республики пару месяцев. Но совещание под яблоней имело-таки свои последствия. Каким-то неведомым образом об этом заседании Малой рады – первом и последнем – Петлюре стало известно.
Самые печальные последствия это могло иметь для Винниченко как члена петлюровского правительства, и ему не удалось бы избежать обвинения в измене в военное время, но события развивались так бурно, стремительно и непредсказуемо, что все это забылось и стерлось. Во всяком случае, так всем троим казалось.
Петлюра оказался превосходным интриганом – назвать этого недоучку политиком язык не поворачивался – и ловко лавировал между теми и другими. Внятной программы, впрочем, и у него не было. Основная мысль украинской интеллигенции была такова: поскольку русские сами переживают смуту и разброд, то они не способны выдвинуть зрелых и умелых лидеров, таких как Эберт и Носке в Германии, а в Италии Муссолини. Украина оказалась предоставлена сама себе, и это ли не удачный момент, не единственный шанс, который выпадает раз в век: прав немецкий писатель Рорбах – Украина станет независимой и войдет, наконец, в семью европейских народов (41). Эту немудрящую мысль разделял и сам атаман.
Иозеф, сидя на даче в Белой Церкви и сочувствуя всячески идее независимости родины, как и всякой независимости, хоть Гавайских островов, понимал, однако, что в нынешних условиях полная незалежность – это прекраснодушие и пустая мечтательность. Вон и Грушевский осторожничает, вчера за чаем под сбросившей уже свой цвет и готовившейся плодоносить яблоней говорил долго, но было ясно – дальше идеи автономии он не идет. Что ж, он историк, знает, что с семнадцатого века объединение с Россией, включая церковное, основанное на греческом православии, привело к полному отделению, с одной стороны, от мусульманской Турции, с другой – от католической Польши. И что, как и во времена Хмельницкого, в условиях войны и революции отделение от России неизбежно приведет к присоединению к той же Польше, или к Турции, а то и к Германии. Но националисты в раже незалежности согласились бы и на папу римского.
Поднялась война настоящего вольнобесия, и неистовые борцы-украинцы слышать не хотели доводов умеренных. С упрямством фанатика Дорошенко звал тотчас объединиться с Донской областью, а неуемный неумный Лизогуб мысленно уже прихватил Орловщину. Не смешиваясь ни в коем случае с малороссами Шульгина, движением откровенно и прямо прорусским, умеренная национальная интеллигенция, которую Грушевский и представлял вместе с Винниченко, напоминала, что с прошлого века, не порывая с Россией, прозорливцы-романтики изучали собственную историю и свой фольклор, постепенно и осторожно воспитывая украинское сознание в духе кирилло-мефодиевского братства. Хорошо еще и то, что русские либералы мирятся с украинством, наивно полагая, будто это, мол, игрушечные флаги и самоуспокоительные трели – помашут-помашут, попоют-попоют да и успокоятся.
В этом был, конечно, оттенок неприятного высокомерия. Что ж, понятно, в сравнении с мощной русской культурой достижения украинцев казались ничтожными. Но даже это понимание не рассеивало раздражения и даже обиды: уж очень русские интеллигенты покровительственно относились к украинцам, снисходительно-ласково, как к малолетним…
Немцы проигрывали войну – это было всем очевидно уже к исходу лета. Население – его в годы перемен и правые, и левые, и те, что посредине, наверху и сбоку, всегда льстиво именуют народ – их возненавидело. Ходили слухи, что на окраинах нападают на немецкие патрули.
Толпа всегда ненавидит проигравших.
А ведь еще совсем недавно – льнула. В первое время оккупации был момент, когда обыватель на немцев очень надеялся. Мол, уж эти-то наведут порядок и пойдет по-прежнему мирная и милая, сытая приятная жизнь с полными лавками, вкусными и дешевыми iдальнями, сладко пахнущими за квартал цукернями и соблазнительными кафешантанами. Куда там.
Поначалу немцы искали опоры в украинской буржуазии, но она оказалась сплошь русско-еврейской. Из этого разочарования, должно быть, немцы взялись за дело и оказались умелыми и азартными мародерами: уже и высшие офицеры посылали посылки в Германию, а от мелких чинов и от солдат украинское добро шло на Запад эшелонами, даже сало посылали. Немецкие солдаты шатались по городу пьяные, с красными бантами на груди; может, такое украшение, по их мнению, облегчало задачу соблазнения местных, тоже пьяных, уличных шалав? Городом овладело иррациональное истерическое возбуждение: точно такое в России во время войны умело подогревал в массах Ленин. Что ж, в условиях хаоса удобнее хватать власть.
Неизвестно откуда, на волне бурления национальных чувств, с одной стороны, призывов всеукраинского кадета Григоровича-Барского к присоединению к Австрии, которая обеспечит-де полную свободу политической украинской мысли, с другой, восстаний в Галиции и на Дону, и появился опять в их жизни брат Леопольд. Было это – как бы вспомнить точнее – осенью, кажется. Да, осенью, яблоки падали, перед восстанием против Гетмана в Киеве. И до нового воцарения Петлюры с Винниченко – они, как говорят марксисты, были классово близки… Потом Киев пал под ноги большевиков.
Леопольд чудесно преобразился: из ксендза он стал подтянутым, не без щегольства офицером, но с пастырской строгостью в прямой фигуре. Причем в неожиданном чине – адъютанта самого Гетмана. Леопольд прислал в Белую Церковь коляску, возница передал короткую записку, что-то вроде иронического czy moge pana zaprosic[16]. Это было приглашение на аудиенцию с Его Светлостью Ясновельможным Паном Гетманом Всея Украины.
Сговорились на ближайшую пятницу.
Повезли Иозефа прямиком в Липки, где квартировал немецкий конвой Гетмана и был гетманский штаб. Леопольд встретил в вестибюле, торопясь, дважды поцеловал младшего брата и в своей сухой манере, чуть иронически, сказал, что Гетман желает его, Иозефа, видеть.
Иозеф удивился: что ж такого ты обо мне ему наговорил…
Леопольд усмехнулся:
– Ты общаешься с интеллигенцией, Гетман хотел бы знать твое мнение…
Кабинет был скромен и строг, что казалось странным при всеобщем стремлении в те годы, как и во всякие революционные, к театральщине и показухе: никакой романтической драпировки под старину, никаких украинских рушников и куренных флагов. На большом столе в центре – цветная карта Европы, которую издалека можно было принять за расшитую скатерть. Украина, разумеется, была посередине.
Гетман тоже был прост и строг. В казачьей черной черкеске с косыми газырями, бритый наголо, с умными темными глазами. Впрочем, едва он заговорил, как показался Иозефу не боевым офицером, а старинным усадебным шляхтичем, превратившимся на Украине в добродушного русского барина. Впрочем, был он и авантюрист: положение, в котором он оказался благодаря нынешнему и неожиданному, совсем сказочному изгибу русской истории, не столько заботило, сколько забавляло его. Атмосфера заговора бодрила. Говорил он по-русски совсем чисто и совершенно по-приятельски сказал Иозефу, что для него, русского офицера, измена присяге, царю – тяжелое испытание и бремя. К тому ж это его двойственное положение: то ли он монарх, то ли глава республики – казалось, эта противоречивая политическая роль очень его развлекала. Глаза Гетмана играли. Уж не тайный ли он русофил, подумал Иозеф. Или зачем-то ломает комедию.
– Что вам со стороны видится в нашем этом… беспорядке, любопытно узнать? Понимаете, мне хоть и не очень интересно вникать, но украинская интеллигенция…
Иозеф кратко и энергично сказал то, что думал. И что от него, очевидно, хотели услышать. Что в этот свой неповторимый час Украина смогла выставить наконец-то вперед, на политическую сцену, умных, образованных и энергичных деятелей, до тех пор довольствовавшихся лишь газетными полосами и профессорскими кафедрами.
– Но, позвольте, это все и не военные, и не политики, – сказал Гетман мягко и чуть иронично. – Первый – университетский историк из Львова, второй… как бы это сказать… беллетрист из народа, мечтатель… впрочем, такие любят э-э… исторические стихии.
– Да, многие их считают чудаками, милыми, но бескрылыми, бессильными, хоть и страстными, – вступился за товарищей по классовой прослойке и Малой раде Иозеф. – Но позвольте вам напомнить, что именно под влиянием выступлений Винниченко съезд принял идею всеобщего вооружения народа. Вы скажете, что это, кажется, предлагали и марксисты. Но ведь приняли же резолюцию об украинской народной милиции…
– Ну что ж делать, коли у нас теперь Великая французская революция… – Гетман улыбнулся. – Эта их Директория, играть в робеспьеров изволят… – Тут Гетман поморщился. – Но интеллигенты и этот дьячок Петлюра… Впрочем, и сам Талейран, кажется, был из духовных… церковник.
– Епископ, – уточнил Иозеф. Гетман ему все больше нравился. И продолжил: – Сам по себе, возможно, Семен не опасен. – И поправился: – Симон Петлюра. Но в союзе с большевиками…
Светлое, со светской улыбкой лицо Гетмана вдруг переменилось.
– Так вы с ним знакомы…
– Встречались в Москве…
– Что ж, вы сказали самое главное, – озабоченно добавил Гетман. – Значит, вы тоже предвидите такую опасность… Вы позволите время от времени обеспокоить вас? Обратиться в случае чего за советом. Кстати, вы же из Москвы приехали, как устроились в этом нашем бедламе?
Иозеф поблагодарил и заверил, что устроились они прекрасно, дом в Белой Церкви был для него заранее приготовлен.
– Не смею больше задерживать, – кивнул Гетман и, кажется, готов было протянуть руку, но лишь легко приложил прямую правую ладонь к носу…
– Ты ему понравился, поздравляю, – сказал Лео, когда они спускались по лестнице. В его интонации не было никакой ревности, скорее удовлетворение: его рекомендация не показалась начальству чрезмерной.
– Что ж, мы – поляки!
– Oczywiscie! – вспомнил Лео любимое отцовское словечко (42). И впервые за весь день улыбнулся.
Это была первая и последняя встреча Иозефа со Скоропадским. И последняя – с братом Леопольдом. Уже в декабре Гетман, соблюдая уже не царскую, а гетманскую присягу народу Украины, официально отрекся от престола и тайно покинул Киев, что было весьма умно с его стороны. Говорили, Рождество он будет встречать уже в Берлине. А Леопольд – исчез. Была, конечно, надежда, что он сопровождал Гетмана, но один свидетель из петлюровских соглядатаев тайно шепнул, что на вокзале Леопольда не было.
Дальнейшие события запомнились Иозефу смутно. Прежде всего, он признался себе, что политика из него не получилось, попытка оказалась неудачной. Да и поставленные цели были недостижимы: никакого европейского пути у Украины нет, это тоже следовало признать. Большевики вот-вот будут в Киеве, и прохвост Петлюра наверняка сговорится с ними (43). И Украина разделит участь остальной России – в который раз за свою историю. Это было горько сознавать, но именно так, по всей видимости, обстояли дела.
Для спасения семьи было два пути: или попытаться отправить Нину с сыном в Польшу, или устроить их в военный эшелон, идущий в Германию. Был и третий вариант, но очень уж неверный: отправить их в Одессу, там, говорят, не сегодня завтра будут союзники и можно надеяться выбраться французским кораблем хоть в Константинополь. А там уж и в Марсель… Но неожиданно Нина проявила не просто строптивость: она с неприступным видом и совершенно определенно сообщила, что никуда, кроме как в Россию, не поедет. Иозеф пытался ее уразумить, куда там: ты же сам говорил, что не желаешь себе участи эмигранта. Говорил, верно. И сам он покидать Украину не собирался.
Он уступил. Решились на такой вариант: он отправит их в Харьков. Этот выбор строился вот на каком расчете: в советской уже части Украины был, должно быть, порядок – в сравнении с кавардаком в Киеве. И в Харькове, кажется, сейчас правил Раковский, болгарин, его однокурсник и приятель по Женеве, тоже врач. Христо, правда, в отличие от бакунинца Иозефа, был социал-демократом и держался группы Плеханова, но семье его он, конечно, поможет… И вскоре без каких-либо осложнений, будто вокруг шла мирная прежняя жизнь, в купе пассажирского вагона Нина прибыла в Харьков. И сняла на окраине полдома у русской, чем-то ей напомнившей ее мать, мещанки-вдовы – ее муж, офицер, погиб на фронте еще в пятнадцатом.
Ни о каком Раковском ни хозяйка, ни соседи никогда не слышали.
Как, впрочем, и о советской власти (44).
К Иозефу пришли ранним утром. Но не с арестом, чему он не удивился бы. Это были несколько депутатов еще той, первой прекраснодушной рады, некоторых он знал в лицо. А с одним, бывшим преподавателем латыни по фамилии Зевота, был знаком – кажется, он-то и привел этих ходоков. Горячо заговорили, что Петлюра вот-вот захватит Киев и что за ним, незнамо откуда, чуть не сто тысяч штыков. И что из Киева надо уходить, в чем Иозеф был с ними согласен.
Но куда?
А вот куда – на юг, в степь. Перебивая друг друга, торопясь и сбиваясь, горячо, будто в чем-то убеждая его, они говорили, что в городе есть десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. Сотни тысяч винтовок закопаны в землю, их удалось спрятать в клунях и каморах от немецких патрулей и обысков. И народ готов! Кто же это? Да господи, в одних только городишках и местечках тысячи народных учителей, фельдшеры, однодворцы, прапорщики из семинаристов, пасечники и здоровые хлопцы с бахчей. Да что там, есть и штабс-капитаны с прекрасными украинскими фамилиями. И все, все любят родину, наш язык, нашу прекрасную, волшебную, цветущую Украину… Короче говоря, они звали его идти в партизаны.
– А кто ваш командир?
– Вы, пан Иозеф, как есть – вы! Будете нашим батьком.
– Но я и винтовку в руках никогда не держал. Да мне и нельзя – по убеждениям пацифист, порицаю грех убийства.
– Баптист, что ли? Так вам и не надо, коли так. Кому стрельнуть – люди найдутся. Была бы кутерьма. Нам голова нужен, вот что! У нас и беглый полковник есть на примете, Заварец, но, боимся, не заслан ли австрияками. Что, пан Иозеф, хочет ли Юнона идти в Рим? (45) – И к своим спутникам: – Видите, она кивнула?
Депутация согласно загудела.
Вчера я дошел до этого места рукописи, а ночью мне приснилась степь. Широкая, голая, пустая, даже любимого одинокого тополя видно не было (46). Иди, кажется, куда хочешь, а идти некуда. И чувство такое, что потерялся. Вязкое, тупое и страшное чувство, будто тебя уже никто никогда не найдет и никогда тебе не выбраться обратно к жизни…
Зачем я вспомнил этот нелепый сон и зачем вставил – разве что для передышки. Мне опять отчетливо представилась фигура деда. Вот идет он по степи с одной тросточкой впереди группы разношерстных гражданских вояк – кто с берданкой, кто с австрийской винтовкой. На нем – видится мне – тонкий синий плащ, такой был на Суворове при переходе через ледяные Альпы, солдаты отчего-то называли этот плащ родительский. Другие партизаны были одеты кто во что горазд. Были и штопанные на локтях тонкие костюмчики, и длинные до пят фельдшерские серые халаты, подпоясанные толстыми ремнями желтой свиной кожи. Один Зевота был мало что в голубом жупане доброго гетманского сукна, но и в германской шинели поверх. На ногах у него были кованые кожаные боты, тогда как многие его товарищи были кто в солдатских сапогах, кто в гражданских ботиночках. Но на каждом почти была папаха, а на некоторых поверх – германские шлемы, застегнутые под подбородком.
– Я теперь ваш легат, – сказал Зевота Иозефу.
Первая ночевка в степи запомнилась тем, что в совершеннейшей прозрачной тишине – ни шороха, ни выстрела – никто не мог спать. Будто вслушивались в темноте в грядущую свою судьбу. И в судьбу родины, звичайно. Да и огня не разводили: откуда-то все слышали и знали, что в их положении нужно таиться и ничем себя не выдавать. Потом плюнули, конечно, на эти предосторожности: степь-то казалась совсем пуста. Стали разводить костер. Приладились кое-как загораживать огонь собой, заодно грелись. И жадно наблюдали, как варится в котле постная каша.
Иозеф спал, закутавшись в плащ, прислоняясь спиной к дереву, если оно находилось рядом. Он усаживался в расщелину между корней, и отрядный латинист льстиво говорил, что таким образом получилось превосходное курульное кресло. В холодные бессонные ночи Зевота рассказывал замерзшим будущим бойцам, не сделавшим пока в жизни ни одного выстрела, сказки из древней римской истории. Он успел изложить несколько эпизодов, но особенно хорошо у него получился цветистый рассказ об основании Рима.
Начал он издалека, но занимательно: с того, как весталка царской крови, принявшая обет целомудрия, ну, монашка по-нашему, оказалась изнасилована.
– Оце так сюрприз!
– Преступление, конечно, неслыханное, но обидчика не смогли сыскать. И обвинили в приступе похоти саму женщину. Жрица, конечно, утверждала, что согрешила с самим Марсом, но слушать ее суеверия не стали, а заковали в оковы и посадили под стражу. В свой срок она принесла близнецов мужского пола.
– Зовсим непогано.
– Как это было принято в те варварские времена, близнецов решили утопить как кутят, и младенцы были брошены в реку. Но Тибр в ту весну так разлился, что к руслу никак было не подойти, и стражники бросили корыто с младенцами на мелком месте – не плыть же с ним в стремнину, ви розумiете. Как и случается с царственными найденышами по всей мировой истории, корыто зацепилось за прибрежные кусты, а как вода отошла – так и вовсе оказалось на берегу. Тут и появляется волчица: она шла к водопою, услышала детский плач, нашла младенцев, облизала их и стала кормить сосцами. Но поскольку у римлян времен Тита Ливия было уже скептическое направление ума, то здравомыслящие люди придерживались более убедительной и жизнеподобной версии. А именно, что Волчицей называли (47).
– Справдi! Що ви кажете! Неймовiно! – послышались восхищенные голоса.
– История сохранила ее имя: она звалась Ларенция и была бездетной женой пастуха Фавстула. Вот она-то и вырастила близнецов, которые вопреки нынешним представлениям унаследовали не благородные черты своей настоящей матери, но справдi сомнительные наклонности приемной. Точнее, подросши, стали они настоящими разбойниками. Можливо, для утешения народа или чтобы подсластить пилюлю для потомства, римляне считали близнецов-разбойников благородными панами. Мол, они не грабили пастухов и путников, но лишь своих же коллег по ремеслу. Вы догадались уже, бесперечно, звали этих будущих сорванцов Ромул и Рем.
Продолжение Зевота обещал завтра.
– Сейчас лишь обращу внимание ясновельможных панов и вольных казаков, что легенда эта весьма необычна. Ибо в ней есть подробности совсем натуралистические, которые не пропустила бы еще вчера и царская цензура. А именно: действует в ней на правах героини натуральная курва. Да и само рождение героев произошло в результате изнасилования их матери неизвестно кем…
Но уже на следующий день маленькому отряду стало не до римской истории.
Над ними то и дело стали печально и протяжно свистеть шальные пули, и никто не понимал, откуда они летят. Само это непонимание вселяло неуверенность и беспокойство. Казалось, воздух сам собой оживляется, и опасность грозит со всех сторон и прямо с неба.
Ясность пришла с появлением невесть откуда, прямо из степи, в расположении отряда довольно чисто одетой, сытого вида, но совсем рябой бабы. Баба рассказала, что, пока она во время остановки ходила на ближайший хутор за бульбой, бронепоезд ушел и она отстала от базы. Добиться от нее, чей бронепоезд, куда идет и с кем воюет, было невозможно: она повторяла лишь, что стряпала для господ офицеров, которые следовали в отдельном пульмановском вагоне, а сам поезд носит имя «Уголь». Начальником там господин полковник Тютюнник. Выходило, что бронепоезд свой и воюет, скорее всего, с большевиками. А где ж здесь пути и в какую сторону ушел поезд? Этого она тоже не могла объяснить. Сказала только, что поезд ходит туда-сюда и часто останавливается, будто ищет кого-то. Где ее деревня, она тоже не могла сказать. Объяснила лишь, что деревни и нет больше, сначала грабили немцы, потом невесть кто, какие-то, что ли, красные махновцы-большевики, и хата ее сгорела (48). И что на поезде много бронепоездных женщин, у всех у них мужиков поубивало, или пропали, есть и санитарки, и поварихи, и официантки, и поломойки. И что господа офицеры – обходительные: если заставят грешить, то потом непременно накормят. А какие даже угостят шоколадом.
На горизонте теперь то и дело стали появляться чьи-то верховые разъезды, и приходилось залегать в придорожных канавах или ховаться в лощинах.
– Вот и начались, гадаю що так, первые Консулии в честь Нептуна Конного, – прокомментировал их появление Зевота.
Иозеф собрал совет. По всем правилам римской демократии в нем приняли участие все, кто мог носить оружие. Других, впрочем, не оказалось. На совете постановили продолжать по возможности незаметно двигаться на юг, где должна была находиться южная железная дорога, идущая от Харькова на Екатеринославль, а там – на Одессу. Отдельным пунктом совещания обсуждался вопрос о зачислении гражданки Верки Кривогуз в отряд на должность кухарки. Это предложение тоже было утверждено единогласно. Прежде всего потому, что всем очень хотелось горячей пищи. Лучше всего борща по-полтавски, хоть и нет у них ни бурака, ни гусиного бульона. А уж о пухкениках, мандрыках, крученыках и галушках с салом лучше не вспоминать. Ну, хоть капустняк… Зато не было теперь холодной ночи, чтоб Верка под накинутой шинелью не грела того или другого бойца.
На рассвете, когда отряд уже который раз заночевал в степи, Иозефа разбудил перепуганный бывший университетский студент Степан Верко, который всегда казался веселым и бесшабашным малым. Заикаясь, он рассказал: мол, только что, когда ходил до ветру, в утреннем тумане наткнулся на высокую насыпь, поверх которой висят мертвецы. Хоть и был Степан студентом-естественником, но в этом месте рассказа он перекрестился. Действительно, на телеграфных столбах вдоль насыпи висели мертвые тела в белых подштанниках. Потом разъяснилось: это были махновцы, повешенные белыми за грабеж. За насыпью была искомая железная дорога.
Постановили залечь, вырыть штабную землянку и ждать появления загадочного бронепоезда. Степан Верко опять был послан в разведку. И это было роковой ошибкой Иозефа. Не потому, что Верко был плох, а потому, что старательный, молодой, инициативный. Иозеф, глядя на него, видел: тому, чем сидеть в университетской аудитории, очень даже хотелось повоевать. К вечеру Верко привел в расположение отряда донельзя оборванного мужичка-солдата и доложил, что взял языка – где-то успел нахвататься фронтовых словечек.
Мужичок почти не ел каши и был вял. С трудом удалось от него добиться, что ни о каком бронепоезде он понятия не имеет, но служить готов: успел побывать у красных, у белых, у Махно, у Гетмана Скоропадского, у Петлюры. И даже в отряде какого-то эсера, кажись левого, Вилкина: отряд просуществовал всего два дни, потому что всех изловили и стрельнули.
Почему он уцелел, Иозеф спрашивать не стал: мужик, когда ел, снял фуражку – из нее посыпались вши. Иозеф потребовал поднять гимнастерку. Так и есть: в области живота у солдата была пятнистая розовая сыпь. Пришлось разложить костер и в большом баке согреть воды. Всю амуницию солдата Иозеф велел сжечь, самого помыть и собрать ему кое-какой одежонки. Но это не помогло: ночью солдат стал бредить и на рассвете умер. Иозеф позволил лишь завернуть тело в прокаленную над костром шинель и зарыть наспех. Но ничего уже не могло помочь, он понимал, что многим в его отряде не сберечься: вши, а с ними сыпной тиф уже перекинулись на них.
Степан Верко заболел первым. Иозеф запрещал ему чесаться, но по утрам он был весь в расчесах. Тиф у него был бурный и скоротечный, с жаром и бредом, и Иозеф подозревал, что на самом деле болен студент уже вторую неделю. Иозеф не отходил от него, пока тот не умер. Он винил себя в смерти молодого человека, хотя в чем была его вина…
К этому чувству примешивалось еще одно: как врач он видел много смертей, но эта казалась ему особенной. Никогда не ставя себя на место умерших, лежавших в морге или на анатомическом столе, сейчас в степи, вглядываясь в застывшие черты покойного, он видел в нем себя самого. И впервые отчетливо представил себя самого – мертвым. Тогда он испытал чувство последнего одиночества, будто остался совсем один на земле. Это чувство, то приступая, то притупляясь в житейских заботах, больше никогда не покидало его.
Уже следующей ночью ему приснилась мать, с которой он никогда не был близок, – прежде она никогда ему не снилась. И он подумал: это – к болезни. Днем после похорон Верко, сидя под деревом, Иозеф почувствовал озноб и глухую тяжесть в голове. Он уговаривал себя, что просто-напросто простыл. И надо бы попросить у запасливого Зевоты хлебнуть горилки з пирцем из его тайной фляжки. Когда он болел в последний раз? Кажется, на «Виктории»? Но то было обычное недолгое недомогание.
Он был врач и долго обманывать себя не мог: у него появились первые признаки тифа, который занес в отряд ненужный солдат. И от которого умер студент. Наверное, он застонал, потому что почувствовал, что кто-то с большим и теплым телом есть рядом с ним. Это я, Верка, услышал он сквозь туман, и ему представилось, что эта большая горячая крестьянская баба сможет его согреть. Как любому тяжко больному, ему захотелось принежиться. Он мельком подумал, что по-своему и эта самая Верка – привлекательная женщина. И, едва подумав так, спохватился: коли он в грязноватой неопрятной рябой кухарке, к тому ж наверняка нездоровой, готов уже увидеть желанную панночку, значит, дело совсем нехорошо. И пора кончать гражданскую войну.
Наутро, собрав силы, он созвал бойцов и распорядился отнести его в будку путевого смотрителя. А самим приказал уходить. Неясно, на что он надеялся. Быть может, его просто-напросто посетило сильное желание умереть не на голой земле, а на кровати. Потому что все прочее стало для него далеким и неважным – это было предсмертное безразличие.
Полустанок назывался Бар. Жена смотрителя, увидев вооруженных людей, ни о чем спрашивать не стала. Она уже привыкла, наверное, к тому, что спрашивать в это безумное время бесполезно, поскольку ни у кого нет ответов ни на какие вопросы. Она велела отнести раненого в пристройку, где когда-то хранились дрова и оставалось еще сено, заготовленное для коровы. Корову давно забили от греха: кормить ее было нечем, молока она давала мало, а если пасти – видит бог, тут же отобрали бы лихие люди, какими кишела степь. Хозяйка спросила лишь, как зовут больного, и кто-то из бойцов назвал имя и фамилию Иозефа.
Зевота перекрестил его, как покойника, у него в глазах были слезы. Остальные лишь поклонились в последний раз своему батьку, и отряд поспешно ушел.
Он заставил себя выпить какого-то горячего травяного отвара, что дала ему женщина. Стало чуть легче, даже обоняние вернулось: пахло чем-то забродившим, квасом, что ли. И плесенью: то ли капусту квасили, то ли рядом стояла бочка с прокисшими огурцами. Сквозь полудрему он услышал звук работающего телеграфного аппарата. Кто его поставил, белые или петлюровцы? Впрочем, теперь это было не важно…
Иозеф попытался понять, как он оказался в этом невероятном положении. Он думал с трудом, через навалившееся безразличие, и не находил никаких внятных резонов, зачем он мечется по степи, а не живет спокойно под крышей с женой и сыном. Зачем люди не ценят простого ясного своего счастья и покоя, наивно полагая: мол, чего-чего, а уж этой-то простой, обыденной жизни никогда не убудет. Еще как убудет! Еще как будет вспоминаться всякая минутка домашнего тепла! Ему вдруг захотелось холодного узвара из сухих груш и изюма. А лучше – горячих вареников с осенними размоченными вишнями. Но одна мысль о сметане тут же вызвала тошноту.
Как и он сам, целая страна перевернула свою богатую полную жизнь вверх дном в поисках какого-то несусветного, небывалого счастья. И обрекла себя на голод, лишения, вшей и ненависть. В эти предсмертные часы он думал о том, что такие разные люди, прежде мирные студенты и смирные поселяне, теперь по всей Украине зачем-то палят друг в друга из винтовок и пулеметов. Обыватели умирают от ран и тифа. Он представил себе товарные вагоны, полные сваленными один на другой пятнистыми тифозными трупами и телами не успевших еще умереть. И видел сумасшедшие лица тысяч ополоумевших людей, засевших в окопах и ждущих, как бы прицельней подстрелить и убить своего брата. А то и сестру. И все из-за туманных глупостей и абстрактных построений таких вот, как он сам, ни на что не годных теоретиков-интеллигентов.
– А что это за история с вашим расстрелом? – спросил на одной из бесед Праведников подозрительно. – И отчего же это вы после расстрела остались живы?
– А вам и досадно. Но прикиньте: если б меня тогда расстреляли, вам не было б теперь с кем поговорить.
Следователь поднял на него тоскливые глаза и произнес с сожалением:
– Да уж не волнуйтесь, теперь на таких, как вы, самый урожай… – и осекся, что сболтнул лишнее.
– Да и палачей нашлось, верно, немало. Дела идут неплохо, так ведь?
– Это вы так называете сотрудников наших органов? – взбеленился следователь. – Людей с верой в партию, с чистыми помыслами и горячими сердцами?!
Праведников с опаской глянул на портрет Дзержинского, висевший в проеме между окнами. И хорошо не перекрестился, лишь почесал красную бровь.
– Да, это верно про горячие сердца. Забыли добавить: и с руками по локоть в крови. Что ж, самые жестокие палачи часто бывали в прошлом предателями и всегда – трусами. В мире больше трусости, чем глупости, это еще Князь говорил. И добавлял, что именно трусость рождает и глупцов, и провокаторов (49).
– А вот товарищ Сталин в письме Ленину из Туруханска назвал вашего князя Кропоткина старым дураком, совсем выжившим из ума… (50).
Иозеф только мельком взглянул на него:
– Банально до зевоты, но история повторяется: те, кто казнил королей, потом принимаются рубить головы своим соратникам по преступлению. Или гуманно расстреливать их в затылок по нынешней моде. Помните историю с Кутоном? Этот революционер, когда был у любовницы, едва пришел муж, так перепугался, что выпрыгнул из окна. Попал в выгребную яму, где сидел до поздней ночи, боясь пошевелиться. Отморозил ноги, и его парализовало. Он ездил по Парижу в самодвижущейся коляске в Конвент. Все в панике разбегались – он был самым кровожадным палачом и пачками посылал на гильотину виновных, невинных и просто первых попавшихся прохожих…
Праведников позвал конвоира, и Иозефа увели.
Расстреливать своего старого знакомца Петлюра, получивший телеграмму от осведомительницы-железнодорожницы, которой было приказано сообщать обо всех вооруженных людях, появлявшихся на станции, прислал целый отряд. Он был мстителен и не забыл постановления Малой рады в Белой Церкви. Помимо собственно расстрельной команды из трех стрелков, вооруженных новенькими австрийскими винтовками, в нее входили офицер, врач, который должен был составить и подписать свидетельство о смерти, а также униатский священник. Последнего Петлюра, прекрасно знавший атеистические убеждения Иозефа, послал, наверное, из одной своей глумливости.
Иозефа нашли в сеннике без сознания. Симптомы сыпного тифа были столь явными, что доктор не стал даже осматривать больного. Поставить больного к стенке не было никакой возможности: он валился набок и падал. Сказав, что он, скорее всего, уже нынешней ночью умрет, доктор согласился подписать свидетельство. Что ж, в те жестокие военные времена теплились еще остатки прежних представлений о гуманности. И расстреливать смертельно больных еще стеснялись. Не то что позже, во времена мирные…
Офицер велел отправить умирающего обратно в сарай. Бойцы сели на лошадей и ускакали. Последней от разъезда отправилась докторская коляска, причем доктор успел вручить хозяйке склянку, велев разбавить кипяченой водой один к одному и поить больного – каждый час ложку. Уже ночью Иозефу стало лучше.
Нина жила в Харькове, ничего не зная о муже. На окраинах не то чтобы менялась власть – власть попросту отсутствовала. Иногда проедет конный отряд неизвестной принадлежности, да ночью где-то вдалеке, в городе, прозвучат выстрелы. Однажды под ее окнами прогарцевала кавалькада совершенно маскарадного вида. Над головами конных трепыхался плакат: Украинские пролетарии всех стран соединяйтесь. В другой раз к тыну позади огорода подошел какой-то хлопец без оружия, сказал, что из зеленых, и попросил молока. Она вынесла ему кринку.
О смерти мужа Нина узнала из советской газеты, которую дала соседка (51). Та принесла листок, чтобы порадовать молодую московскую беженку хорошими новостями: о ее муже она знала лишь, что сгинул. Радость была та, что прекрасная рабоче-крестьянская власть теперь уже прочно и навсегда установилась. И всем будет хорошо. Потому наверху этой власти сам военный комиссар товарищ Троцкий…
Нина пробежала глазами всю эту чушь, рассчитанную на людей легковерных, измучившихся и ждавших хоть малого просвета, пусть немного, пусть хоть отчасти, но похожего на нормальную жизнь. Впрочем, этой фальшивой белибердой советские газеты будут полны вплоть до ее смерти на восемьдесят третьем году жизни, но тогда знать этого она не могла. Тогда ей просто остро захотелось бежать. Потому что в углу, внизу первой полосы, она заметила маленькую заметку. В ней было сказано, что крупный деятель украинского революционного движения Иосиф Альбинович М. расстрелян петлюровцами.
Об этом своем совершенно безумном предприятии бабушка рассказывать не любила. Попытавшись добраться до всевластного Раковского, она быстро убедилась, что легче было в прежние времена добиться аудиенции у самого государя императора. Молоденький часовой в буденовке, охранявший русского ампира бывший губернаторский дом, где была резиденция Комиссара Всея Украины, даже вскинул ружье, но потом мягко посоветовал уйти по-хорошему. Она взяла сына, оставшиеся деньги и чудом устроилась в военный большевистский эшелон, который отправлялся на восток – шла переброска войск с юга в связи с успехами Колчака на Урале… Газету в пути у нее украли солдаты, пустив драгоценный листок на самокрутки.
Ирина Дмитриевна Мороховец встретила ее хорошо. Но была томна. Белка по-прежнему бежала в своем колесе: не арестовали и не расстреляли. Нину и ее сына помыли, накормили, на вопрос о Борисе Николаевиче Ирина сухо ответила, что почти его не видит, он сутками пропадает в госпитале. Там у него и своя спаленка, сказала она с иронией, будто у него там и вторая жена. Служит, короче, новой власти, добавила она уже прямо раздраженно. И саркастически: а ваш муж что же, тоже воюет? Она не сказала этого вслух, но было ясно, что она думает: нашли время делать революцию, когда белке есть нечего, а у нее самой – последние чулки.
Нина не стала говорить ей, что Иозеф погиб.
Вдруг Ирина Дмитриевна спохватилась: для вас же письмо! Но нет, письмо было не от Иозефа, от Софьи из Дмитрова. В нем княгиня писала, что Петр плох, ему трудно двигаться. Но есть карточки, крестьяне приносят молоко и яйца, и Нина могла бы пожить с ними, все будет веселее. Про Иозефа она не спрашивала, скорее всего, их достигли слухи, что он погиб на Украине… Без лишних слов Нина распрощалась, обняла Ирину и отправилась на вокзал.
Пригородные поезда очень медленно, с задержками и остановками, но ходили. Когда Нина добралась-таки до Дмитрова, то в живых Петра Алексеевича уже не застала. Не было и самой княгини – ее увезли на автомобиле в Москву на торжественные государственные похороны. В прислугах у семьи была одна-единственная сильная крестьянская баба, одетая в длинную темно-вишневую юбку, мужской черный сюртук и повязанная низко черной же косынкой – видно, в знак траура. Баба назвалась Зиной, сказала, что по утрам прибирается в церкви и батюшка делится с ней, чем бог послал. А картошка этой осенью у них своя. Вы им родня будете? Барыня-то вас очень ждали. – Теперь родня, – отвечала Нина.
Иозеф тоже ухитрился невредимым добраться до Москвы. Но прежде чем объявиться к Мороховцам, пошел на Покровку. К своему удивлению, кукарекина дома он не нашел вовсе. Зато его собственный – стоял, весь залепленный по фасаду несусветными аляповатыми вывесками невиданных контор и учреждений.
Ирина не удивилась – где жена, там и муж. Она только что вышла из ванной и пахла лавандой. Как римский патриций, подумал зачем-то Иозеф. Она ни о чем его не спросила, хоть не виделись больше трех лет. И каких лет! Сказала только: Бог мой, что за времена, едва выживаем, а ведь прежде Борис мне делал такие подарки!.. Оказалось, с Ниной Иозеф разминулся всего-то чуть не на день. Она здорова, и Юрочка здоров! Чудом восстав из мертвых, Иозеф не чаял застать в живых и семью. У Ирины Дмитриевны, чувствуя пустую неловкость за свою поспешность – она его и не удерживала вовсе, – он не пробыл и десяти минут: написал скорую записку Борису и тоже поспешил на вокзал. Но Ирина все-таки сунула бутерброд на дорогу. Потянулась поцеловать, но так себя и не пересилила: от Иозефа нечисто и нехорошо пахло. Как будто чем-то кислым.
На вокзал его не пустили: ждали прибытия литерного.
Собралась большая толпа, но на вопросы Иозефа никто толком не желал отвечать, смотрели как на контру в его австрийской офицерской шинели со споротыми погонами. Однако из обрывков разговоров он понял со страшной болью: он опять опоздал. Из Дмитрова везли в Москву тело Князя.
Кто-то тронул его за рукав. Он обернулся, вгляделся и почти не удивился: это был Бабуния, он же Гоша Герц.
Гоша приложил палец к губам:
– Зовите меня теперь Мефодий Ликиардопуло.
Как все прирожденные революционеры, и этот никак не мог отвыкнуть паясничать и играть в конспирацию. Даже на похоронах. Хоть был уж и не молод. И костюм у него был как у ряженого, под стать новому имечку: какая-то овчинная, пастушеская, что ли, бурка не бурка. И совершенно необозримый кавказский какой-то картуз. На груди его красовался красный бант, в руке он держал бумажную алую розу, прикрученную проволокой к деревяшке.
– Откуда вы здесь взялись? – спросил Иозеф, уже отвыкший чему-либо удивляться.
– Выпустили из тюрьмы под честное слово. Меня и еще шестерых (52). Отдать, так сказать, последний долг. Вы ведь тоже покойного хорошо знали?
Иозеф понял: этот самый Бабуния – кладбищенский призрак революции, ходячая трагическая пародия, олицетворяющая все смертельно-карнавальное, что есть в этом странном воплощении вечной человеческой склонности к насмешке над всем здравым и здоровым. В конечном итоге склонности к самоотрицанию и саморазрушению… Он отвернулся и ничего не сказал.
Что ж, точно так Иозеф не удивился, когда на свободную койку в его камере в нижнем этаже Лубянки определили этого самого Бабуния. Старого meverick заволокли в камеру, видно – после допроса, и усадили на койку напротив Иозефа. Из носа и с губ его текла кровь.
– Bon jorno, – нашел в себе силы промолвить разбитым ртом старый революционный паяц.
– Buono sera.
– Come siete?
– Sto bene. E tu?
– Sto molto bene. Grazie…[17]
И Бабуния, точнее Гоша Герц, еще точнее – Мефодий Ликиардопуло, потерял сознание…
Но до этой последней встречи оставалось еще полтора десятка лет жизни.
Бабушка потом вспоминала, что, когда ее муж нашелся, так она выразилась, будто до того он играл с ней в прятки, она испугалась: нет, не того, как плохо он выглядел и как исхудал – что ж, один, без жены, без ухода… Но устрашилась печати какого-то смертельного одиночества, что была на его лице. Как будто он побывал там, откуда простые смертные не возвращаются…
– Собирайся, – сказал он жене как мог ласковее уже на третий день, когда прошли все первые расспросы и были даны скупые ответы. – Нам пора, Ниночка.
– Господи, куда?
– Нам необходимо вернуться на Украину. – Он говорил негромко и терпеливо, растолковывая ей простые вещи, как ребенку. – Ты же понимаешь, нужно заканчивать строить Соединенные Штаты Европы. Мы начали с Италии и Польши. И теперь закутаем всю Украину, как в плащ…
Она смотрела на него со слезами. Ей было ясно: он тронулся умом от всего пережитого. Она медленно сползала вниз, опираясь спиной о притолоку. В ее странной полуулыбке было горе и восхищение. Она его любила.
Когда эти беглые и, признаться, набросанные довольно неряшливо записки внука Иозефа М. попали мне в руки, были мною отредактированы, а самые вопиющие ошибки устранены, я свежим глазом просмотрел рукопись. И обнаружил, что для удобства читателя некоторые места в этом тексте нуждаются в дополнительных пояснениях.
1) По свидетельству жены, Иозеф М. свободно говорил почти на всех европейских языках, включая четыре славянских: сербский, польский, украинский и русский. В среде образованных людей его поколения это не было редкостью, новые языки давались им свободно. Известен случай, когда, готовясь к поездке в Швецию, князь Кропоткин за месяц до отъезда по ошибке вместо шведского языка выучил норвежский и вполне прилично на этом языке изъяснялся.
2) Точнее, для русской типографии Сажина в Цюрихе.
3) Такие же, по сути, христианские братья-протестанты.
4) Иозеф женился на двадцать лет позже Учителя, но и здесь следовал по его стопам. Князь встретил будущую жену в Женеве на поминках по Коммуне, т. е. через год после событий в Париже. Ее звали Соней, как и первую жену Иозефа М., – Софьей Ананьевой-Рабинович. Она тоже была студенткой Женевского университета и тоже биолог. В соответствии с принципами нигилистов, ими был заключен контракт на три года, без венчания, позже трехлетний срок был повторен 14 раз. Кстати, знакомство князя с невестой напоминало встречу Иозефа с его второй женой Ниной Николаевой: Софье Рабинович в Женеве однажды предложили помочь в переводе с испанского одному эмигранту; так позже и Нина Николаева пришла временным секретарем в издательство Иозефа, подменить подругу.
5) Графиня Жозефина Милатович в зрелые годы была фрейлиной австрийского двора. И воспитательницей кронпринца, с которым связана душераздирающая история, описанная в романах и попавшая на экран. В фильме «Майерлинг», по имени местечка в Альпах, где произошло двойное самоубийство принца и его незаконной возлюбленной, главную роль сыграл Омар Шариф. Принц был запутан, впрочем, не только в любовную интригу, но и в политическую: поддерживал связь с венгерским революционным подпольем.
6) Скорее всего, то было изделие фабрики Кузнецова. Но давно экспроприировали фабрику, умерла Роза, блюдо разбилось, и не у кого спросить.
7) В начале девятнадцатого века в Австро-Венгрии гонения на масонов были свирепыми, участие в ложах каралось как государственная измена. Братьев-каменщиков арестовывали в Италии и Германии, в Испании ими занималась инквизиция. Но к концу века можно было уже не осторожничать: в Италии масонов если и преследовали, то лишь по привычке, спустя рукава.
8) Ах, сколько было бы восторга, если б пан Альбин узнал, что в Триесте в начале 70-х XVIII века около года прожил немолодой уже Джакомо Казанова и написал здесь (sic!) три тома Истории смуты в Польше.
9) То есть совершенно в неогвельфской традиции.
10) В личном деле Иозефа стояла пометка: быть осторожным, подследственный способен оказывать влияние на сотрудников.
11) Должно быть, семинарского происхождения; возможно, его дед был бурсак из крестьян.
12) Англичане создавали такие лагеря в Южной Африке во времена Англо-бурской войны.
13) У Бунина рассказано, что большевики, пропагандировавшие народные массы, демонстрируя портреты Маркса и Энгельса, утверждали, что это пророки.
14) Речь идет об организации «Помгол», среди добровольцев которой были и американские граждане.
15) Эти слухи, циркулировавшие еще при жизни Иозефа М., позже вошли в повседневный обиход советской демократической общественности 60-х прошлого века как вполне доказанный факт. Но это ошибка: мозг Ленина пострадал от нескольких инсультов. Эти наветы возникли, видно, из тяги либерального коллективного подсознательного к простой симметрии: Сталин почитал своими учителями равно и Ленина, и Ивана Грозного, и как раз в оттепельные годы академик Герасимов обнаружил в костях Великого Князя Московского Ивана IV следы ртути, каковой в кромешные времена лечили сифилис.
16) И верно, этого самого «бурсака» его шеф Ежов расстрелял прежде его клиента. Или его расстреляли заодно с шефом, документов нет.
17) В те годы разлад между евреями и черными в Америке еще только намечался.
18) Кровавая Мэри – фольклорный персонаж, из тех, о ком на ночь в темноте рассказывали шепотом в палатках лагерей бойскаутов. По легенде, она могла возникнуть в зеркале и, коли с ней встретиться взглядом, выцарапать глаза. Коктейль в ее честь назвали, по-видимому, лондонские денди, бездельникам нравилась эта страшная сказка.
19) Джек Л. на Анне Стрелецкой так и не женился. Он вскоре стал мужем богатой вдовы, дамы из калифорнийского высшего общества, немногим старше его. Анна же вышла замуж за известного американского журналиста, с которым позже совершила поездку в революционную Россию.
20) Скорее всего, Иозеф имеет в виду ранний роман Евгения Замятина «Мы» (1918), предвосхитивший более поздние антиутопии Оруэлла и Хаксли.
21) Академик Тарле про этого самого доктора Франсиа писал: этот странный человек относился к религии по-вольтеровски, а к свободе по-иезуитски.
22) Иозеф переоценил неповоротливую Россию и ошибся на поколение: прошло не двадцать пять лет, а более полувека, прежде чем советский режим рухнул.
23) Здесь Иозеф в пылу беседы чуть загнул. Конечно же, не среди декабристов, а среди их знакомых, проходивших по делу, действительно было 7 князей, 2 графа, 3 барона, 2 генерала, 23 полковника.
24) Вот свидетельство очевидца: Дом Кропоткина походил на Ноев ковчег: революционер-эмигрант из России, испанский анархист из Южной Америки, английский фермер из Австралии, радикальный депутат из Палаты общин, пресвитерианский священник из Шотландии, знаменитый ученый из Германии, либеральный член Думы из Петербурга, бравый генерал царской армии – все принимались по воскресеньям… Обсуждались проблемы наступившего ХХ века. У многих было предчувствие потрясений.
25) Князь относился к масонам с интересом и симпатией. Есть свидетельство, что он считал, будто русскому революционному движению хорошо и полезно быть связанным с масонством. Возможно, он хотел этим сказать, что масоны прекрасные конспираторы и могут научить этому революционеров. Как и дисциплине, недостаточной у социалистов, тем более у анархистов.
26) Иозеф излагает теорию князя, которую вполне можно было бы назвать предчувствием синергетики. Эта современная дисциплина рассматривает многочисленные примеры коллективного, кооперативного когерентного, т. е. синхронного, поведения не только на многочисленных примерах из физики и химии, но и из биологии и даже социологии. Так что у бельгийца русского происхождения Ильи Пригожина, получившего Нобелевский приз за работы в области самоорганизации в открытых системах, были вполне солидные предшественники.
27) Гроб князя был выставлен в Колонном зале Дома труда, бывшего Дворянского собрания, где в детстве он, пятилетний, был замечен императором. Когда процессия следовала к Новодевичьему по Пречистенке, из дома Толстого в Хамовниках вынесли бюст графа.
28) Рассказчик – возможно, из скромности – не упоминает, что именно в этом зале, переделанном в театральный, через восемь с лишним десятков лет состоится премьера его первой пьесы, а между тем, это говорит нам о целости связи времен.
29) По всем приметам это был Леонид Андреев, который, наезжая в Москву из Питера, останавливался чаще всего именно в этой гостинице.
30) В середине 80-х прошлого века у рассказчика при обыске изъяли среди прочего и записную тетрадку со сленговыми городскими выражениями. Он вел ее много лет, с юности. Записи были разбиты на главки тематически: проститутки, таксисты, милиционеры, фарцовщики и т. п. Позже на Лубянке был издан словарик для служебного пользования (гриф ДСП). Трудно сказать утвердительно, что это был плагиат, но многие выражения и их расшифровки дословно совпадали с записями рассказчика.
31) Коли судить по художественной продукции издательства, Иозеф позаимствовал название у братьев Шлегелей, выпускавших в начале позапрошлого века литературно-художественный журнал Athenum, программное издание йенских романтиков.
32) По свидетельству некоторых современников, императрица, прежде чем Вырубова привела к ней Распутина, перепробовала в качестве целителей сына еще пять или шесть старцев.
33) Возможно, здесь рассказчик допускает умышленный анахронизм: А. Белый и А. Тургенева вернулись из поездки в Египет только в феврале 1911 года.
34) Скорее всего, речь идет о романе «Яма» Куприна, первые главы которого появились в печати в 1908 году; в романе были описаны киевские бордели, знаменитые на рубеже веков на всю Европу.
35) Возможно, Иозеф вспомнил эпизод, имевший место в Лондоне, когда в Королевском географическом обществе князь отказался ритуально встать вместе со всеми присутствующими при упоминании имени короля Эдуарда Восьмого; из снисхождения к анархическим взглядам старого русского чудака Prince Kropotkin, на него плюнули и разрешили не вставать.
36) В другом месте рассказчик уже описывал этот эпизод; тогда было сказано более определенно, что студентом этим был дядя будущего советского детского поэта Бориса Заходера, автора русского переложения сказки Алана Александра Милна о Винни-Пухе.
37) В те годы Триест был, что называлось, вольным имперским городом и являлся столицей Австрийского Приморья.
38) На самом деле, издательством Атенеум была издана небольшая брошюра с малым количеством цитат об этом загадочном украинском страннике-мудреце XVIII века, из народа, искателе Дома Незримого; сомнительно, чтобы это малоприметное издание, и только оно, ввело Иозефа М. в московский круг украинских националистов; возможно, дело обстояло как раз наоборот.
39) Они, должно быть, не знали окончания этого пассажа Бисмарка: на каждую вашу военную хитрость русские ответят непредсказуемой глупостью.
40) Кажется, здесь скрытый выпад против бывших веховцев, прежде всего, против особенно активного среди них Н. Бердяева, регулярно выступавшего в годы войны с политическими статьями.
41) План Рорбаха был – самостоятельная от России Украина, входящая в систему Центральной Европы. Это был тот Randstaaten, по которому немцами были воссозданы Польша и Прибалтика.
42) Братья М., а следом за ними и рассказчик, ошибаются: Павел Петрович Скоропадский поляком не был; скорее, его можно считать обрусевшим украинцем, причем родился он в Германии. После бегства с Украины жил в Берлине, где, пройдя невредимым Русско-японскую и германскую войны, погиб под бомбардировками союзников в апреле 1945-го.
43) На сей раз Иозеф ошибся в своем знакомце: как ни верток казался Петлюра, большевики его перехитрили; недолго побыв диктатором зимой девятнадцатого, он переоценил свои силы, стал по привычке предлагать большевикам какие-то компромиссы, но красные его не услышали и просто смяли его части. Тут он совершил еще одну роковую ошибку: обидевшись на большевиков, он метнулся в другую сторону и заключил договор с Польшей, надеясь, видно, сделать их союзниками; по этому договору от Украины отрезались Галиция и Волынь. Петлюра оправдывался, что Польша теперь – единственный коридор в Европу, но на Украине его поведение многие расценили как предательство.
44) Нина просто чуть опередила Раковского: тот вступил в должность в конце января девятнадцатого, о чем Иозеф, должно быть, прочел в киевских газетах. До июля двадцать третьего исполнял должность председателя СНК Украины и одновременно наркома иностранных дел. В СССР почитался как один из создателей советской власти на Украине.
45) Намек на эпизод, приведенный во второй книге Тита Ливия: спор римлян с альбанцами о местонахождении священной статуи Юноны.
46) Рассказчик здесь вспоминает, очевидно, строки из стихотворения «Тополь» Афанасия Фета:
- Лишь ты один над мертвыми степями
- Таишь, мой тополь, смертный свой недуг…
47) Здесь преподаватель латыни Зевота проявил себя профаном в области зоологии: волки, в отличие от людей, по большей части однолюбы.
48) Крестьянка между тем ничего не напутала. Нестор Махно порвал с большевиками лишь в мае, когда он поддержал инициативу создания отдельной армии повстанцев. В июне Предреввоенсовета Лев Троцкий объявил Махно вне закона за неподчинение командованию.
49) Иозеф тогда не мог знать, что Сталин работал на царскую хранку. По некоторым сведениям, которые невозможно теперь документально проверить, о чем Сталин в свое время предусмотрительно позаботился, его агентурная кличка была Оська Корявый.
50) Кропоткин отвечал им взаимностью. Из дневника 1900 года: …Вчера было собрание русское – 75-летие. Все было очень хорошо. Но ввязался плюгавенький марксида и пошел: буржуа, либералы, и все-то движение 70-х было буржуазным… Всем до того тошно стало… Я до пяти не спал, просто боль чувствуешь за этих недоумков; а их чуть не целое поколение!