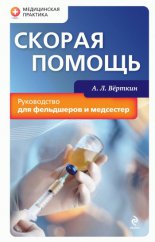Парадокс о европейце (сборник) Климонтович Николай
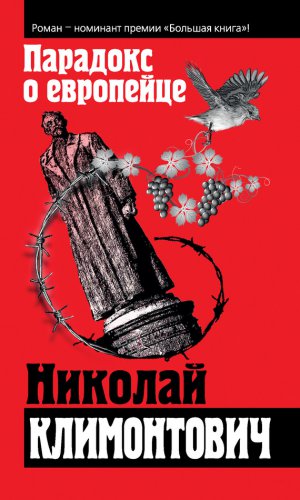
– Хватит, хватит, это так забавно: я рассмеюсь и заплачу. И что будет с моими глазами… Проводите-ка меня лучше до каюты.
Она шла на шаг впереди, ее спина в разрезе длинного вечернего платья мерцала и изгибалась. Войдете, даже не спросила, а пригласила она. Иозеф замялся, смутился и пожелал ей доброй ночи. Она взглянула на него вопросительно. Не мог же он объяснить ей, что не имеет привычки развлекать незнакомых скучающих светских дам. И не вступает в случайные связи. Но это он говорил самому себе. По чести сказать, он был донельзя сконфужен, потому что она очень нравилась ему. Он попросту сробел и струсил. Откланялся и ушел.
На другой день Иозеф не пошел на верхнюю палубу и потерял ее из виду. Лишь через несколько дней он увидел ее беседующей с дородным седовласым джентльменом, курившим сигару. Иозеф поклонился, ему рассеянно кивнули. Теперь он принялся нарочно проходить по коридору мимо двери ее каюты, но она не показывалась. Лишь однажды дверь приоткрылась, и из нее выскользнул молодой взъерошенный стюард. Подноса у него в руках не было…
И теперь в камере Иозеф усмехнулся над своей молодой нерасторопностью. И не без удовольствия припомнил фразу с последней страницы Воспитания чувств. Герои-холостяки собрались-таки в бордель в соседнем городке, но попали в выходной, и заведение было закрыто. Однако они еще долгие годы со смаком вспоминали это свое приключение.
Без малого через месяц после отплытия из Нью-Йорка, оставив позади три с половиной тысячи миль, Королева Виктория прибыла в Кобургский док в Ливерпуле. Отсюда утром следующего дня Иозефу предстояло отправиться в Лондон, позаботившись о погрузке своих ящиков. А там отплыть в Осло, откуда уже посуху направиться в Христианию. Быть может, он не знал, что почти в точности повторяет путь, каким Князь покидал некогда Россию. Но в обратном направлении.
В Лондоне его ждало печальнейшее разочарование. По тому адресу, по которому он писал Учителю сначала из Европы, потом из Америки, Князь не проживал. Он лишь нанимал узкий пенал под контору в доме в нескольких кварталах от Гайд-парка. И в этом пенале сидела не очень любезная девушка – по-видимому, эмигрантка из русских евреек. Она сказала, что не уполномочена давать посетителям адрес постоянного проживания хозяина, поскольку тот очень загружен работой. И просит оставлять корреспонденцию его секретарю. Секретарша также сказала, что в городе Князь будет не раньше, чем через месяц.
Иозеф был уверен, что Учитель непременно принял бы его. Позже он узнал, что Князь арендовал полдома в пригороде Лондона Хэрроу. Там он собственноручно смастерил мебель, поскольку любил столярное искусство, разбил огород и даже завел виноградник в самодельной теплице. Это содержалось в ответе Князя на письмо, которое ему пришлось набросать наспех тут же в конторе. Вот оно:
Милостивый Князь Петр Алексеевич! Я только прибыл из Америки, добрался до Лондона и сегодня же вечером отплываю в Европу, где не намерен задерживаться, не желая пополнять собою толпы праздношатающихся по европейским городам эмигрантов. К моему несчастью, я не успеваю посетить Вас в Вашем сельском уединении (24). Напишу Вам подробнее из России, куда направляюсь с медицинским оборудованием. Намереваюсь устроить в Москве рентгеновский кабинет, без какового современная хирургическая практика невозможна. Хочу сказать также, что Ваше имя и в Америке нынче набирает силу. И добравшиеся до Калифорнии редкие русские социалисты произносят его с благоговением. К сожалению, анархистское учение в их головах искажено, но, уверен, Ваши замечательные труды по теории анархизма, написанные еще два десятка лет назад, и сегодня найдут дорогу к их сердцам. Всегда Ваш Иозеф М.
Иозеф прибыл в Петербург, но здесь не задержался: этот якобы европейский город показался ему грубой подделкой под Амстердам. Несусветны ложноегипетские сфинксы на Морской набережной. Немыслимы какие-то греческие атланты. Италийские купола, немецкие шпили, чухонские галки на золотых византийских крестах. Здесь стояли белые ночи, страдали бедные люди, стыла в реке свинцовая невская вода, и сияли на Невском проспекте витрины французских кондитерских. Это был эклектичный парадный фасад полуазиатской империи, обращенный на Запад.
Он двинулся в благодушную Москву: там, говорят, и звон колоколов – малиновый. Там даже и в былые дворянские времена дуэлей-то почти не случалось, стрелялись все больше в болотном больном Петербурге…
У него было рекомендательное письмо к одному московскому врачу по фамилии Мороховец – доктор занимался пульмонологией и некогда стажировался в Калифорнии. Кроме того, Иозеф от кого-то слышал, будто в Москве нет ни одного рентгеновского кабинета…
Наконец дело у Праведникова дошло и до Князя.
По-видимому, чекисты взяли на обыске на даче в Немчиновке две или три давние открытки из Лондона, от января и февраля семнадцатого года: основной архив хранился в другом месте. И одно письмо из Дмитрова, написанное женой Князя Софьей в конце двадцатого года, самого бытового содержания, причем адресованное Мороховцам в Москву, но с пометкой для Нины. В нем княгиня писала, что Петр плох, ему трудно двигаться. Но есть карточки, крестьяне приносят молоко и яйца, и Нина могла бы пожить с ними, все будет веселее. Про Иозефа не спрашивала. Наверное, до них достигли слухи, что он расстрелян на Украине. Самое поразительное, что НКВД не смог точно установить имя отправителя – Князь ставил в открытках вместо подписи некую пометку, напоминающую масонский значок (25).
Вообще, чекисты работали халтурно, взяли на обыске печатные издания, но оставили все рукописи, написанные Иозефом по-итальянски. Прежде всего – дневники. И французские выписки из документов для книги о Дантоне, которую Иозеф собирался писать для одного советского издательства. Скорее всего им было лень возиться с иностранными переводами – дело-то ясное. Но забрали при этом со стены литографию портрета Пушкина – до выяснения. Так и было занесено в протокол: фотография неизвестного темного мужчины с растительностью на лице.
– Сколько раз вы виделись? – спросил следователь.
– Ни одного.
Как так?
Иозеф рассказал, что в Лондоне Князя он не застал. А когда тот вернулся в Москву весной семнадцатого, Иозеф был уже на Украине. А про себя с горечью подумал, что точно так Князь не встретился ни разу в жизни с Бакуниным: в ссылке в Сибири он его не застал, тот сбежал ровно за месяц до прибытия Князя. А в Женеву прибыл через три недели после бакунинской кончины.
Праведников попросил рассказать об Учителе подробнее. И Иозеф стал пересказывать ему то, о чем, конечно, не упоминалось в многочисленных газетных некрологах двадцать первого года.
Князь в конце прошлого века увлекся тем, что сам назвал биосоциология. На многочисленных примерах он доказывал, что теория Дарвина о борьбе за выживание в процессе становления видов, равно как и теория Лоренца о врожденной агрессивности всех живых существ, одинаково ошибочны. Все живое обладает природной нравственностью. Взаимная помощь живых организмов – вот что наиболее важно для эволюции. Его работа на эту тему так и называлась: Mutial aid as factor of evolution. Князь приводил многочисленные примеры кооперации в животном мире: совместные водопои животных разных видов, общие трапезы орлов и львов, взаимная помощь при миграциях, скажем, слонов, коллективные перелеты птиц или перемещения колоний крабов-отшельников. Наконец кооперация при строительстве муравьями муравейников, пчелами – ульев… (26)
– Я вас не просил читать биологические лекции, – перебил его Праведников. На этот раз довольно бесцеремонно. – Скажите лучше, отчего вы, такой преданный ученик, не прибыли на его похороны? (27).
– К моему сожалению, я никак не мог этого сделать. Потому что пребывал в партизанском отряде в Волынской губернии.
– И с кем же вы там боролись?
– С большевиками, разумеется, с кем же еще! Тогда все порядочные люди дрались с вами, – несколько наивно уточнил он.
Позже Иозеф вспоминал свои московские годы, как взвихренное, истеричное время между двумя революциями. Интеллигенция из зажиточных – тогда уж и некоторые купцы числили себя по этому разряду – декламировала стихи Северянина и кутила. Начинали в Эрмитаже: это называлось послушать Шаляпина, хоть тот и пел в этом второразрядном кабаке с балкончика, тесно посаженного под потолком с лепным беленым орнаментом, быть может, всего несколько раз (28). Потом на Трубной брали лихача и скакали на Тверскую, а там – к Яру, к цыганам. Упивались шампанским, кричали со слезами о грядущей кровавой революции, плакали, дрались и били зеркала…
Никого в Москве не зная, Иозеф сказал со своим легким акцентом извозчику на Николаевском вокзале, чтобы отвез его в приличный отель. Тот выбрал Княжий двор близ храма Христа. Но приезжий провел там только сутки и, изъеденный клопами, съехал на Тверскую, в гостиницу Лоскутную, наивно надеясь, что подальше от Кремля эти несносные животные поумерят свою кровожадность.
Портье принял его милостиво: гостиница была дорогая, с потугами на роскошь, шикарнее первой. Наверное, в целях дополнительной рекламы, портье указал на какого-то господина в бороде и шляпе, пересекавшего холл и, кажется, уже несколько выпившего. И шепнул, что это, мол, знаменитый писатель (29). Пишет нечто из библейского, добавил он. Долговолосый писатель и впрямь походил на русского попа.
– Да, – рассеянно удивился Иозеф, – я полагал, что в самом Писании все сказано совершенно исчерпывающе… Где вы посоветуете пообедать?
– Езжайте-ка в Альпийскую розу, это недалеко, на Софийке. Там очень порядочно. Alpenrose, любой ванька знает.
Простак полагал, что иностранец должен тянуться к иностранному. Нет, он велел извозчику везти себя в Славянский базар – не без подсказки Стивы Облонского, конечно. И предвкушал, как закажет расстегаев со стерлядью и обсыпных ситных парных калачей с паюсной икрой к ледяному шампанскому. И он откажется от сухого Dom Perignion в пользу нашего Ново-Светского…
Им овладела некая лихость, ухарство, совершенно ему не свойственное. Москва будоражила. Он вдруг почувствовал, будто он русский. Это случается с молодыми путешественниками: неожиданное преображение, странные предчувствия, неясные надежды… Иозефу на мгновение почудилось, что именно здесь, в старинной Москве, он возьмет да и станет счастлив.
Как раз о России Праведников и завел разговор в другой раз. Он сказал: коли вы, Иосиф Альбинович, явились в Россию, значит, вы любите нашу страну.
Иозефа раздражило это нашу. Он жил в России уже тридцать лет. Страна была его не меньше, чем чекистская. Другое дело, что положа руку на сердце Россию он не любил, тоскуя в ней по Европе. Тем более терпеть не мог Россию нынешнюю, большевистскую. Но начал с околичностей. Россия для меня загадочна, как и сами русские, сказал он.
– Вот как. Отчего же? Впрочем, не вы первый, Россию со стороны понять трудно…
– Да-да, часто русских очень трудно понять.
– Почему же, – ухмыльнулся Праведников, который взял тон несколько дамский, так говорят с гостями хозяйки второразрядных салонов, желая казаться светскими. И это мало шло глуповатому товарищу.
– Ну, – помялся Иозеф, даже с этим чекистом он оставался деликатным, – ну, скажем, у русских немало присказок, кажущихся благоразумному европейцу просто глупостями.
– Например?
– Например, острое наблюдение, что, неудобно, мол, спать на потолке – одеяло спадает.
– И впрямь неудобно, – ухмыльнулся Праведников.
– Или прямо-таки из Фомы Фомича народное наставление: торопливость нужна при ловле блох.
– И это верно, – сказал следователь не без намека. – А кто это, кстати, Фома Фомич?
– Опискин, литературный персонаж… И много причуд, недоступных разуму иностранца. Я никогда не понимал, отчего русские, живя в таком адском холоде, охлаждают свою водку. Ладно, американцы, те повсюду кладут лед, но у них по большей части холода недостает. А русским их водку, скорее, надо бы греть, как японцы подогревают свою саке. Или, скажем, другая загадка: уронив бутерброд, русские, чем отдать собаке, подбирают его с пола и обдувают. И, приговаривая не поваляешь – не поешь, опять откусывают. Причем это делают не бережливые крестьяне, те бутербродов с севрюгой и копченой колбасой не едят, просто колбасу откусывают, а вполне зажиточные люди… Или вот: я так и не смог привыкнуть, что в здешние гости никак не следует приходить вовремя, это может обидеть хозяев. Да и хозяйка непременно окажется не причесанной. А вот опоздание на час считается хорошим тоном, едва не шиком… Но, конечно, это все пустяки, пустяки…
– А что, у вас, – сказал следователь с нажимом, – не опаздывают?
– Ну, минут на десять, может быть… – Иозеф подумал и заговорил о другом: – Зато каков русский язык!
– Что ж, нам известно о вашем интересе к нашему языку.
Господи, опять надавив на слово нашим, этот самый Праведников стал в точности похож на полового. Сейчас скажет ну-с, я вас слушаю-с.
– Еще б не известно. Ведь вы наверняка загребли на обыске мои записки. Загребли, это верно?
– Изъяли, Иосиф Альбинович, – наставительно поправил Праведников, – изъяли! (30)
Приведу здесь отрывок из этих записок, чудом сохранившийся в записных книжках Иозефа:
Гулять свадьбу (прост.) – именно так, не гулять на свадьбе и не праздновать свадьбу; по-видимому, аналог справить свадьбу.
Прощелыга – научиться произносить по слогам.
Карачун и кондрашка хватили (последнее от имени Кондратий, так ли?).
Сбрызнуть, соскочить – наверное, воровское, скрыться, убежать
Козюлька – это такой пряник. Тогда проясняется выражение из говна козюльки не сделаешь.
Польское ругательство холера ясная здесь имеет аналог чума страшная.
Украинец скажет рыбаЛить вместо рыбачить. Характерная подмена согласных.
Кобениться, в смысле упрямиться, но ВЫкобениваться – фасонить. Какова пластика языка, а всего-то лишь одна приставка… Но корень неясен. М.б., кобель.
Куча-мала, наверное, так называлась деревенская уличная игра.
Дать в тыкву, в бубен, но – мне по барабану. Какое разнообразие для слова башка. А по барабану – означает все равно, до фени.
Удивительный синонимический ряд для fuck: по-русски любой самый невинный бытовой глагол может означать акт совокупления: жарить, парить, харить (от харчи?), гонять… Совершенный вид еще богаче: вдуть, засадить, напялить, отодрать…
Заваруха — говорят и иначе: буча. Беспорядки.
Кукситься, одно из дивных русских слов неясного для меня образования.
Капризулить сказать можно, нежиться, пожалуйста. Но образованное мною принежиться по образцу приласкаться воспринялось как забавное мое иноземное косноязычие.
Шмыгает крыса, но шмыгать носом. Возможно, это омонимы.
Валандаться и волынить, в моем словаре 1913 года выпуска этих слов нет. Смысл можно угадать из контекста. Первое, похоже, это болтаться без дела. Второе – затягивать исполнение.
Остроумное мордобитие, но непонятное мордоворот.
Странно, ни у русских, ни у украинцев нет слова для обозначения места на деревенском дворе, где колют дрова. У сербов, кажется, есть, не могу вспомнить. Причем на Балканах само это место почитается сакральным, как у русских баня, в коей обитает нечистая сила.
Отбояриться и прикарманить. Дивно! Первое это увильнуть, отговориться. Второе – присвоить.
Сапоги просят каши. Это уже поэзия, думаю, буквально и логически это неизъяснимо. Впрочем, в Англии сапоги тоже могут открыть рот.
Положить зубы на полку – голодать, это ли не образ.
Вымахал, т. е. вырос. Но уже намахал может означать много и быстро наколол дров. Кстати, глагол наколоть имеет и смысл обмануть, надуть.
Колбаситься – куролесить. Во втором глаголе явственно копошатся куры.
Бляха-муха, во блин, пидор гребаный – эвфемизмы для более крепких выражений. Как и ё-моё, ёшкин кот.
Б.Н. мне сообщил, что букву Ё в русскую азбуку ввел Карамзин, испытавши затруднения при написании слёзы. Сентименталист.
Солдатское: теперь такое будет – мама не горюй. Т. е. заварушка, тоже прелестно-выразительное словцо.
Повелись на привады. Здесь глагол имеет смысл поддаться искушению. А существительное – от привадить, так надо понимать, т. е. приманить.
Химичить – хитрить, таить.
Как вьебеню — пример обратной подмены: обычного ударю, вмажу — на нецензурное.
Мещанин. Согласно словарю, слово нейтральное, городской или посадский обыватель. Но в предреволюционной России, а потом и в советской приобрело резко отрицательный оттенок, наверное, это слово ассоциируется с аполитичностью, европейцу это было бы трудно растолковать.
Тудыть тебя растудыть — вежливо, эвфемистично.
Тебе попадет (не в смысле в тебя, но тебя накажут).
Дивное стоять на ушах или до лампочки, непереводимо.
Пожелание большевикам: ни дна им, ни покрышки. Наверное, остаться без покрышки и дна в народном сознании – одна из Дантовых адских мук.
Рассупониться, возможно, супонь это какая-то деталь упряжи.
Взыграло ретивое — о возбуждении, возможно, навеяно наблюдениями за ретивыми лошадьми.
Переборщить (сделать чего-то слишком много, пересолить, но борщ здесь, кажется, ни при чем).
Бухалово, бухнуть. Выпивка, выпить. Возможно, от звукоподражания бух. Так изображают русские звук удара колокола.
Чемоданное настроение, как точно. В других языках не нашел аналогов. Так, английское wanderlust[13] много проигрывает в выразительности…
Заварить кашу. Старинное русское выражение и весьма странное, заварные овсяные хлопья в Америке только в 10-е годы века поступили в продажу.
Борис Николаевич Мороховец оказался в отсутствии. Он теперь подолгу жил в Южной Грузии, где принял заведование туберкулезным санаторием.
– Санаторий устроил на свои средства в целебной Абастуманской долине Его Императорское Высочество принц Петр Георгиевич Ольденбургский, – не без торжественности пояснил иностранцу младший брат Мороховца Юлий Николаевич, весьма радушно Иозефа встретивший. Инженер, как выяснилось, путеец. Гостю он понравился. К тому же скоро выяснилось, что они почти ровесники, Юлий двумя годами младше.
Впрочем, сначала Иозефу понравился новехонький доходный дом на Арбате, совсем парижский, утюгом. Прекрасная чистая прихожая парадного подъезда с приглушенным светом и приятным запахом, с весело вьющимися растениями в кадках. И цветные витражи, перерезанные медными ломаными прямыми. И ковер, мягко обтекавший прохладные ступени мраморной лестницы.
Зеркальным лифтом пользоваться не пришлось – квартира была сразу над бельэтажем, во втором этаже, Иозеф взбежал по ступенькам. Хороша и дородна была тяжелого дуба дверь, не испорченная обивкой – только табличка с именем хозяина. И теплый домашний дух квартиры, и обрадовавшийся ему хозяин, и донельзя миловидная и обходительная дама по имени Ирина Дмитриевна, оказавшаяся невесткой Юлия, женой старшего брата.
И в прихожей прелестная рыжая белка в колесе, неутомимо свершавшая свой бесконечный неподвижный бег…
В своих странствиях Иозеф истосковался по уюту оседлости, по милости простой тихой обстановки и покою семейного уклада.
Однако первое время его пребывания в древней русской столице омрачили несколько обстоятельств.
Во-первых, его нашло написанное несколько месяцев назад, пришедшее в Калифорнию, а уж оттуда переплывшее в Москву – адрес Мороховцов он оставил в клинике – письмо из Польши от брата Леопольда. Тот писал по-польски, что их отец погиб в Жмеринке, упав с лесов своей новой мельницы. Кажется, писал брат, он несколько увлекался украинской горилкой. И вскоре умерла мать. От сестры Стефании известий нет. Была и приписка по-итальянски: тетка Жозефина разыскивает Иозефа, он переслал ей его московский адрес. О себе Лео не проронил ни слова.
Во-вторых, рентгеновские кабинеты в Москве, разумеется, имелись, немецкие, и его американский был на самом деле калькой как раз с немецкого оборудования, к тому же не самой последней конструкции. Впрочем, ему удалось привезенный им кабинет довольно выгодно сбыть, дав объявление в газете.
Наконец, книжные лавки обеих столиц ломились от скородельных, в массе своей очень дурных, переводов на русский Джека Лондона, который здесь был в моде не меньше, чем на его родине. А, может, и больше. В России и слыхом не слыхивали о такой вещи, как авторское право, и щедрый подарок Джека оказался в России почти бесполезен…
С Юлием Мороховцом они стали видеться чуть не всякий вечер и проводить время за крепким красным китайским чаем, взятом на Мясницкой. И беседовали, лишь для видимости двигая шахматные фигуры. Иозеф поделился своими планами устроить издательство и типографию, для чего нужно было присмотреть удобный дом где-нибудь в деловом районе. Название для издательства он уже выбрал – Атенеум (31), Юлий горячо похвалил выбор. И посоветовал район Чистых прудов или Покровских ворот. Они стали читать объявления, причем Юлий проявил такой азарт, будто это именно он собирался стать домовладельцем. И вскоре была нанята поместительная квартира в Малом Харитоньевском переулке, дом Петухова.
Отдельный дом тоже был присмотрен и осмотрен. Но с покупкой пришлось повременить, требовалось время, чтобы уладить формальности. Да и дом был невелик, типография в нем никак не поместилась бы. Что ж, на первых порах вполне можно было размещать заказы на стороне, решил Иозеф…
Не теряя времени, он переехал в новообретенное жилище, в чем Юлий ему трогательно и предупредительно помогал. Но вечерами новосел все одно приходил в приютный дом Мороховцов, тяготясь сидеть в одиночестве в своей новой и пока еще чужой квартире – холостяцкой и необжитой. Да и любезнейшая Ирина Дмитриевна…
Она все приглядывалась к Иозефу, все о чем-то выспрашивала, он не сразу понял, что это не женская к нему, Иозефу, симпатия, но острое любопытство к иностранцу, не лишенное отчасти опаски. И не без оттенка сострадания. Позже он не раз сталкивался с этим странным противоречием в русских женщинах: иностранцами они весьма интересовались, но втайне не ставили высоко, скорее жалели их за неразумие и житейскую неприспособленность. Так жалеют и остерегаются убогих.
Юлий же делал вид, что американец – не такая уж для него и невидаль. Но его выдавало то, что он все время, чуть что, принимался говорить о политике, желая, наверное, не ударить в грязь лицом и казаться передовым.
– Знаете, Иосиф, – говорил Юлий, идя вперед пешкой, – отчего империя долго не продержится. В стране не осталось ни единого человека, который бы любил династию, самого императора и его немку-императрицу…
Иозеф слушал и удивлялся. Он уже знал, что героем его нового друга является деловой прибалтийский немец, родом отчего-то из Тифлиса, Сергей Витте, сделавший для российских железных дорог много больше, чем некогда граф Клейнмихель. И еще недавно отправлявший должность русского премьера.
– Теперь Витте тоже граф, – горделиво заметил Юлий. Иозефа во второй раз удивило пристрастие интеллигентного Юлия к титулам, странное на американский демократический слух. Юлий также обмолвился, что когда он женится и у него будет сын, то назовет его в честь премьер-министра и реформатора Сергеем. Сергеем Юльевичем.
– И эти кошмарные мужики-чародеи, – восклицал Юлий в другой раз, – имеющие доступ во дворец (32). И эта удивительная склонность двора к правым, причем к правым самого грязного, погромного толка. Приверженность национализму, этой полицейской религии. Черную Сотню поддерживает даже Правительственный вестник, а ведь ни одного еврея, должно быть, при дворе в глаза не видели. Но деньги, по слухам, черносотенцам передавал сам Столыпин.
Позже Иозеф часто замечал эту странную вовлеченность в политику даже и русской технической интеллигенции, ничего толком в политике не смыслившей: что ж, тогда, во времена реакции, каждому приличному человеку полагалось быть либералом и ждать революции…
Впрочем, покончив с обязательным политическим обзором, Юлий прибавил зачем-то: вот явится Борис, он у нас мракобес. И перешел к московским богемным сплетням. Кажется, эта гуманитарная материя была ему куда ближе: попадая на эту почву, он становился ярче и говорил интереснее. Скажем, очень торжественно он объявил, что Блок в Петербурге издал новую поэму. Что Московский Литературно-Художественный кружок – понизив голос – живет с доходов игорного дома. А на месте закрытого властями Столичного утра появилось Раннее утро, газетенка вышла желтенькая, совсем бульварная. И что Андрей Белый наконец-то вернулся в Москву то ли из Парижа, то ли из Африки… (33). Юлий не удосужился пояснить, кто таков этот Белый. Однако, поймав непонимающий взгляд Иозефа, пояснил, что это сын университетского математика-профессора Бугаева, модный журналист и, кажется, стихи пишет, они жили здесь неподалеку, за Собачьей площадкой… Чем окончательно погрузил собеседника в недоумение.
В другой раз, когда Иозеф рассказал ему о своем знакомстве с Джеком Лондоном, Юлий заметил: что ж, у нас есть один очень известный автор, тоже пишет о рыбаках. И вручил Иозефу для прочтения журнал с первыми главами какого-то романа, о нем сейчас много спорят.
Никаких рыбаков Иозеф в тексте не обнаружил. Зато нашел прилежно-журналистское описание второразрядного борделя (34). Кажется, роман сочинялся из того русского интеллигентского убеждения, идущего, по всей вероятности, от французской натуральной школы, что в своей несчастной судьбе повинен не сам человек, но среда и условия жизни. К тому ж ему показалось почти детским стремление пустого и глуповатого героя девушку спасти. Притом же сама девушка, кажется, вовсе не горела желанием спасаться.
Возвращая книжку журнала, Иозеф не смог да и не посчитал нужным изобразить восторг, деликатно заметив лишь, что, кажется, здесь не обошлось без Нана. Иозеф упустил из виду, что был у автора и более близкий образец для подражания, авторитетнейший специалист по части спасения заблудших душ. И что вся русская литература давно уже жила тем, что заботилась кого-нибудь от чего-нибудь спасать. Хоть Бедную Лизу, хоть Антона-Горемыку. Иначе и роман не роман. Причем спасать даже не ради них самих, но как представителей страдающего народа. Хорошо б еще требовалось избавить героиню от конкретного злодея или, на худой конец, от пожара, наводнения или холеры. Но нет, угрозы были расплывчатыми, но от того даже более грозными. Вполне метафизической природы. Можно сказать, спасать приходилось от фатума, называемого мерзостями русской жизни. Эту нелюбовь, доходящую подчас до ненависти к своей национальной жизни, а по сути – к самим себе, с удовольствием обнажаемую перед иностранцами, отмечал с удивлением в образованных русских еще маркиз де Кюстин…
Наконец появился на Арбате и Борис Николаевич Мороховец. И сразу стало ясно, насколько он значительнее, глубже и умнее своего младшего брата, даже физическими размерами был крупнее. И тот это знал, при старшем брате ник и больше помалкивал.
– Здравствуйте, коллега. Наслышан уже о вашем появлении в Первопрестольной. Донеслось мигом, как колокольный звон по воде.
Потом Борис долго и дельно расспрашивал Иозефа об Америке. Толково рассказал о собственных занятиях. И горячо поддержал идею издательства, заметив, что в нынешних издательских домах ставку делают на коммерцию, а по-настоящему важных и серьезных книг выходит до скудости мало.
О политике он почти не говорил. Заметил лишь, что болтуны заболтают любые, самые полезные преобразования. Саркастически заметил, что вошедшие в моду марксисты очень похожи на суфражисток. Те делят человечество на две части по признаку ношения штанов. Вовсе абстрагируясь от того факта, что все женщины и все мужчины – разные. Так и пролетарий Петров отличается от рабочего Иванова, устремления у них могут быть совершенно различные: один холост и стремится как можно больше заработать, чтоб потом пошире погулять, другой – семьянин, дом себе строит. Революционеры же играют на низких человеческих чувствах, на зависти менее образованных и трудолюбивых к более удачливым, делают ставку на психологию улицы. Сознательно вызывают ненависть к классу эксплуататоров, к которому причисляются и директор, и управляющий, и инженер. Что из этого может выйти блестяще показали так называемые эсеры, игравшие в деревне на чувствах бедноты и разжигая их самые низкие чувства. В результате загорелись усадьбы, и победила архаическая община. И только начавшее было подниматься культурное сельское производство нынче грозит опять обратиться в вековую кустарщину…
– И никто не хочет работать, даже интеллигенция. У них это называется стать на сторону правительства. Глупцы, это значит стать на сторону страны.
– Так что, Борис, революция неизбежна? – не без вызова спросил Юлий.
– Боюсь, что да. И это самое страшное.
– Отчего же?
– У нас не Франция. У нас революция погубит страну. Ее будут делать торопливые люди дрожащими от нетерпения руками. Поломают все, что можно, потом растащат и поделят.
Если дать власть даже ангелу, у того вырастут рога, вспомнил Иозеф слова Князя, но вслух ничего не сказал.
– Что ж, судите сами, Иосиф, я вас предупреждал. – Юлий, улыбаясь, развел руками.
– Реакционер, каюсь, реакционер, – добродушно рассмеялся Борис.
Ирина Дмитриевна позвала к столу.
Прошло-то меньше тридцати лет со времени тех разговоров, а кажется – было в другой жизни, при другом воплощении, прав товарищ следователь Праведников. И все сбылось ровно так, как говорил тогда Борис при первой встрече в теплой арбатской мороховецкой квартире… Растащили и поделили – Иозеф все это видел своими глазами в Киеве в восемнадцатом, когда город заняли большевики. На месте старой бюрократии встало мигом множество новых административных учреждений. Страну сначала захлестнул океан крови, потом поток декретов и циркуляров. Армия комиссаров оказалась куда прожорливее прежних, царских чиновников. Наплодились какие-то комитеты, комиссии, союзы. Вспомнился огромный плакат: Главраспредваллап, комитет по распределению валенок и лаптей. Важный комиссар, должно быть, заведением этим руководил. Но не в валенках же ходил, но, став всем, в смазных сапогах, поди, расхаживал, как старорежимный приказчик. Что ж, народ народом, но себя, разумеется, не забывали, за что боролись, бытовала такая присказка…
Юлий Николаевич Мороховец женился зимой, перед самой войной. На не слишком юной и не очень красивой курсистке по имени то ли Таня, то ли Наташа, Иозеф никак не мог отучить себя путать эти русские женские имена. Он был в церкви на венчании. Вручая ему приглашение, Юлий будто извинялся: семья невесты настояла… ну, и… И шепнул: Танюша стуки слышит. Начиталась, верно, невеста какой-нибудь Блаватской. Не дай бог, столы вертит, у них в России спиритизм теперь в большой моде. Бедный малый, подумал Иозеф.
– Что ж, – вмешался старший брат, – даже Лев Николаевич, уж на что богоборец, но и он в церковь захаживал. Говорил – из предания.
– Так то, Борис, граф Толстой, – морщился Юлий…
Как ни странно, на службе в русской церкви до того Иозеф никогда не бывал. Да вообще русский храм был ему в новинку. Не считать разве того случая, когда как-то раз из любопытства заглянул в церковь по соседству с его новым обиталищем, уж очень диковинными показались ему масонские знаки на фронтоне. Или померещилось? Позже объяснилось: старинную так называемую Меншикову башню, православный храм в честь Архангела Гавриила, восстанавливал в конце восемнадцатого столетия московский богач и масон Гавриил Измайлов…
Для церемонии был выбран храм Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот, где, по легенде, с юной Гончаровой венчался Пушкин. И это было как-то чересчур: при чем здесь Пушкин. Церковь была холодная и пустая, народу пригласили немного. Но все одно казалось тесно, жарко в тяжелой волчьей шубе, душно от свечей и запаха ладана. Хотелось выйти на паперть и закурить – кое-кто тайком сбегал. Но он вспомнил, что не курит, и впервые пожалел об этом.
Венчание шло в пределе Николая-угодника, никак, в честь покойного батюшки, шепнул Борис не без сарказма. Чудотворец-то наш, итальянский, шепнул в ответ Иозеф. Угодник в полроста висел здесь же на стене. И равнодушно, с туповатой серьезностью, с полуоткрытым ртом, или так казалось из-за его бороды, взирал на церемонию. Венчающиеся стояли перед аналоем на куске розовой материи, что тоже выглядело довольно глупо. Иозефу, как почетному, видно, гостю, предложили было держать над невестой тяжелый золоченый венец. Но, по примеру Учителя, указывавшему не отступать и в мелочах от своих убеждений (35), он отговорился тем, что атеист. Но не стал распространяться, что к лону церкви Христовой все-таки принадлежит, крещен по католическому обряду.
Сам Иозеф женился через год.
Нина Николаевна Николаева, тоже по отцу полька, была дочерью шляхтича Адама Ленартовича, сосланного совсем молоденьким офицером в Сибирь за участие в очередной польской буче в шестьдесят третьем году. Отбыв половину двадцатилетнего срока, поляк получил разрешение переехать в более теплые области империи, поскольку у него открылась чахотка. Так он оказался на Волге и женился на зажиточной мещанке Крыловой, имевшей за собой, как тогда говорили, два крепких деревянных дома, один вблизи места, где ежегодно устраивалась знаменитая ярмарка.
Пан Ленартович прожил недолго: меньше чем через год после рождения третьего ребенка, он скончался. Этим ребенком и была Нина. Мать повторно вышла замуж за бездетного еврея-вдовца, выкреста Николая Николаевича Николаева, имевшего разрешение на жительство вне черты оседлости: он был владелец доходной фабрики канцелярских товаров. И все трое детей стали и Николаевыми, и Николаевичами.
По воспоминаниям Нины, отчим относился к детям с ровным теплом, и они ни в чем не нуждались. Из ее детских впечатлений Иозефа особенно позабавило одно. После того как она осталась вдовой вторично, мать сдавала комнаты студентам. Один из них, как было тогда модно, был связан с социалистами и имел даже револьвер (36). Когда в дом пришли с обыском, студент сунул опасную игрушку под первую попавшуюся подушку. Это оказалась подушка Нины. Пожилой жандарм извлек оружие и сказал девятилетней девочке укоризненно:
– Такая милая барышня, а уже – анархистка.
Нина гордилась тем, что ее приняли в театральную школу Адашева, ученика Сулержицкого. И зачислили в класс молодого горячего армянина Вахтангова, которого только что взяли в труппу МХТ. Как прихотливо и чудно€ плетется сеть человечьих судеб: Сулержицкий был некогда по поручению Толстого руководителем предыдущей, перед Иозефом, группы духоборов. И они с ним чудом разминулись в Канаде.
Помимо этого совпадения Иозефа занимало и другое наблюдение: по всем признакам Нина была в этого самого горячего армянина влюблена. Она взахлеб рассказывала, как он талантлив, так молод, а его знает вся Москва. И что с ней учится некая Сонечка, удивительная, и впрямь вся праздник, умная, красивая, и, кажется, приверженица сафической любви, болтает для шика, конечно, однополая любовь нынче в моде. И что у Сонечки есть подруга, близкая, дочь основателя императорского Музея изящных искусств, что на Волхонке, тоже еще не старая, но – двое детей от неизвестных мужей, и мрачная-мрачная. В темной челке и, говорят, известный поэт. Как-то после занятий они всей своей компанией, и Наташа Хаткевич, и Юрочка с Сонечкой были у поэтессы в гостях в Борисоглебском. Пока в гостиной пили чай и рассматривали гравюры из коллекции хозяина, Нина тайком поднялась на второй этаж в детскую, дети ей показались такими неухоженными…
После свадьбы, которую сыграли, разумеется, без венчания и отметили в узком кругу, приехали на квартиру молодожена, в дом Петухова. Их новое пристанище Нина, ребячась, сразу стала называть Ку-ка-реков дом. Несмотря на ее протесты, она была вскоре изъята из объятий Мельпомены и Талии. И отдана на женские курсы иностранных языков: кроме случайных фраз из старо-греческого, гимназической латыни и хромого французского других языков, выяснилось, она не знала.
Телеграмма из Вены пришла к Мороховцам и не сразу нашла Иозефа. Составлена она была по-немецки. Из телеграммы следовало, что графиня Жозефина Милатович прибывает в Москву поездом, следующим из Вены через Варшаву. Ist eine wichtige angelegenheit[14], тчк, эти буквы были вписаны по-русски – наверное, рукой старательного, московского уже, телеграфиста.
Иозеф встретил ее поезд из Варшавы на бывшем Смоленском вокзале. Они не виделись четверть века, и он не сразу узнал свою тетку в важной немолодой даме, за которой носильщик нес два огромных, зачем-то красных, чемодана. Зато она узнала его тут же.
– Ты не изменился, – заявила она после двойного поцелуя в щеки, буднично, словно они расставались лишь на месяц. – Пожалуй, только…
Она не договорила, вглядываясь в него.
– Опростился на русский манер, – закончил он за нее по-немецки.
– А как ты меня находишь? – спросила она его, пропустив его реплику мимо ушей. В ее вопросе не было кокетства, лишь усталая грусть.
Не мог же Иозеф признаться, что тетка, очень постаревшая, ей должно было быть уже под шестьдесят, вся задрапированная и, кажется, в корсете, выглядела на его взгляд старомодно.
– Amo il tuo odore[15], – сказал он.
Она погрозила ему пальцем.
– Ты женат? – И, получив утвердительный ответ, заявила: – Никаких l’hotel! Вези меня к ней. Хочу домой после… после Хофбурга и дворцовых анфилад.
Иозеф на всякий случай взял номер в отеле, но предусмотрел и этот вариант: он был почти уверен, что первым делом тетка Жозефина захочет увидеть его жилище.
Для тетки в Ку-ка-реку-доме была приготовлена комната, и Нина ждала с завтраком. Ей было велено специально не наряжаться, и вести себя как обычно, по-домашнему. Никаких жеманностей и светских условностей.
– Ах, Ося, какими такими светскими манерами молоденькая не случившаяся актриса может похвалиться перед придворной дамой…
Тетка, едва переступив порог, не поздоровавшись толком с Ниной, принялась озираться. Прищурившись, оглядела гостиную с низким потолком и небольшими окошками, потом довольно бесцеремонно окинула взглядом Нину, даже коснулась ее шелковой белой блузки, оглядела юбку с широким кушаком и суконный жакет. И только потом, видно, довольная осмотром, расцеловала. И добавила с сожалением:
– Вот это хорошо. Хоть ты… А то Лео, видишь ли, принял целибат.
Вечером после ужина тетка и племянник сидели в ее комнате. Жозефина сделала строгое лицо.
– Вот что, Иозеф, – сказала она торжественно, – кажется, пришла пора тебе забрать свою Нину и возвратиться домой.
– Где же мой дом? – ласково держа ее руку, поинтересовался Иозеф.
– В Италии, милый, в Италии. В Триесте. – Тетка произнесла название города по латыни Tergestum. – Где родился. Город теперь не итальянский и не австрийский, а вольный имперский (37).
– И что же я там буду делать?
– Тебя ждет твой дом, это само собой разумеется. У тебя есть профессия – не зря же ты учился в Вене. Но главное, главное: ты должен принять титул! И вступить во владение родовым замком, на который имеешь по отречению Лео все права.
– Что-что? – Иозеф решил, что ослышался. Потом понял: это и было то важное дело, с каким тетка сочла нужным приехать в этакую даль. – Мужская линия графов Милатовичей пресеклась, как ты знаешь. Старший твой брат теперь ксендз и жениться он не может… Остаешься ты.
Иозеф, как ни сдерживался, не желая расстраивать милую старорежимную чудачку тетку, весело расхохотался.
– Жозефина, какой титул! Я хоть сердцем и европеец, но по паспорту – американец. И какой там замок, эти руины не стоят… не стоят и лиры.
– Ну да… ну да, – медленно сказала она. Пристально и проницательно вглядывалась она в его лицо чуть не с легкой брезгливостью. – Ну да, вижу. Что ж, ты, должно быть, тоже с ними?
И тяжело вздохнула.
– С кем, дорогая моя тетушка?
– С ними, с этими р-революционерами…
Отсюда, с Лубянки, те предвоенные годы казались блаженными. Кто не жил в Париже до девяносто третьего года, сказал некогда Талейран, тот вообще не жил. Да, именно, кто не жил тогда в России… Москва, какая сила была в этом городе, а никто и не замечал, казалось, пригляделись, думали – само собой разумеется. И что все это будет всегда – вся эта мощь и избыток… Только теперь Иозеф это начинал понимать…
Даже этот несчастный мальчик-чекист краем ухватил старую Россию. Но уже его дети никак не смогут представить себе всю цветущую сложность того русского времени, которую оказалось так легко затоптать, залить серым цветом ношеного солдатского сукна и завалить кучами окровавленного белья.
У издательского дома Атенеум дела шли неплохо. Иозеф, очевидно, обнаружил в себе издательский талант и деловую сметку. К тому же никогда не пренебрегал советами Бориса Мороховца, который немало помог ему с выбором литературы для перевода. Дело нашлось и для Нины. Легкие тексты с немецкого и английского поручались ей. А там она сама, умница, придумала издавать летучую библиотеку – тоненькие брошюрки о русских артистах и художниках, которые в основном сама и писала. Театр она знала неплохо, а теперь стала едва не ночами пропадать у Третьякова. Был случай, когда Нина действительно целую ночь напролет – служители дозволили – просидела на стульчике перед Боярыней Морозовой.
Эти ее брошюрки пошли нарасхват – популярной литературы по искусству почти не было, знатоки и критики писали высокоумно. Пожалуй, примером доступного и ясного изложения мог служить один Павел Муратов, но тот писал все больше об Италии.
И – радость огромная – перед самой войной Нина родила сына. Казалось, их упоительное счастье – как никогда прочно. Да и прочая жизнь вокруг била ключом: балеты, скандальные вернисажи, дымные богемные подвалы, трусливый шовинизм, Арлекины. Умственное кипение в Москве было удивительное, особенно старались новые философы, недавно вылупившиеся из молодых марксистов. На всех лицах – глуповатый радостный энтузиазм. Даже и революционеров никто всерьез не принимал – так, мечущиеся где-то в глубине сцены красные маски… Декаданс декаданса, называл это время Борис.
Иозеф чувствовал себя сильным телом и бодрым душой. И дом вскоре был приобретен. И по счастью и везению именно тот, давно присмотренный, с удобным флигелем, на Чистых прудах, ближе к Покровским воротам.
Нина со страстью устраивалась, сказалась материнская хватка в делах домовладения и домоводства: салфетки, скатерти, плотные гардины на случай дурной погоды и холодных ветров. Особой ее гордостью стал фарфоровый, молочно-голубой на просвет обеденный сервиз с морозными цветами: целый выводок мисочек и тарелочек, ведомый такого размера супницей, что в ней впору было крестить младенцев. И никто вокруг, не только они, счастливцы, но и почти все знакомые, – никто не слышал тогда отдаленных грозных раскатов.
Был самый конец июля. Обычным днем Иозеф после работы спустился из кабинета в столовую ко второму завтраку, развернул утреннюю газету и шутливо сказал, намазывая икрой бутерброд, что ж, Ниночка, как всегда, все в мире начинается с сербов…
И его интуиция спала€. И ему, европейцу, ничто не подсказало, что это – начало конца. И что в Европе России больше уж никогда не состоять. И вокруг никто не верил, что пришли давно предсказанные юродивыми и провидцами тяжкие времена, разве что Борис. Но тот скептик, скептик… Слишком уж никому не хотелось верить в худшее.
Никому не хотелось, и никто не знал да и знать не хотел, что это пришла The Great War. И что продлится она почти пять лет. Что втянуты в нее окажутся десятки стран, вплоть до Кубы и Сиама. И что как результат этой войны перестанут существовать четыре империи. И мира, каким он был в том июле, тоже больше никогда не будет. И та цветущая полная сил жизнь, которой вместе со всей Европой жила тогда и Россия, тоже больше никогда-никогда не повторится.
Впрочем, и навалившаяся вдруг война на страну в Москве ничего, на взгляд, не переменила. Патриоты из Охотного ряда разгромили германское консульство, просвещенные гуляли на антинемецких сходках и митингах, целовались, как на Пасху, и на какое-то недолгое время забыли даже свой долг ненавидеть правительство. Уличные дамы с Петровского и Покровского бульваров тоже оказались патриотками, скидывали цены офицерам. Общество все пуще кутило с цыганами: еще больше перебили зеркал, дамы хохотали, и шампанское пенилось и лилось. Но чуткому уху слышна была в этом последнем карнавале истерическая нотка.
– Отчего же вы, богатый домовладелец, еще до нашей революции, в начале семнадцатого, покинули Москву и уехали на Украину? – спросил на одном из свиданий следователь Праведников.
– Надеялся, видно, обрести родину, – был с небольшой заминкой дан ответ.
Бабушка вспоминала, что как раз в начале войны, может, чуть позже, году в пятнадцатом, во всяком случае, известие о гибели Юлия Мороховца тогда еще не дошло до Москвы, неведомо как завелся в их доме на Покровке Симон Петлюра. И не он один. После того как Иозеф среди прочего, Нининой Летучей библиотеки, мемуаров Впечатления раненого в Русско-японскую войну или Среди сыпучих песков и отрубленных голов из путевых очерков Туркестана, выпустил издание трудов Григория Сковороды, им самим переведенных, в доме замелькали украинцы (38). Многие вели себя по большей части скромно, но все как один полагали, что долгожданное скоро произойдет и Украина вот-вот отпадет от России. И что Бисмарк, как видим, не был провидцем, когда говорил о незыблемости дружбы немцев с Россией, и даже о необходимости такого союза. Где теперь те заветы Бисмарка: у России нынче иное сердечное согласие (39).
Но Симон Петлюра был самым, по выражению Нины, липким. Впрочем, был он тогда еще Семен, Семен Васильевич, политический журналист из бурсаков. Неприятный тип, скользкий, сладенький, будто предчувствовала. Петлюра говорил, что служит в страховой компании, и, кажется, бухгалтером, неплохо для недоучки-семинариста. Носил всегда расшитую украинскую рубаху навыпуск, совсем сувенирную, таких и крестьяне даже на ярмарку никогда не носили, петушиные какие-то желто-оранжевые сапоги, слыл националистом.
Национализм его был веселый: он приносил с собой в их дом гитару в черном коленкоровом футляре, а когда извлекал инструмент, на грифе оказывался повязан Андреевский отчего-то бант. Чаще всего при нем была и бутыль сливянки, бог знает, где добывал он ее в военной Москве. Был он не без голоса, распевно тянул народные песни, Иозеф подпевал, улыбаясь: широкий Днипр шумел и стонал, сливянка убывала, по его уходу Нина брезгливо говорила, собирая рюмки и чашки: зачем ты его приваживаешь, вот – запел даже? Дед опять улыбался: что ж, наш Семен – щирый украинец.
– Выглядит скорее щирым прохвостом.
– Подожди, – легкомысленно шутил Иозеф, – я вот тебе еще и анархиста Нестора Махно приведу – поговаривают, вот-вот выпустят молодца из Бутырки.
Юлий погиб случайно, если можно случайно погибнуть на войне. Не в бою и не на передовой. Он был призван укреплять железную дорогу на Юге, под Харьковом, в моду входили тяжелые бронепоезда. Немцы обстреливали пути, пытаясь воспрепятствовать подвозу припасов. В одном из таких обстрелов Юлия и ранило смертельно, шальной снаряд угодил прямо в вагонную площадку, где он курил перед открытой дверью, глядя на проплывающие мимо ракиты и пирамидальные тополя…
Между тем дела у издательства шли все лучше, война помогала: был получен от генерального штаба большой заказ на подготовку и печатание карт. Так что косвенно и он, пацифист согласно заветам Учителя, уже тогда коснулся военного дела.
Получив известие о смерти брата, Мороховец-старший зачастил на Покровку, к Нининому самовару, как он выражался. И как ни занят был Иозеф, он проводил праздные вечера с Борисом. Тот оправдывался, что отрывает:
– Дома после гибели Юлика и поговорить не с кем. Ирочка не любит моих разговоров. Только шепчется со своей белочкой и пичкает ее орешками от Елисеева.
Говорили, конечно, о войне, но часто разговор расползался шире.
– Эти судорожные метания от идеи Третьего Рима к самоуничижению просто измучили так называемый думающий класс. Эти душераздирающие вопли от предчувствий особого предназначения до слезливого битья себя в грудь, мол, да, мы – провинциальные, мы толком так и не вошли в Европу. Мол, вот рыцарский замок, за его стенами цветущие европейские сады и прекрасно обустроенные селения. А где-то там, за далекой рекой, за лесами и долами – русские угодья, тайга, где можно разжиться древесиной, медом диких пчел и собольими шкурами. Наши размеры и впрямь угнетают нас самих, да и обилие природных богатств для самих невыносимо. Но обычной страной, одной из других, мы быть никак не желаем. Такая гордыня: это что ж, при такой-то широте неповторимой натуры и неизъяснимом богатстве души взять да и смириться, начать усердно и повседневно работать, как другие народы, да что ж, мы немцы, что ли! Нет, мы государства не терпим, принуждения к труду не выносим, мы – стихийные анархисты, от графа Толстого и князя Кропоткина до последнего какого-нибудь немытого монашка в дальнем скиту, до пьянчуг в захолустном трактире. И вера наша или уж самая верная, у нас Небесный Иерусалим и Христос родился под Калугой, чуть не самоходом исходил вдоль и поперек родную землю, благословляя чумазый люд, или уж – самая изуверская, на грани полного безверия и большевизма…
Разговоры эти, очень русские, были в то время почти неизбежны. Нечто подобное муссировалось в журналах и газетах. То же на разные лады звучало и в буржуазных гостиных, и в мещанских столовых, Иозеф порядком от этих бесед устал. Это были разговоры сразу обо всем, а, по сути, ни о чем, так умеют говорить часами только русские. Такая же манера была у русской публицистики – начинать примерами непременно из времен Древнего Рима и Французской революции. А когда автор добредал, наконец, до сути дела, читатель уж забывал – Татищева он читает или Иосифа Флавия (40).
Иногда Иозеф пробовал и сам вставить словечко. Так, когда речь зашла об анархизме, вспомнил:
– Знаете, Борис, когда я с духоборами добрых три месяца плыл в Канаду, очень к ним присмотрелся. Наблюдал воочию это их исступленное ожидание мистического озарения, они это называли когда Дух накатит. И мне как-то пришло в голову, что эти бунтовщики против властей и мирских и духовных по сути дела своего рода стихийные бакунинцы, и через них я и в Бакунине многое понял. Это от них его безоглядность, не анархизм даже, как отрицание государства, а полное сотрясение мира. Родись он не в усадьбе, а в избе – тоже был бы каким-нибудь хлыстом…
Но Борис смотрел на него стеклянным взглядом. Он никого не слышал. Потом тихо сказал:
– Погибло все, вот что. Россия погибла… Эту ненужную глупую войну мы проиграем, как японскую. Сил больше нет у империи, да и все разворовано. Но и Германия не победит, а погибнет. Вместе со всей Европой…
Иозефу было неприятно это почти отчаяние Бориса: так огорчает слабость в человеке, которого ты привык видеть сильным.