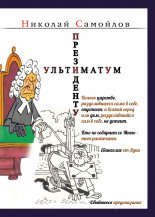Африканский капкан. Рассказы Бойков Николай

— Катюша-Корея… Катюша-мама… Девочка моя…
— Камсамида, мастер Ли… За Корею и Россию.
Восточные люди понимают слово «Родина» и пьют за нее. Как мы.
Когда компания пела, джаз банд пытался аккомпанировать и выражать всяческую симпатию. Товарищ вислоусого хохла поднялся в очередной раз, нащупал глазами джазменов и показал руками и пальцами клавиши и меха воображаемой гармони. Те поняли и притащили откуда-то настоящий баян, может проданный за стакан водки загулявшим славянином, а может забытый в угаре моряцкой драки. Товарищ присел, тронул меха, пробежал пальцами, и знакомая мелодия заплакала по-русски: «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали, товарищ мы едем далеко — подальше от русской земли…» Корейцы тоже понимали смысл песни про оставленную родину и «напрасно старушка ждет сына домой…» Вислоусый поднял тост: «За мам». Все встали и выпили стоя. Кореец в шляпе долго говорил на корейском и потом запел соло.
Все слушали молча. Песня напоминала мелодией нашу есенинскую грусть: « Клен ты мой опавший, клен заиндевелый…». Девочки-проститутки сидели смирно, грустили и чувствовали вместе со всеми. Будто жили одну жизнь. Кто-то успокаивал, целуя. Кто-то гладил или смотрел в глаза, пытаясь унять моряцкую боль. Этот бар стал заплеванным чистилищем грешников и молитвой смертных. Только смертные молились, поднимая бокалы с разбавленным виски и роняя пепел с обгоревших сигарет. А грешницы расстегивали морякам вороты летних рубах и целовали загорелые груди и шеи, шептали слова на непонятном языке, унося в поцелуях угасающие блики сознания, печали, восторга…
Тогда баянист рубанул меха, а вислоусый подхватил песню: «Распрягайте, хлоопцы, конив… а я выйду в сад зелений…». Вдруг чистый девичий голос подхватил с улицы: «…В сад криниче-еньку ко-опать…». Вислоусый встрепенулся, как конь на привязи, но бежать уже не нужно было, ибо девица явно русского происхождения вошла в бар и остановилась, выискивая глазами. Сколько нашего народа раскатилось и растерялось по странам и континентам, как яблочки по траве. Да только известное дело про «яблоко от яблоньки недалеко падает», а славянская душа одна только умеет тосковать по родной стороне, и голосу, и славянскому понятию слова «попутчик». Когда и собака у ног, и скрип колодезного журавля в памяти, и песни мелодия, и собеседник за столом случайный — все это попутчики нашей жизни. Маленькие крылышки любви и грусти. Как глаза славянской души. Вислоусый встретил ее вопросительный взгляд и показал рукой напротив себя, где понятливый кореец уже подставлял ей стул и приглашающе улыбался. Умеют восточные люди улыбкой заменять слова и сближаться мгновенно. Женщина, было ей лет за тридцать, полнолицая, загорелая, с живым белым цветком в черных волнах роскошных волос, смотрела на вислоусого, как на долгожданного родственника, где-нибудь средь дороги, ибо никого не замечала более. Он сам налил себе и ей водочки. Подал. Пододвинул тарелку с рыбой: «Звеняй, бо нема ни огиркив ни сала». — Поднялся над столом: «За дом, та дивчину в ем». — Улыбнулся ей и оба выпили, медленно, продолжая поедать друг друга глазами. Она хватала ртом воздух, в поисках подходящей закуски, но он осмелел, протянул руки и обнял ее: «А чи не лучшая закуска — поцелуй?!», — и она только засмеялась в ответ и подставила губы. Крепко и любя. А когда он отпустил ее — трудно было тянуться через стол — она упала на стул и заплакала, лицом в ладони. Это была хорошая минута. Понятливые джазмены заиграли аргентинское танго и пары потянулись из-за столов…
Ночь подходила к концу. Мы давно присоединились к компании корейцев и соотечественников. Потому что есть это славянское слово «попутчик». Есть это человеческое понятие «помочь и облегчить душу». А чем ее облегчить? Рассказать про опустевшие родные причалы, города без света, женщин-челночниц и таможенные кордоны на Керченской переправе? Не нужна эта правда позорная. Не поможет душе. Но не можем без слов о политике. Сидит в нас этот ген — ответственности и боли. И мы колупаем его, как гнойную рану, пока не пойдет кровь:
— Почему Севастополь отдали?
— Да что Севастополь, когда целую страну, как семью, разрезали: брат — в Казахстане, сестра — в Прибалтике, могилы родителей — в Крыму остались…
— Демократия! Теперь достаточно, чтобы «адвокат шустрый попался», а «честь и совесть» — теперь не в моде.
— Нет потому что такого субъекта — «родина», есть — «государство». Государство чиновников и политиков. Они его кроят и обрезают, подгоняют под себя, как костюмчик. Плох будет — другой найдут…
— На Кипре.
— Ты тоже не дома.
— Я дело свое знаю и делаю. И только «при деле» я нужен и семье и стране, если об этом речь. И себя не уроню.
— Ты из дома ушел, потому что там тебе копейки платят.
— Там ничего не платят. А я — мужик. Мне семью кормить надо. И ждать, когда государство обо мне вспомнит, не буду. А если в чем отдельно от него выгляжу, так это оно меня изжевало и выплюнуло. И меня, и тебя. Только без нас это и не государство уже, а свалка. Дурное место. Безрадостное и пустое пространство. Оно обескровило без нас. Жить перестало. Как океан, когда был бы, представь, без чаек, рыб и кораблей. Мы — кровь!
— Резон.
— Каждый живет свой вариант. Выбирает свой риск. А когда меня просят родственники: помоги устроиться. Помоги уйти на контракт. Помоги получить сертификат. — Плати деньги, — говорю, — учись, получай сертификат. — А где гарантия, что я получу контракт и верну деньги? Это же риск!? — А риск будет всегда, — отвечаю: уйти на контракт — это еще не значит получить деньги, получить деньги — это еще не значит, что довезешь их домой, потому что и таможня, и рэкет, и собственная глупость. А привез домой — новые проблемы семьи уже их, считай, израсходовали. Так что, объясняю, риск в нашей профессии будет всегда. А шторма, корабли-«калоши» 5 или малярия в тропиках — это мелочи, норма. Как говорил наш капитан: за все приходится платить: зубами, волосами, нервами, семьей… Деньгами, когда они есть, конечно, — это самая дешевая плата. И никому не буду помогать от этого риска увиливать.
— Согласен.
— А риск есть у каждого. У шофера, бухгалтера, у строителя, под кирпичом падающим… Только я выбираю — море. А что там, в этом море, со мной происходит — это мое. Не трожь!
— Согласен!
— И этот мандраж, когда весь как струна вытянут, и нервы звенят и вот-вот лопнут — это мне как чечетка души. Как второе дыхание. Как ген! Ген нации! Отличающий нас во Вселенной. Как «ура!» или «авось!» Как русское «занюхать корочкой!». Да с огурчиком бочковым! Да чихнуть «на здоровье!» Да уши надрать, чтобы отрезветь в момент. Народное средство и проверено — народом! Чувствуешь ген в себе? Конгломерат! Не можем мы затеряться. Не имеем права. Права не имеем — пропасть и сгинуть. Не пропадем! Хрен им пройдет! Мы — умнее! Талантливее! Мощнее! В нас, в каждом, крупицы души Менделеева, Пушкина, Разина, Теркина… Широта и размах, как степи на фоне гор. Ген — смеяться и выживать. Возрождаться! Мыслью и делом. Как в Штатах, представь, есть Одесса, Москва, Петербург! Будем жить, мужики!
— И дай бог — с родиной!
— Ох, любишь красиво говорить! Родину ему. Пей, давай.
— А за женщину?!
— Конечно.
— А за моряков?
— А за пароход?
— А за…
«Мы вернулись домой, в Севастополь родной…», — потянул кто-то. Корейцы пели свое. Мы — свое. Шоколадная Элизабет просила спеть какие-то Генины песни, про «красивых девочек» и про «птичку». Первой песней оказалась «Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь».
Вторую песню угадать не удавалось. Ребята слабели. Оркестранты собирали инструменты. Бармен устало протирал фужеры и пялился в экран телевизора. Братья корейцы устали, и кто ушел к девочкам, а кто спал. Девочки не расходились, отрабатывая присутствием предстоящую плату. Товарищ вислоусого с трудом выводил на баяне обрывки мелодий. Вислоусый обнимал землячку и говорил громко:
— Ты подывись, Галю…
— Я не Галю, мой хлопче. Я Люба.
— Ой, ты Люба… Люба ты голуба… Приголубе Люба молодца за чуба…
— Умаялся хлопче. Пидем домой.
— Куда ми пидем? Где наш дом, Люба? — И вдруг запел тихо и так душевно, что и корейцы подняли головы и заулыбались бестолково и дружески: «Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю…».
— Вот песня моего Гены, — залопотала Элизабет. Но она тоже путала уже слова английские, русские и африканские. Да никто и не слушал ее. Все слушали песню: «Чому я ни сокил? Чому нэ литаю?…» — Это песня моего Гены. Он поет ее сейчас и ему плохо. Так плохо ему одному. Без меня. Без товарищей. Без земли. И акула его где-то рядом с ним. Я это чувствую. — Она вспомнила их поход на песчаную косу. Как она плыла и видела акулу рядом, а Гена не видел. Как она отвлекала Генкино внимание, чтобы он не испугался. Он смелый среди людей. Но у него нет тех животных инстинктов, которые еще живут в ней — африканской девочке, внучке старого шамана. Она обязательно должна научить Гену чувствовать и понимать опасность. Животную опасность. Люди цивилизации умеют подключать электричество, летать на самолетах, но они заблудились в вещах, как в супермаркете. И начинают воспринимать жизнь и себя в ней, как картинку в компьютере. А истина в том, что миллионы лет была жизнь. И гены этой многомиллионной жизни, если их не использовать, начинают прорастать в человеческом теле и сознании уродливо, как волос начал бы расти из ладони. Как мужик бы поверил, что настоящая женщина ждет его на каком-то «сайте», а не в соседней комнате. Нет! Элизабет, научит своего любимого, как нужно ходить по Африке, не жмуриться от солнца и не боятся акул. — Девочка утерла слезу, будто почувствовала боль: что такое? Что такое со мной и Геной? Где он? Далеко ли? Жив ли?..
У жизни и человека всегда разная мера и сил, и времени. И надо рассчитать свои силы. Рассчитать свое время. Чтобы хватило определить свой вариант жизни. Определить и одолеть. И чувствовать людей рядом. Как зов крови. Как птицы летят на юг, и возвращаются на север. Как рыбы собираются в стаю. Как зов предков. Как тетива лука, оттянутая назад, чтобы спрессовать энергию и выстрелить далеко вперед. К тому, кто будет читать эти строки, представляя или вспоминая нас… или только мечтая о кочующем в океанах Морском братстве.
Еще не вечер
Гена стоял на баке траулера, у брашпиля, в ожидании команд с мостика. Судно лавировало между мелких островков, пытаясь войти в них и спрятаться. С моря вел по нему прицельный огонь легкий береговой катер.
Обычная рисковая ситуация с ловом рыбы в запретных водах. А где здесь не запретная зона? Если весь бизнес построен на том, чтобы продав вчера лицензию на вылов в определенном районе, сегодня объявить этот район запретным, конфисковать рыбу, судно, снасть, арестовать экипаж… Судить, угрожать, штрафовать, заставлять отрабатывать вину бесплатно в море или сидеть в африканской тюремной яме. Вон сколько статей дохода можно организовать вполне законно. Сколько людей оказываются при деле. Одни продают лицензии, другие — аннулируют. Одни отбирают рыбу, другие — ее продают.
Бабахнул последний выстрел из маленькой пушечки сторожевого катера, и траулер скрылся от него за лесистым островом. Солнце уже садилось в океан. Тропические закаты стремительны. И катер не имел светового времени на погоню и поиски в опасной рифами прибрежной зоне. Гена облегченно вздохнул и повернулся лицом к мостику. Именно в этот момент маленький снаряд перелетел через крону деревьев и звонко — даже заложило в ушах — взорвался в глубине ходовой рубки. Там сверкнуло. Судно резко пошло в сторону рифов и острова. Палуба под Генкиными ногами полезла вверх, и он вынужден был ухватиться за рукоятку стопора. Но движение судна замедлилось, из машины выскочили оба югослава-механика, ухватились за планширь, и широко раскрытыми глазами взирая на задранный к небу бак, буквально поползли по планширю и палубе вверх, к носу судна. Корпус заскрипел и заскулил совершенно по-щенячьи. Что-то металлически лопнуло внутри. Траулер начал сползать кормой в воду, медленно, пока на поверхности не остались лишь пеленгаторный мостик и наклоненная мачта, да бак, от палубного среза до правого клюза, одинокого, как виноватый глаз. На темной вечерней воде заплясали жировые пятна, и плавал оранжевый жилет, Бог знает, когда и какими путями попавший к ним. На судах Компании спасательных средств не предусматривалось. Кто-то, с бака не было видно — кто именно, прыгнул в воду и поплыл к оранжевому спасению. Все происходило очень быстро, но сознание фиксировало события заторможено: маленький снаряд лишил судно управления, оно напоролось на риф, и корпус наполнился водой в считанные секунды, как распоротая консервная банка. Собственно, тридцатипятилетний корпус и был уже давно консервной банкой. И поддерживался на воде лишь стараниями экипажа — старика капитана из бывшей советской Литвы и лысого одессита чифа, двух югославов и одного молдаванина механиков, русских тралмастера и боцмана, да восьмерых темнокожих матросов- рыбообработчиков.
Темнокожие братья первыми покинули борт и дружно поплыли к берегу, в темных сумерках змеились по воде серебристые струи от их вяло размахивающих руками тел, пока не скрылись. Югославы-механики сначала поймали всплывшую поролоновую подушку дивана с мостика и, только держась за нее, рискнули плыть, благоразумно рассудив, что ночной прилив все равно все накроет и что утром это место могут обыскивать посланцы с катера.
Капитан был мертв. Старый литовец сделал за свою жизнь двадцать восемь рейсов в Атлантику на всех типах рыболовных судов. Последний советский рейс затянулся на долгие четыре года. Было ли это прежнее прибалтийское госпредприятие или частная фирма — на борту толком не знали. Работали. От Канады до Кергелена, от Намибии до Антарктического полуострова. Долго не мог получить расчет, наконец, заплатили. В аэропорту Буэнос-Айреса узнал от таможенников, что вся его долларовая зарплата за четыре года, полученная им у представителя компании (молодой человек с безупречными манерами и московским выговором) в новеньких стодолларовых купюрах, что должно было составить безбедную старость и утешение семье — все это было фальшивой бумагой. Хорошо еще, что был в карманах некоторый запас мелочи. Фальшивые деньги он пережил. Фальшь людей, которых он почитал за земляков и товарищей, которым он показывал фотографии своих жены и детей, — этого он переживать не захотел. Вернулся на побережье и пошел опять в море, потому что не знал иного наполнения и лекарства души, кроме морской работы. Он хотел найти прежнее свое судно и прежнюю фирму, чтобы рассказать об унизительных стыде и обиде, но фирма избегала его. И ни одного его, очевидно. Теперь он лежал на мостике старого затонувшего траулера, укрытый полутораметровым слоем прозрачной океанской воды, в меру соленой, и самой родной. Роднее далекой и надругавшейся над ним родины.
Гена доплыл до торчавших из воды верхних контуров рубки. Заглянул в иллюминатор, который медленно утопал с приливом. Старший помощник Витя, моряк в пятом поколении, стоял по горло в воде и смотрел из лобового иллюминатора прямо в Генкины глаза. Взгляд у Вити был совершенно равнодушен. Гена проплыл к приподнятому правому крылу и поднырнул в распахнутую дверь рубки. В темной от сумерек воде он не увидел старика капитана на палубе затонувшего мостика. Только почувствовал что-то тревожно-отпугивающее в глубине под собой. Будто кто-то смотрел на него снизу. Вынырнул под подволоком, поплыл к Вите. Нащупал ногами твердое — штурманский стол. Встал рядом и опять удивился равнодушному взгляду чифа и нелепой позе. Снова нырнул, пытаясь осмотреть и ощупать Витины ноги: обе поломанные голени белели в черной воде разорвавшими кожу костями, ступни придавило сорвавшимся с крепления радаром. Гена освободил их. Витя застонал и одновременно Гена почувствовал запах крови, расплывающейся по воде от ног раненого. Вспомнил об акулах. Обнял Витька левой рукой и потянул к выходу. Нужно было подныривать, чтобы оказаться на свободе. Гена зажал двумя пальцами нос товарища и этой же ладонью сдавил ему рот. Второй рукой придавил вниз его голову и сам нырнул, сразу пытаясь нащупать освобождающейся рукой верхний срез двери и торопясь пронырнуть в него. Вдвоем. Получилось немного неуклюже и, наверное, опять больно, потому, что Витька забил своими руками, как курица крыльями, когда ей пригнут голову. Вынырнули. Отдышались, держась за козырек мостика. Поплыли к баку. Генке казалось, что плыли целую вечность и он, было, испугался, что в темноте проплыл мимо и они уже далеко от судна, но в этот самый момент буквально выполз щекой и плечом, больно ободрав кожу, на палубу бака. Срез уже был под водой, прилив делал свое дело. Вспомнив об акулах, Гена вытащил товарища из воды полностью, омыл и перетянул кровоточащие его ноги фалом от якорного шара, не нужного теперь. Смыл кровь с палубы. Южная ночь уже сияла тысячью звезд, и было совершенно невозможно определить направление на берег. Голова немного кружилась, и мысли путались. Вдруг вспомнил, что ел только утром, и было бы не плохо нырнуть на камбуз. Но это глубина не менее четырех-пяти метров и лучше дождаться рассвета, все равно в темноте ничего не нащупать, да и страшно в черной воде. Слава богу, что не было холодно. Витю он своевременно укрыл брезентовым чехлом с брашпиля и тот спал в беспамятстве.
Гена вспомнил Элизабет. Девочка из «Звезды Востока». Конечно, как у всех других девушек из бара ее настоящее имя было другим. Ее звали Нойми. Это потом, когда она выкупила его из полиции, и они пришли к ней домой, она ему призналась. А когда он пришел первый раз в бар и увидел, что двое держат ее за руки, а третий выкручивает ей губы толстыми пальцами, он просто полез на рожон. Он еще не видел ее лица и ласкового эбонитового тела, будто наэлектризованного чувственным магнетизмом. Не видел ее улыбки. Просто мужской рефлекс сработал: бьют — надо защищать. Но когда она пришла в полицию и его вызвали на свидание к ней, он просто обалдел от ее обаяния и не знал, куда спрятать свой дырявый окровавленный рот. Полицейские парни давились от смеха, показывая на него пальцем. Но это лишь первые минуты, пока она не крикнула на них, зло и громко, как на уличных собак. И они, странное дело, присмирели и посматривали теперь с интересом и некоторой завистью. В ее голосе и манере держаться были независимость и врожденная гордость. Ее дед был шаманом, и она умела держаться среди людей так же естественно и непринужденно, как кошка. И глаза у нее были кошачьи. И кошачий изгиб спины, когда она протягивала руку к нему и спрашивала в темноте: «Ты в порядке?». Она и в нем будто разбудила звериные чувства. Он стал слышать полет ночной бабочки. Он звериным взглядом останавливал взгляд птицы, когда она, пролетая за окном, нечаянно видела их, лежащих друг у друга в объятиях. Он стал ощущать ночное время по звездам, будто жил на земле тысячелетия прежде. И она жила рядом. Он запомнил тот день, когда она повела его на берег океана. Показала рукой:
— Там, — махнула небрежно, — остров вольных женщин. Когда-то туда приходили пиратские парусники, прятать добычу, покупать женщин, собирать новые экипажи. Мужчины громко кричали, грозили друг другу, убивали друг друга, пока женщины, которые правили островом, одурманивали мужчин, отбирали у них все ценное, и выгоняли опять в океан, на опасный промысел и разбой. Судили и правили. И остались жить в городе, который сами построили на золото пиратов, тех самых, которые думали, что именно они «гроза океанов», но которым не нашлось ни приюта, ни места у этих стен. Потому что они были дикими.
— А я?
— Ты? Ты — мой. Смотри! — На бегу сбрасываешь одежды. — Делай как я! — И вместе бегут они, обнаженные, в волны ленивого океана. Плывут. Целуются и ласкают друг друга на плаву. Устало переворачиваются на спины. Вдруг она приближает к нему лицо и шепчет, прижимая палец к губам. Он не понимает, но следует за ней к берегу. Она кружит вокруг него, подталкивая на мелководье. Встает и выводит его на песок. Обнимает и целует. Опять шепчет что-то таинственно, но опять Гена не понимает этих слов и смысла. Тогда она поворачивает его лицом к океану, и только теперь его пронзили одновременно догадка и страх: совсем близко, по их растаявшему на воде следу, кружат две акулы, белобрюхие в прозрачной воде, одна странно косит глазом и улыбается полуоткрытой пастью.
— Не бойся, — говорит Элизабет-Нойма, — у каждого человека есть своя акула. Она ждет только его. Это не твоя и не моя акулы. Мы не нужны им.
— А как ты узнала? Почему не испугалась?
— Африканец не боится умереть. Африканец боится потерять друга. Я всегда буду чувствовать и оберегать тебя. Где бы ты ни был…
Гена очнулся. Витя пришел в сознание и разговаривал сам с собой:
— Я в пятом поколении моряк. Два прадеда и дед в Одессе похоронены. Отец на подлодке погиб.
— Давно очнулся? Нужно тебе жгуты ослабить.
— Не нужно. Быстрее отмучаюсь.
— Брось дурить. Утром нас подберут. Доставят тебя в госпиталь.
— Какой госпиталь, боцман? Это Африка. У меня открытые переломы обеих ног. Ослабишь жгуты — продолжится кровотечение из порванных переломом сосудов. Я и так уже потерял кровушки. С рассветом припечет солнце. Захочется пить. Всякая тропическая зараза ускорит процесс. Так что, думай о себе, друг. Тебе надо с рассветом плыть к берегу и подальше уходить от этого места. Акул не бойся — с отливом опасные твари уйдут за риф.
— Я тебя не брошу.
— Со мной не будет забот утром. Я о себе позабочусь.
— Утром нас снимут аборигены или полиция.
— Помолчи. Дай сказать. Никому не рассказывал. Пять лет в Одессу не возвращался. Придешь — поклонись за меня Дюку. Мне без него грустно. Кому-то нет разницы, что терять? А меня учили: с кем — «вместе». И каждая потеря, как отрезанный палец. Я такое понимание уважаю. В католический храм заходил, свечки ставил. И в мечеть заходил, Бога молил. О чем? Бог с аллахом рассудят. Ты помнишь, как пахнут акации? Как звучит скрипка на еврейской свадьбе… Жаль, что я не научился играть на скрипке. Сколько моряков по чужим землям лежат. Так и написано на камнях и крестах: «Здесь покоится русский моряк».
— Рано ты умирать собрался. Погоди, Витя…
Но раненный уже начинал бредить. Тело его лихорадило. Гена наклонился и ослабил жгуты. В темноте было видно, как по палубе потекла кровь. Лоб чифа был горячим, и тело мелко трепетало, ослабевая. Только голос еще узнавался:
— Люблю песни украинские. Спой мне, друг. Спой мне, когда я уйду: «Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю». И прости меня. И простят пусть меня на родной земле… А дома у бабушки сейчас цветут яблони. Ласточки гнезда вьют. «Чому я ни сокил? Чому не литаю?..» То украинские слова или русские? Нет разницы. Нет границ в человеческой душе. Всю жизнь меня учили жить, но это было легко — жить со всеми. Самым главным оказывается умереть — это приходится самому… Ты слышишь, дружище, кто-то гребет веслами?
— Тебе показалось.
— Гребет. Стань повыше на бак, послушай. Может, и увидишь их.
Гена засомневался, но встал и сделал несколько шагов к борту, перегнувшись через планширь, всматривался в темную воду. Только звезды отражались в них, да шевелилась, искрясь фосфорицирующим блеском, медленная большая медуза.
— Ничего не слышно. И не видно, — сказал Гена, продолжая всматриваться. Повернул назад. — Тебе это показалось, Витя. Или ты сам придумал?
Витя не ответил. Он уже не имел времени и сил и спешил все сделать сам, оберегая товарища. Последнее напряжение оказалось для него совсем безболезненным. Наверно, душа отделилась уже от тела и не чувствовала его боли. Поэтому боцман ничего не услышал, когда руки одессита уперлись, бесшумно сталкивая собственное тело с палубы и из жизни, оставляя товарищу теплый брезент и полную свободу на пути к берегу… Гена испугался неожиданной тишины и ускорил шаги. Он скорее почувствовал, чем увидел: Вити на палубе больше не было.
— Витя! Витя-аа! — Заорал Генка. Наклонился к самой воде, стараясь уловить малейшее движение струй. Витька был где-то рядом. Видел его? Следил за ним? Где? Откуда? Разве — с неба. Генка задрал голову и будто по самые плечи вошел в звезды и закричал снова: «Витя-а!» Небо молчало. Стало страшно и холодно. Застучали зубы. Рядом с бортом плеснулась большая рыба. И снова все стихло. Генка опустился на пустой брезент, и слезы покатились самопроизвольно, как капли дождя. Он вспомнил последнюю просьбу друга и беззвучно повторял над бескрайней могилой: «Я б зэмлю покинув, тай в нэбо взлитав…»
Он не знал, сколько прошло времени. Может быть, он уснул. Но и во сне он мысленно просчитывал каждый предстоящий шаг к берегу. Витя был прав. Уходить надо быстро и по возможности далеко. Компания не прощает беглецов. Траулеры потому и работали с минимальным запасом топлива, чтобы не могли уйти. И продуктов никаких не было, кроме пойманной рыбы, банки соли и литра кокосового масла, да бочонка с водой, которые подвозили им каждый день охранники на моторных лодках. Они же и курсировали вдоль берега, контролируя работу добровольных рабов и пресекая любые пути к побегу. Полиция тоже была в доле. Он должен многое учесть и суметь, если собирается выжить. Добраться до берега — это только полдела. Но на этой половине нужно полностью сосредоточиться. Потом — будет время сосредотачиваться на другом.
До рассвета просидел молча, кутаясь в брезент. Когда небосвод начал светлеть и запели первые птицы, сразу определилось направление, и Гена медленно погрузился в воду. Решительно оттолкнулся и поплыл. В воде стало легче. Так как все страхи вмещались в ограниченное пространство, которое ощущал каждой клеточкой энергично работающего тела. Он и акулу почувствовал вибрацией воды под самым животом, и только потом увидел всплывший впереди плавник. Она сделала большой круг. Совсем так, как это обычно описывают наблюдатели. Гена задержал дыхание и погрузил голову, стараясь разглядеть на расстоянии приближение смерти. Но акула опять пронырнула под ним и опять пошла на циркуляцию, лениво помахивая над водой треугольным плавником. Гена вспомнил, как несколько лет назад они стояли на рейде Адена и самые молодые и дерзкие прыгали с борта, торопясь выскочить из воды на трап быстрее, чем трехметровые ленивицы, в двадцати-тридцати метрах от судна, повернут в их сторону. Сам пробовал несколько раз, испытывая шокирующее возбуждение от собственного страха и криков товарищей. Игра прекратилась мгновенно, когда акула вынырнула одновременно с прыгнувшим смельчаком, которого буквально выдернули на трап, и он только спрашивал с истерической улыбкой: «Как мы ее не заметили?»…
Когда акула в третий раз поднырнула, и тугая подводная волна от ее морды упруго шевельнула под живот, боцман озверел и нырнул ей навстречу, выставив обе руки и растопырив пальцы. Глаза ее оказались совсем близко, и он рванулся достать их и вырвать, но дыхания не хватило, и он только выдохнул в морду весь запас воздуха, громко вспузырившегося, и всплыл, совершенно готовый к схватке. Он даже забыл, что не может дышать под водой! Он стал зверем. Беспощадным. Голодным. Злым! Он нырнул еще несколько раз, вращая головой во все стороны и пытаясь высмотреть чудовище. Видимость была достаточной, но акулы не было. Вынырнул. Огляделся. Нырнул снова и опять вынырнул без добычи. Акула ушла. Он продолжал плыть. Равномерные движения руками из стороны в сторону и навалившаяся усталость наполнили его безразличием и апатией. Солнце поднималось все выше. Прошло много времени, когда он сообразил, что берег уже близко, а акула больше не появится. Снова зашептал в уши страх: «Что может составить ему опасность теперь? Чего он не видит или не знает? К чему надо быть готовым? Кто поджидает его впереди?». Несколько раз пробовал нащупать ногами дно. Разглядывал песчаный обрыв, большое зеленое дерево с торчащими прямо из моря кустообразными корнями. По корням ползали мелкие красные крабики. Гена коснулся этих корней ладонями, корни оказались скользкими. Крабики разбегались и следили за ним круглыми глазками. Ощутил дно ногами. Коралловый песок был очень шершавым и жестким. Когда вылез на обрыв и увидел широкую песчаную отмель, за которой начинался девственный лес, снова поднялся и сделал несколько шагов. Мысли были только абсолютно практические: «До наступления дневной жары надо уйти в лес. Больше всего боюсь змей. С людьми можно выжить. Надо искать речку. Какой жесткий песок. Надо чем-то обмотать ступни, чтобы след не кровил и не привлекал зверя. Как далеко по этому песку мне идти домой, но я дойду… Яблочку до яблоньки — не далеко…».
Сердце колотилось бешено. Перед глазами плыли радужные круги. Он вспомнил уроки девочки-шаманки: «Если хочешь пройти лес и остаться живым — ощути свою прежнюю жизнь. Кем ты был раньше? Спроси себя. Ты был рыбой? Ты был пауком? Ты был пантерой? Спрашивай себя и слушай, что говорит тебе твое тело».
Элизабет кладет свою ладонь ему на грудь и спрашивает:
— Ты помнишь, как журчит вода? Ты хочешь пить? Как ты подходишь к реке? Ты оглядываешься? Кого ты боишься?
— Я боюсь змеи.
— Хорошо. Значит ты не змея и не крокодил. Ты не рыба. Может ты — обезьяна? Нет, я чувствую, как напряглись твои мышцы от этих слов — ты хочешь биться и готовишься к схватке. Ты крупный и опасный зверь. Может быть, ты — человек. Ты самый сильный. Ты видишь глаза хищника в листьях дерева? Не смотри на него. Тебе нет нужды драться с ним. Ты идешь мимо. Иди мимо. Только не подходи близко и не подставляй спину. Остановись. Осмотрись и восстанови дыхание. Постарайся услышать, как шелестит трава под телом скользящей змеи. Не бойся ее. Она тебя видит и скользит мимо. Не делай резких движений. В лесу много того, что может лишить тебя жизни. Но самая большая опасность для тебя — ты сам. Слушай и контролируй себя. И другие почувствуют сразу твою силу, и будут обходить тебя. Сила заключается в том, чтобы чувствовать себя, слабого или сильного. Так выживает все живое. Научись жить в равновесии с самим собой, таким как ты есть. Обезьяне не стать львицей, а слону не лазить по деревьям. Дедушка-шаман говорил просто: «Попугаи живут попугаями, змея только ползает и шипит, огонь может быть большим и страшным, а вождь племени не ходит походкой пастуха коз…».
Гена давно уже шел под большими деревьями какой-то звериной тропой, и внезапное чувство заставило остановиться. Свисающая в двух шагах справа древесная гадюка скользнула на нижнюю ветку и утекла по ней желто-серебристой струйкой. Мохнатый паук в паутине ожидал жертвы. Ветка впереди продолжала качаться, будто с нее только что взлетела птица. Но птица не взлетала. Он бы услышал ее крылья. Глаза стали буквально прощупывать каждый лист и лиану, отделяя траву от ее тени, а блик света раскладывая на спектры. Слух обострился так, будто каждая клеточка кожи была сонаром. Головка змеи появилась рядом с плечом, но и змея — слушала. Воздух вибрировал комариным полетом и слоился потоками разной температуры и запахов. Генка увидел: за большим деревом стоял африканец в камуфляжной форме. Гена потеснил плечом ветку со змеей, косясь на нее одним глазом. Змея не шевельнулась. Он тенью протиснулся под нее и листья, уполз в сторону. Выглянул, разглядывая лицо противника: человек спал, облокотившись на ствол дерева, автомат торчал из-под руки, как палка. Первым желанием было — напасть и отобрать оружие. Голос Элизабет сказал совершенно отчетливо: пройди мимо. Он замер. Двигаться было нельзя, но и долго сохранять неподвижность — тоже невозможно. Гена продолжал поглядывать на змею. Осторожно начал наклонять ее ветку к другой, уходящей под ноги спящего. Змея приподняла головку и глаза ее встретились со взглядом боцмана. Несколько мгновений они смотрели один на другого, потом — змея отвернулась и заскользила с ветки на ветку, в сторону спящего. Оттуда, из листьев и теней взмахнула крыльями птичка и уселась над головой. Спящий открыл глаза и резко ударил ногой. Целый рой звуков, будто ветер вздохнул, разбудил чащу. Кто-то побежал по воде совсем близко. Стая обезьян запрыгала в макушках деревьев, и над головой неслись визг и шуршанье потревоженных листьев. Голос окликнул со стороны на непонятном языке, и Генин сосед в камуфляжной форме выпрямился, потер лоб ладонью, и только тогда ответил длинной и монотонной речью кому-то за деревьями. Потом он двинулся в сторону напарника, продолжая что-то бубнить, будто разговаривал сам с собою, и шаги его громко отдавались в Генкином сознании, как утихающий сигнал отзвучавшей тревоги. Потом стало слышно, как двое рубили кусты и листья, удаляясь, и боцман, совершенно не рискуя быть услышанным в этом шуме, пошел, сохраняя безопасную дистанцию, но и не теряя противника. Теперь у него были и его тропа, и позиция, и явно обозначенный враг. Он почувствовал свой кураж: «Держать удачу, как говорил капитан! — шептал боцман. — Еще не вечер», — и зло сжимал губы.
Побег
«Опасность!» — мелькнуло в сознании. Но было уже поздно: тугая петля в траве подсекла ногу, и тело мгновенно перевернулось в воздухе, подлетев и повиснув в трех метрах над тропой. « На такой глупости попался, дурак!» Шедшие впереди охранники продолжали свой путь, ничего не услышав. Наверное, они знали о капкане и обошли его. А может, заметили и обошли. А он — Генка-боцман! — не заметил. «Что такое? Что такое?! Сколько теперь висеть? Час? Два? Сутки? Спокойно. Нож висит на поясном ремне. Вынуть нож из кожаных ножен, изогнуться и достать петлю левой рукой, правой — пытаться резать. Скорее, пока голова не затекла…» В тот же миг увидел под собой двух чернокожих, деловито растягивающих под ним тонкую сеть. Эти были другими — без автоматов и униформы, в шортах и босиком. Один — палкой — выбил из его руки нож, другой — проворно за что-то дернул в листве, и Гена упал в сеть и был мгновенно завернут в нее: «Однако, — успел подумать, — отработана техника». Чернокожие просунули в петли сети длинный шест, вскинули на плечи, и Гена заболтался под шестом в такт шагам носильщиков, как обезьяна в веревочной клетке. «Обезьяна и есть, — продолжал рассуждать мысленно. — Тупой. Теперь только смотреть. И запоминать. Дорогу. Приметы. Приемы ловцов. И ждать».
От ритмичного покачивания и затекших рук-ног стало убаюкивать. Но комары облепили лицо и оголенные части тела, попискивая и покусывая. «Малярию бы не подхватить». Ловцы торопились, почти бежали по еле видимой тропе. «Торопятся. Или скрываются». Минут через двадцать вышли на берег узкой протоки. Небо над головой все еще не просвечивалось, закрытое плотной кроной деревьев.
Боцмана в веревочной клетке бросили на землю. Сами нырнули в траву и вытянули оттуда, направляя в воду, небольшую пирогу. Положили в нее пленника и соскользнули сами, на ходу, один сел на носу с шестом, другой сзади, успевая подгребать коротким веслом. «Ловкие парни», — отметил боцман.
Протока быстро расширялась. Лес прорезался. Показались небо и солнце. Все стало светлым и ярким. Гена приподнял голову, стараясь лучше видеть. Носовой оглянулся на него и сказал что-то певучее кормчему, тот плавно вынул весло из воды, приподнял, так что веер сверкнувших на солнце капель рассыпался над пленником, и резко ударил по голове. Гена отключился.
«…Кажется: работает судовой двигатель. Покачивает». Открыл глаза: свет палубной лампочки освещает корму и кильватерную струю, убегающую в темноту. Он сидит в узкой деревянной клетке. Еще три стоят рядом. Две — пусты. В последней — сидит и смотрит на боцмана, не моргая, полуголый соплеменник. «Люди в клетках смотрятся грустно», — машинально подумал.
— Живой? Ну и, слава богу. — Сосед заулыбался и показал на свою щетину: — неделю не брился уже, представляешь? Все отобрали гады. — Гена молчал, медленно приходя в себя и прислушиваясь к добродушному голосу. Сосед продолжал: меня на пути с парохода в аэропорт взяли. Думал, что закончились мои приключения и через пару дней буду дома, но не судьба. У них этот бизнес торговли моряками хорошо налажен. Меня Николай Лукьянович зовут. Можно просто — Лукьяныч. Из Туапсе. Точнее — был из Туапсе. Теперь я здесь — старожил. Третий год. На этот борт уже четвертый раз попадаю. А ты?
Гена хотел ответить, но получилось одно мычание и боль во рту.
— Помолчи, если больно. Успеем наговориться.
— Гена потрогал рукой лицо и зубы, во рту было одно крошево. И боль.
Сосед сострадательно пояснил:
— Ты, когда тебя вывалили на палубу в веревочной сети, оказалось, зубами ее погрыз всю. До дыр. Это без сознания-то! Ну, туземцы и поработали веслом по лицу и телу, чтобы вещи не портил. Терпи казак. Злость есть — это хорошо. Но зубы береги. Вообще себя береги. И характер, главное, на показ не выставляй. Умнее будь — сиди в панцире, береги зубы. Ты же моряк? А у моряка панцирь, как мозоль, как десятая шкура нарастать должен. К друзьям притираешься ли, к каюте привыкаешь, с семьей не порядок — вот мозоли и шкуры твои. А что в клетку посадили — так дикий народ потому что, Африка. Ты уж прости. С юмором относись. Дикий народ. Но будет, что на старости внукам рассказать. До внуков-то тебе далеко еще, жить да жить. Или с корешами за пивом, представляешь, воблочку разломишь и небрежно так: «Дааа, — протянешь, — когда в Африке в клетке сидел, так пивка захотелось». — Будут, будут еще и друзья, и пиво с воблой. Не кисни. И не возражай. Помолчи. Тебе отлежаться надо… Я, можно сказать, соскучился по разговору. А сам с собой поговоришь разве? Это все равно, что пить в одиночку. Не модно. Не по-морскому. Нам сейчас без трепа никак нельзя. Понимаешь? Моряк без трепа, как краб без клешни. Всякое дурное положение имеет одну, как минимум, положительную сторону. Какую, спросишь? Клетка? Зато есть время поразмыслить. Очень способствует философствованию. Была у тебя такая возможность последние месяцы? Точно отвечаю — нет. Иначе не попал бы сюда. Посиди, оглянись, вспомни и подумай, где и почему ты поступил как пацан. Очень наглядно демонстрирует сидение в клетке человеческую глупость. Кто нас сюда загнал? Сами. Ты же сам в море шел? Просился, наверное? Может, и взятку давал кому-то? Поверь, земляк, по себе сужу. Здесь тысячи нашего брата, а послушаешь, что говорят — так одно и тоже. Того дядька обещал устроить на хороший пароход, но надо сначала на плохом сходить. Тому брат «золотой рейс сватал», но сертификата одного не хватило. Этого на такой хороший контракт звали, но английский учить надо было. Ловчили «проскочить на шару». Проскочил? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот и вся философия… Философствовать, делаю я первый мой вывод, хорошо в кабинете или гальюне. Факт. Второе: философствовать лучше молча. А то — какой резон громко и красиво обосновывать аргументы своей правоты, сидя за решеткой? Чего ты там, спрашивается, оказался, если такой умный? Третье, как в старом анекдоте про обезьяну и банан, знаешь? Обезьяне экспериментаторы палку подсовывают и говорят: думай, как банан с ветки достать… А обезьяна палку отбросила: чего думать, говорит, когда дерево трясти надо! Вот это для нас, которые мозолями думать привыкли. Молчи, копи злость и силу. Отсыпайся, пока время есть… Спишь что ли? Молодец. Спи… Спи парень. Выберемся.
Гена попытался задуматься, но было устало и безразлично, и сознание снова поплыло в приятные воспоминания и голос Элизабет: «Гена, я тебя люблю. Я никогда не целуюсь в губы. Секс — это секс. А поцелуй — это любовь. Мне так нравится целовать тебя в губы. Хочешь пить? Я тебе принесу в клювике, как птичка, хочешь? Подставляй губы, русский мой…» — Сама набирает в рот из чашки и наклоняется к его лицу. Целует в губы. Он чувствует, как маленький ее язычок просится к нему в рот и следом приятная влага перетекает из нее в него. Ласково. Становится тепло и уютно. Он расслабленно улыбается. Что такое? Что такое?..
— Открывай! Открывай рот! И глаза открывай, хватит придуриваться!
Гена открывает глаза, медленно осматривается: утро, судно мерно раскачивается на широкой зыби. «Значит, вышли за риф. Стоим на якоре или лежим в дрейфе. Голова работает, значит — жив».
Волосатый кавказец в спортивных трусах, сидел перед ним на корточках и промывал ему лицо обрывком старого бинта, периодически смачивая его в палубном ведре. Вода была горько-соленой, океанской.
— Очухался? — голос кавказца потеплел. — Я тебя так долго жду, слушай.
— Неужели? Попить дашь? — спросил боцман.
— Конечно. — Протянул пластиковую бутылку с мутноватой жидкостью.
Гена припал к горлышку и выпил все, не отрываясь.
— Спасибо. Почему не нарзан?
— Шутишь? Молодец. Привыкаешь.
— К клетке?
— Зачем клетке? Ты где, слушай?
Гена осмотрелся. Клетки стояли за спиной. Он лежал на палубе. Теплой и вздыхающей, как грудь живого существа. Родного.
— Ты на борту. Как дома почти. Ранки прополощи морской. От заразы.
— Губы болят. И зубы… — попробовал улыбнуться.
— Не беда. Не морщись. Пару дней морской водой пополощешь, ушицы попьешь, все пройдет. Гоша меня зовут. Георгий. Из Сухуми. Сухуми знаешь?
— Бывал. До перестройки.
— И я — до перестройки. Теперь там война прошла. Знаешь? Дома нашего и нашей улицы нет. Трава и камни. И людей нет. Я земляка встречал, он рассказывал. Слушай, все вместе жили. Грузины, мегрелы, абхазы, греки. Как соседи, как родственники жили. Эти политики, слушай, брата с сестрой врагами сделают, если на этом заработать можно. Я в море ходил, чтобы заработать. Отец мой — кирпичи клал, строил. Брат — баранку крутил, слушай. Эти политики — чем зарабатывают? Войной. Бог видит? Почему не накажет? Здесь тоже порядка нет. Такая земля красивая. Как Сухуми. Мы на супере6 стояли под берегом. Ночью. Я на вахте был со вторым7. На шлюпках часто местные подходили, закурить, воды попить. Почему не дашь? Дашь. Зачем плохо сделали? Как они меня в шлюпку сняли? До сих пор не понимаю? Представляешь? В яме сидел, в клетке был, ногу вот, — показал левую ногу, бугристо и неправильно изогнутую и покрытую грубыми шрамами, как чужой кожей, — крокодил изжевал. Но не по вкусу оказался, слушай, — засмеялся сквозь короткую бороду. Глаза были веселые.
— Может не по зубам крокодилу морской народ, — улыбнулся в ответ и протянул руку. — Меня Гена зовут. Боцман. Одесса. — Обменялись рукопожатием. — А где мой ночной сосед по квартире?
— Лукьяныч? На камбузе. Проворный мужик. Не пропадем.
— Что за « корыто» 8?
— Бункеровщик. Экипаж сборный. Пересыльная тюрьма. И карантин. От малярии. С берега — сюда. Отсюда — продают на траулеры. Можешь удачно попасть. Может, и деньги платить будут. Может, и домой попадешь.
— А ты — чего же застрял?
— Три раза убегал, слушай. Последний раз до самого аэропорта в Дакаре добрался. А документов нет. Поймали, вернули.
— А деньги где брал?
— В компании платили. У меня в советских9 сумма была не малая.
— В каких?
— В советских, — Гоша сам засмеялся. — Представляешь, мы, дураки, и подумать не могли здесь, что Союза-то нет, значит и денег советских нет. Ты мог себе представить, что Союз развалится? И я не мог. А нам компания исправно в советских платила. Могли мы подумать, что нам туфтовые деньги платят? Советские, но туфтовые? Никогда не могли. Смехота. Дурные были.
— Мы же верили.
— О чем говоришь, слушай! Как можно обмануть было? Грех! Мамой клянусь!.. О, Лукьяныч идет — завтрак будет…
Лукьяныч осторожно нес кружку. На голове была пилотка из старой газеты. На голом животе подвязан кусок цветной ткани — фартук. Остановился в двух шагах:
— За освобождение из клетки надо было бы чего покрепче, но — прошу извинить. За неимением. Ушицы глоток, больному. Рыбу любишь?
— Он из Одессы. Боцман. Геной зовут. Мамой клянусь, — ответил Гоша за больного и сам потянул руку. — Пробу снять. Положено. — И первым глотнул из кружки.
— Ты, я смотрю, парень не промах. Гене оставь. Пробуй, Ген, не стесняйся. А минут через десять приходите завтракать. Команда уже ест. Мы сегодня, как вновь прибывшие, в последнюю очередь.
— Гена оглянулся на три пустые клетки за спиной:
— Снова не посадят?
— Здесь работать надо. Зря не кормят. Работать не будешь — самого на приманку используют. Коммерческий поток. — Лукьяныч снял пилотку, протер ладонью седой пух на лысине, продолжил, — пока не высовывайся особенно. Гоша позовет тебя, когда надо будет. Основная работа ночью. С ним в паре на шланговке будешь. Работа не сложная. Жить можно.
— А бежать?
Лукьяныч глянул на Гену, потом на Георгия, усмехнулся, взял в руки палубное ведро с остатками воды и, резко развернувшись, выплеснул за борт. Продолжал держать пустое ведро и смотрел на пенистые брызги, которые медленно таяли на волне. — Смотри! — Метрах в пятнадцати от борта приподнялся плавник. — Видишь треугольный перископ? То-то. Со шланговки тебя не продадут куда попало. И сам будешь видеть многое, потому что на палубе. Старайся больше знакомиться, говорить, спрашивать. Нам смотреть и выбирать ситуацию — самое важное. Пошли завтракать. — Сам пошел впереди, походкой «не пастуха коз». Утром он был не похож на себя вчерашнего.
Гена не удержался и тихо спросил Гошу:
— Гош, а ты Лукьяныча давно знаешь?
— Встречались.
— А он кто?
— Как кто?
— Повар? Капитан? По профессии — кто?
— Может и капитан. А может и повар. Но главный. Мамой клянусь…
Лукьяныч оказался старпомом с большого морозильного траулера, захваченного местными властями и угнанного куда-то на продажу. Часть экипажа сняли с борта и распределили по судам, обеспечивающим местный рыболовный бизнес. Хорошие специалисты получали зарплату и даже отпускались с деньгами домой, если по дороге им удавалось избежать других криминальных группировок, как правило, владеющих информацией и возможностями, чтобы перехватить «вольного счастливчика» и вернуть на «свое» судно. Капитанами судов, формально, были назначенные из людей охраны. Работу выполняли плененные специалисты. Лукьяныч был за главного на бункеровке и мостике. Капитан-охранник только следил за повиновением, с виски и сигаретой в руках, и пистолетом в поясной кобуре. Гена увидел его в деле на третий день. К вечеру.
Заканчивали бункеровку малого траулера с закопченной тряпочкой вместо флага и замазанными иероглифами на носу. Это был восьмой или девятый с начала суток. Трал они взяли на борт перед самой швартовкой, и африканцы на корме траулера продолжали сортировать рыбу из вываленной на палубу кучи. Два механика, оба африканцы, следили за шлангом, воткнутым прямо в открытую горловину топливного танка. Технология бункеровки была упрощена до безобразия, чтобы залить двадцать тонн в максимально короткое время: двадцать пять-тридцать минут. До конца суток ожидалось еще два-три «рыбака». Крупная зыбь раскачивала суда, и приходилось держать швартовые концы и бункеровочный шланг свободно, чтобы суда не сближались и не сталкивались бортами. Свисающие с бортов и два небольших плавающих на воде кранцев, предполагали защиту от возможных навалов, но грозили зажать шланг, который, в этом случае, мог лопнуть и выплеснуть топливо на палубы обеих судов и в воду. Первое грозило пожаром. Второе — загрязнением моря и уходом рыбы. Лукьяныч сидел на монифолде10 у бункеровочного счетчика и держал на коленях переносной пульт дистанционного управления насосом. Швартовые команды на баке и корме оставались в готовности и следили за концами.
Капитан траулера наблюдал за бункеровкой из рубки.
Капитан-охранник бункеровщика, прозванный почему-то сухопутным словом «шакал», вышел на крыло мостика, высматривая что-то на траловой палубе «рыбака». Крикнул капитану траулера, который немедленно прокричал по-своему на корму. Африканцы-тральцы, перестали возиться с кучей на палубе и наперегонки бросились выбирать по сортировочным ящикам, затребованный с бункеровщика сорт рыбы, покрупнее и лучше. Нашли несколько, в отдельном ящике, на двух концах «телефоном»11 начали передавать посылку с борта на борт. Все следили за успехом операции. Вздохнули облегченно, когда подбежавший повар бункеровщика принял рыбу и выразил свой восторг. Старший тралец повернулся к капитану-охраннику и, заискивающе улыбаясь, прокричал просьбу дать сигаретку. Все заинтересованно замерли. Стало слышно, как плещет меж бортами вода, скрипят кранцы, кричат чайки, всегда особенно многочисленные и наглые, когда выбирают трал и придавленная рыба в избытке плавает под кормой. «Шакал» поставил свой стакан с виски на планширь, на минуту ушел в рубку, вернулся на крыло с пачкой сигарет, целой и завернутой в целлофановый пакетик, оглядел всех, испытывая ожидание, взял снова стакан и на его место положил приготовленный подарок. Сказал громко: «Это — после бункеровки. А пока — вот!» — и выпустил неожиданно, как фокусник из горсти, три сигаретки. Наверное, так бы смотрели на падающие с неба долларовые бумажки. Сигаретки крутились в воздухе и падали между бортами. К ним тянули руки оба механика у горловины со шлангом, к ним бежали тральцы с кормы, скользя на рыбной слизи и падая. Один из рыбаков-механиков поймал первую, подхватил в полете вторую, но не смог удержать и рухнул под ноги напарника. Оба повалились на шланг, который мгновенно выскочил из горловины, упруго ударив в фальшборт. Голубая маслянистая струя плесканула по палубе и надстройке. — «Стоп! — сам себе крикнул Лукьяныч, вжимая кнопку « стопа» большими пальцами обеих рук одновременно. Шланг обмяк. Механик, поймавший сигарету, держал ее на открытой ладони и виновато смотрел вверх, на обоих капитанов. Другой ползал на коленях по палубе и вытирал ветошью потеки топлива. Капитан траулера незатейливо выругался и скомандовал передать шланг на бункеровщик и отшвартовываться. Один продолжал лазить на коленях, другой, с помощью двух матросов, передавал на оттяжках шланг. В этот момент «шакал» размахнулся и бросил стакан в сторону механиков. Стакан ударился в надстройку траулера, рядом с механиками, громко лопнув.
— Пожар! — крикнул кто-то, и все увидели, что по надстройке траулера в месте удара стакана, вспыхнула и побежала розово-фиолетовая струйка.
— Горловину закрывай! — крикнул Лукьяныч на траулер. — Сбивай пламя курткой!
Черные тела с траулера начали прыгать на бункеровщик. Кто-то упал в воду. Ползавший на коленях у горловины, упал на нее своим телом, неуклюже подсовывая под себя руками тяжелую крышку и не попадая отверстиями на шпильки. Капитан траулера крикнул: «Отдать швартовы!» — и кинулся в рубку, чтобы отвести судно от бункеровщика. «Шакал» выхватил пистолет и целился в барахтающегося меж бортами.
— Не стреляй! Отводи танкер! — крикнул Лукьяныч. — Гога! Гена! За мной! — и первым прыгнул на качающийся рядом борт траулера. Двое прыгнули за ним. Носовой конец уже был отдан. Кормовой натянулся и некому было потравить на кнехте. Все тральцы-африканцы уже перебрались на борт танкера и смотрели испуганно. — Кормовой отдавайте! Живо! Три якоря в глотку! — Гена и кавказец вмиг отдали кормовой, и суда начали отдаляться. Краску на надстройке и часть палубы лизал огонь. — Рыбу давай! Ящики с рыбой подавай, быстро! — Командовал Лукьяныч.
— Накой тебе рыба? Огнетушитель ищи! — крикнул Генка на бегу к рубке.
— Рыбу! Рыбу давай! — заорал чиф и сам опрокинул ближайший ящик с пересыпанной льдом рыбой на огонь.
Сообразили. Содержимым нескольких ящиков завалили палубу и сбили пламя с надстройки.
— Как оно вспыхнуло? От стакана? Никогда не поверю.
— Главное не огонь, а паника. Паника была — блеск!
— Может он спирт пил?
— Разбираться не будем.
— А вдруг не погасло и рванет?
— Под таким слоем рыбы? — Стоя по щиколотку в рыбе улыбнулся Лукьяныч.
Траулер тем временем отдалился от танкера на пару кабельтов и пошел на циркуляцию.
— Хорошо, что механик успел набросить крышку. А ты — огнетушитель?! Где и когда ты его последний раз видел?
— Да, чиф, ну и голова у тебя. Мастер… Не завидую рыбакам-пассажирам. «Шакал» их живьем в море сбросит, пока успокоится. Везет тебе, Гена? — развел руки кавказец, пританцовывая.
— Что такое? Что такое?
— Побег это, вот что такое, — продолжал тот.
— Какой побег? Танкер вон, рядом.
— А мы возвращаться не будем.
— Так тут свой капитан есть и кто-то еще, наверное?
— Посмотрим. — Лукьяныч направился в рубку.
Капитан траулера, стоял у штурвала и встретил их появление улыбкой и поднятым вверх большим пальцем: «Русские? Калашников — хорошо. Горбачев — хорошо».
— Куда направляешься теперь? — спросил его чиф по-англйски.
— Надо забрать моих людей.
— Мы не хотим на танкер. Мы хотим остаться здесь. На траулере.
— На траулере? Почему? На танкере плохо? Плохой капитан? Стреляет?
— Мы хотим вернуться в Россию. Надо уйти от берега. Надо встретить грузовой пароход и добраться до большого порта. Там есть консул.
Капитан посмотрел внимательно на каждого. Взял в руки микрофон и заговорил на африканском наречии. Выслушал ответ «шакала» и разразился длинным ругательством. Повернулся к Лукьянычу:
— Матрос?
— Капитан, — ответил за него Гена.
Рыбак улыбнулся: «Окей! — и снова закричал в микрофон, одновременно направляя судно в кильватер танкеру. — Смотри! — показал рукой.— Правый борт готовим».
С борта танкера прыгали в воду африканские рыбаки. Траулер сбавил ход и осторожно приближался к ним. Беглецы поняли замысел и спустились из рубки на палубу. Стали вдоль правого борта, свесив до воды обрывок крупноячеистой сети вместо трапа. Капрон резал руки, но рыбаки оказались с мозолистыми ладонями и ступнями ног и достаточно проворно взбирались на палубу. Вид у них был виноватый, и они первым делом снова принялись за рыбу.
— И акулы их не жрут, — удивился Гога, пристально вглядываясь в темные волны.
— У каждого человека своя акула, — заметил боцман, вспоминая Элизабет.
Тропические сумерки быстро сменялись наступлением ночи. Несколько рыболовных судов крутились под берегом. Скоростная моторная лодка с охранниками прошла впереди и скрылась в дымке. Траулер быстро удалялся в океан. Воздух посвежел и постепенно освобождался от береговых звуков и запахов. Скоро только звук судового двигателя и плеск под бортом нарушали ночь. Трое стояли на крыле мостика и вглядывались в темноту. Говорить не хотелось. Каждый думал о своем. Жизнь приучила воспринимать только реальность. Которая так быстро менялась. И заставляла беречь силы.
Кресты и звезды
Корейский капитан мистер Ли оказался порядочным мужиком и действительно вывез их в безопасное место. Маленькая бухта в устье реки была невидима с моря за россыпью мелких островков, густо поросших мангровыми деревьями, и длинной песчаной отмелью.
Население состояло из пары сотен африканцев и десятка корейцев, обслуживающих мелкие промысловые суда, забегающие на день — два для ремонта, пополнения запасов пресной воды, короткого отдыха.
Мистер Ли торопился на промысел, объяснил, что вернется за ними через неделю, что бояться здесь некого, но знакомиться и выживать им придется самим. Лукъянычу, на прощанье, оставил крючки, моток лески и старую кастрюлю без крышки — богатство фантастическое, по их положению полуголых беглецов.
Гоша, в своих спортивных трусах, стал местной достопримечательностью с первой минуты, когда сейнер только ткнулся носом в песок, и волосатый сухумец, не удержавшись на баке, от легкого толчка вывалился по инерции за борт, в прибрежное мелководье. Толпа черных ребятишек повалилась на песок от смеха. Гоша, мигом оценил ситуацию, а он более всего не любит оказываться объектом насмешек. Объектом обожания — пожалуйста. Увидел на песке мяч, вскочил и побежал к нему, пнул ногой, догнал, финтанул вправо-лево, подцепил носком — пяткой, носком — пяткой, над головой, головой, головой, головой… Восторгу пацанов предела не было. Через четверть часа вся деревня знала, что его зовут Гоша, что он — русский из Сухуми — «Сухумрус!», и что на нем растут волосы, как… Уточнений Гоша не любил, но гордился, когда потрогать его кучерявую достопримечательность подходили голопузые пацанчики-африканчики. Проходя мимо женщин, сдерживал шаг, демонстрировал. Потенциал его незатейливого обаяния и организаторских способностей оказался грандиозным. Через три дня в поселке было уже три или четыре футбольных команды разновозрастного состава. В одной команде играть на воротах выходили две девушки, черные как Гошины глаза и ловкие, как кошки.
Лукъяныч, в первый же день, облюбовал каменистую гряду в устье реки и демонстрировал аборигенам и корейцам шашлык из свежепойманной рыбы. К нему тоже потянулись поклонники, посмотреть и попробовать.
Гена, пока Гоша пробивал себе популярность на спортивном поле, пробовал, спекулируя на разбитых зубах и потребности в медицинском уходе, культивировать ниву сострадания и гуманитарной помощи. Народ оказался отзывчивым, особенно, старики и некоторые женщины. Его провели к местному эскулапу, и тот добрых часа два заговаривал, точнее, запевал монотонными завываниями зубную боль пациента. К концу процедуры Гена прочувствовал простую истину: «не умеешь петь — не пей!». Но боль, к удивлению, прошла и захотелось есть. Как попросить? Не умеешь просить — улыбайся! Идиотов везде кормят. Улыбался так, что повели его под пальмовый навес и вполне гостеприимно попытались угостить из медного таза, вокруг которого сидели и стояли человек десять-двенадцать: сгорбленные, полуголые, улыбающиеся и кивающие головами неистово, почти трясясь. При этом худыми черными руками они тянулись к тазу, выбирали из него, соединив пальцы щепотью, мелкие кусочки какой-то пищи, будто выклевывали, как птички. Гена, сохраняя достоинство, с маской-улыбкой на лице, тоже потянулся, отщипнул что-то из общей массы и готов был уже поднести ко рту, но ощутил вдруг живое шевеление в ладони и взглянул на этот комочек экзотического угощения: комочек расползался у него по ладони и пальцам. Вспомнил кем-то сказанную злую шутку: «Поймал мыша — ешь не спеша!». Успел только отвернуться и сделать шаг в сторону — его вырвало. Где тошно, там и рвет, как говорится. Подбежавшие собаки мгновенно слизали с песка пролившееся содержимое человеческого чрева. Есть расхотел. На время.
Когда вернулся на берег к Лукъянычу, объявил категорично, демонстрируя выученный урок в обычной своей манере:
— Я, командир, понял и разделил, как учили: маникюр — медикам, педикюр — педагогам! Вечером делаем танцы. Под аккордеон. На твоих камнях у костра.
— Аккордеон откуда?
— Я в одной хижине обнаружил. Мне там зуб заговаривали, а я деду-заговорщику поясничный массаж сделал, так он мне автомат показал, разбитый гидросамолет в зарослях у реки и аккордеон. Следы французского десанта.
— А ты играть умеешь?
— Я думал, что вы умеете.
— Нет.
— А Гоша?
— Не думаю.
— Может, я научусь? Быстро. Для такого дела.— Гена и впрямь верил, что у него может получиться.
— Для какого дела?
— Для сближения наций и физического выживания.
— А как же ваша Элизабет?
— Так это для выживания. Терапия, можно сказать. Не отвлекаются, любя, — как говорится.
— Стратег. Любя, действительно, не отвлекаются. Некогда.