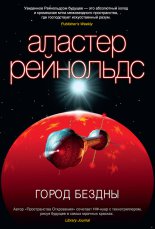Алогичная культурология Франк Илья
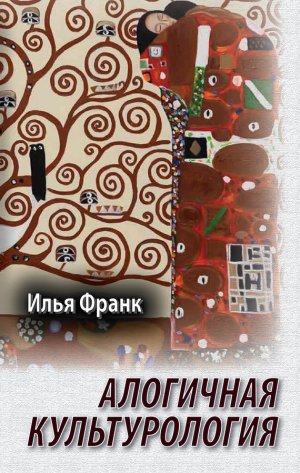
Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося "солнце", мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить – значит всегда находиться в дороге».
Говоря иначе, слово «солнце», если к нему присмотреться-прислушаться, если сделать его предметом созерцания, предстанет нам гиперсловом, протянет свои лучи к другим словам текста, в котором оно находится, а то и просто ко всем словам языка, в котором оно существует. И такими гиперсловами, «царственными словами» (Мандельштам) являются все слова без исключения.
В этом смысле очень интересен мистический опыт Даниила Андреева. Текст книги «Роза мира» то и дело сгущается, конденсируется в очередное собственное имя. Вот как, например, вводится одно из таких имен – «Лиурна»:
«Сквозь бегущие воды мирных рек просвечивает мир воистину невыразимой прелести. Есть особая иерархия – я издавна привык называть ее душами рек, хотя теперь понимаю, что это выражение не точно. Каждая река обладает такой "душой", единственной и неповторимой. Внешний слой ее вечнотекущей плоти мы видим, как струи реки… Но внутренний слой ее плоти, эфирной, который она пронизывает несравненно живей и где она проявляется почти с полной сознательностью, – он находится в мире, смежном с нами и называемом Лиурною. <…> Невозможно найти слова, чтобы выразить очарование этих существ, таких радостных, смеющихся, милых, чистых и мирных, что никакая человеческая нежность не сравнима с их нежностью, кроме разве нежности самых светлых и любящих дочерей человеческих. И если нам посчастливилось воспринять Лиурну душой и телом, погружая тело в струи реки, эфирное тело – в струи Лиурны, а душу – в ее душу <…>, – на берег выйдешь с таким чистым, просветлевшим и радостным сердцем, каким мог бы обладать человек до грехопадения».
Откуда взялось слово «Лиурна» – это «заумное», «самовитое» (как сказали бы футуристы) слово? Оно собрано со всего данного текста, «с миру по нитке»: в него вошли и «струи реки», и «милые, мирные существа», и «любящие дочери», и эфирность. Это собственное имя текста, как бы ангел-хранитель текста.
Подобным именем текста является, например, и название фильма Феллини "Amarcord". Это слово (как объясняется в самом фильме) образовано из слов "ricordo" – «воспоминание», "amaro" – «горький», "amare" – «любить», "cor" (= "cuore") – «сердце».
В старину верили, что имя человека влияет на его жизнь. Так, например, Яаков, предсказывая судьбу сыну Гаду («гад» на древнееврейском языке – «счастье, удача»), извлекает ее из его имени: «Гад гдуд йгудэну вху ягуд ‘акев» («Гад – рать поратует на него, а он оттеснит ее обратно»). Слово разворачивается и становится текстом подобно тому, как, по древнему поверью, имя разворачивается и становится судьбой.
Вот как Даниил Андреев описывает свой мистический опыт, опыт встреч с такими «ангелами»:
«Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев Шаданакара и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал: правильно ли? Некоторые из названий и имен приходилось уточнять по нескольку раз; есть и такие, более или менее точного отображения которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесенных великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но это не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других – с заревами, в третьих – с лунным сиянием. Иногда это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие слова перевести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех значений – одно, из всех согласованно звучащих слогов – один. Но беседы заключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, выражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не расчленяясь на слова, как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе моего сознания, и озаряли необычайным светом то темное для меня и неясное, чего касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов».
Но ведь так же рождается и стихотворение, как, например, описано в строках Осипа Мандельштама:
- Какая-то страсть налетела,
- Какая-то тяжесть жива;
- И призраки требуют тела,
- И плоти причастны слова.
Стихотворение и представляет собой «нездешнее слово», содержащее «целые аккорды фонетических созвучий и значений». Так же, видимо, рождалось и слово вообще, первое слово.
Владимир Набоков в романе «Приглашение на казнь» пишет (перекликаясь с Новалисом мечтой о некоем особом мире):
«Стой! Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово. Увы, никто не учил меня этой ловитве, и давно забыто древнее искусство писать, когда оно в школе не нуждалось, а загоралось и бежало как пожар, – и теперь оно кажется таким же невозможным, как музыка, некогда извлекаемая из чудовищной рояли, которая проворно журчала или вдруг раскалывала мир на огромные, сверкающие, цельные куски – я-то сам так отчетливо представляю себе все это, но вы – не я, вот в чем непоправимое несчастье. Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением, – так что вся строка – живой перелив; догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для несегодняшней и нетутошней моей задачи. Не тут! Тупое "тут", подпертое и запертое четою "твердо", темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. Но какие просветы по ночам, какое… Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне. Это как будто в пасмурный день валяешься на спине с закрытыми глазами, – и вдруг трогается темнота под веками, понемножку переходит в томную улыбку, а там и в горячее ощущение счастья, и знаешь: это выплыло из-за облаков солнце. Вот с такого ощущения начинается мой мир: постепенно яснеет дымчатый воздух, – и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта, так расправляется моя душа в родимой области. – Но дальше, дальше? – да, вот черта, за которой теряю власть… Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине. Но я сделаю последнее усилие, и вот, кажется, добыча есть, – о, лишь мгновенный облик добычи!»
(Обратим внимание на то, как слово «тут» у Набокова высвечивается словами, братается со словами «тупое», «запертое», «темная тюрьма», «неуемно воющий ужас», «держит», «теснит». Слово «дышит и блистает только на темной, сдавленной глубине».)
Если все это пустая фантазия, то есть если слова не являются потенциальными гиперсловами и не образуют в тексте реальные гиперслова, несущие особый актуальный смысл, могущий быть высказанным только таким способом, то прав Смердяков из романа Достоевского «Братья Карамазовы» (а его позиция умнее и принципиальнее позиции его собеседницы – да и позиции многих людей, которые об этом вообще не задумываются):
«– Стихи вздор-с, – отрезал Смердяков.
– Ах нет, я очень стишок люблю.
– Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали-с? Стихи не дело, Марья Кондратьевна».
А теперь, пожалуй, о самом интересном. Ну да, мы не часто говорим в рифму (иногда все же говорим – даже просто в обыденном общении). Но прислушайтесь, например, как говорит Платон Каратаев в романе Льва Толстого «Война и мир» – тот самый Платон Каратаев, из которого «слова и действия выливались… так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка». Утешая Пьера, говорит: «Не тужи, дружок»; или тут же, лаская собаку: «Ишь, шельма, пришла!» Ему удается «высказаться по-настоящему», «затравить слово»!
Или вот, Роман Якобсон в статье «Новейшая русская поэзия (подступы к Хлебникову)» приводит такой случай:
«В Верейском уезде старик сказочник рассказывал мне о том, как мужик из мести, заманив барина хитростью в баню, там его до полусмерти исколотил, отбарабанил. "Барина да в бане да отбарабанил! Ловко!" – подхватил с восторгом один из парней-слушателей».
Потебня говорит: «Таинственная связь слова с сущностью предмета не ограничивается одними священными словами заговоров (или, добавим, словами в стихотворении. – И. Ф.): она остается при словах и в обыкновенной речи».
Гиперслова образуются не только в специально художественном тексте, они являются основой нашей речи. Представьте себе: мы говорим цельными художественными, оригинальными кусками, «динамическими образами» – как люди, которые только-только изобретают язык. При этом слова, постоянно включаясь в различные гиперслова, обкатывают в них свою звуковую форму. Если бы этого не происходило, например, то современные языки звучали бы некрасиво, неорганично. Английский, например, был бы уродлив. Мало ли было наворочено в процессе его исторического развития! Но этот гремучий сплав из англосаксонского, старофранцузского и древнедатского, этот, как его иногда называют, ‘bastard language’ («незаконнорожденный язык») звучит совершенно прекрасно, органично, как, впрочем, и каждый язык, если его знать.
«Так мог бы и должен был бы развиваться язык-праведник, не обремененный и не оскверненный историческими невзгодами и насилиями», – замечает Мандельштам о стихотворных языкотворческих опытах Велимира Хлебникова. А он так и развивается! Якоб Бёме в «Утренней заре» пишет (непосредственно перед тем, как собирается писать о слове "Herz" – сердце):
«Ибо пойми только в тучности свой материнский язык, ты найдешь в нем такое же глубокое основание, как и в еврейском или латинском, хоть ученые и кичатся ими, как безумные девы; это ничего не значит, наука их ныне на склоне. Дух свидетельствует, что еще прежде, чем настанет конец, иной мирянин будет больше знать и разуметь, нежели знают ныне умнейшие ученые: ибо врата небес отверзаются; и кто не будет сам ослеплять себя, тот поистине увидит их. Жених увенчает свою невесту, аминь».
2. Магнит и стружки
Бывает так, что совершенно не связанные между собой, случайные по отношению друг к другу вещи в наших глазах соединяются в некую единую картину, которая вселяет в нас радость, чувство счастья. (Если вы, однако, скажете, что нет, не бывает такого, мне нечего будет вам возразить.) Вот, например, что происходит с влюбленным Левиным в романе Льва Толстого «Анна Каренина»:
«Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал две ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела: он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если б это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам.
И что он видел тогда, того после уже он никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости».
Для Левина подбегающий к голубю и улыбающийся Левину мальчик, отпархивающий голубь, дрожащие в воздухе пылинки снега, дух печеного хлеба из окошка и выставленные сайки – «все это вместе» на мгновение складывается в нечто неделимое, в индивидуум, словно к рассыпанным по бумаге стружкам снизу поднесли магнит. То, что очевидно не имеет друг к другу никакого отношения, становится вдруг (именно вдруг – это важное слово) каким-то единым сообщением, посланием Левину. Словно кто-то играет с Левиным, подает ему знак. Сквозь обычные вещи неожиданно видны «неземные существа», обычные вещи становятся проводниками неземного, метафизического смысла, становятся вестниками-ангелами.
Поль Клодель в статье «Поэтическое искусство» пишет:
«Как-то раз в Японии, по дороге из Никко к озеру Тюзенци, мне попались на глаза два дерева: сосна и клен, они росли довольно далеко друг от друга, но так, что с того места, где я был, кленовые листья точно заполняли промежутки между ветвями сосны. Эти страницы – как бы комментарий к тому лесному тексту, к новому Поэтическому (пойэйн – делать) Искусству Мироздания, к той новой Логике, которую июнь вложил в древесные письмена. Основой старой логики был силлогизм, нынешняя же – и в этом ее новизна – основана на метафоре, которая есть нечто, происходящее из одновременного и согласного существования двух разнородных вещей. Старая исходит из общих и абсолютных утверждений, приписывает субъекту некое непреложное качество или признак. Независимо от времени и места солнце светит, а сумма углов треугольника равна 180 градусам. Самим актом определения логика создает абстрактные понятия и строго распределяет их по классам. Ставит имя как клеймо. Выделив и перебрав все эти понятия по одному, составив их перечень по родам и видам, она применяет их к любому предложенному предмету. Я бы сравнил ее с первой частью грамматики, которая перечисляет свойства и функции отдельных слов. Другая же Логика подобна синтаксису, изучающему искусство сочетания слов, это логика, которую являет нам сама природа. Наука жива обобщениями, творчество – индивидуальностью. Метафора (и ее соответствия в других искусствах: "оттенки", "гармония", "пропорции"), этот извечный ямб, сопряжение двух слогов – долгого и краткого, претворяется не только на страницах наших книг – это исконное искусство всего живого. И не говорите мне о случайности! Расположение этой сосновой рощи, контур этой горы не более случайны, чем Парфенон или вот этот бриллиант, стоивший годы труда гранильщику, нет, это плоды высокой стихии, куда более мудрой и щедрой, чем случай».
В каменной, неприступной стене необходимости порой возникает пролом, просвет – возможность свободы, возможность побега, новая Логика. Послушаем героя повести Федора Достоевского «Записки из подполья»:
«Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть. <…> "Помилуйте, – закричат вам, – восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена… и т. д., и т. д." Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило».
В какое-то мгновение в какой-то точке пространства человек может почувствовать, что мир превращается в художественное произведение (например, из того, что видит Левин, японец мог бы сочинить хайку), что мир обращается к нему, смотрит на него всеми своими элементами. Не случайно Леонардо да Винчи дает совет художникам: вглядываться в пыльные или покрытые плесенью стены. Они ведь могут увидеть в бессмыслице – смысл, в закрытом – открытое, в безличном – лицо, в незрячем – смотрящее на них множество глаз, как на картинках алхимиков.
Такое превращение может происходить не только в пространстве (удивительно осмысленным сочетанием вещей), но и во времени (перекличкой вещей или даже просто их повтором).
Вот как это происходит в романе Диккенса «Давид Копперфилд». Давид влюблен в Дору и делится со своей бабушкой:
«Когда я потянулся к ней, она уперлась стаканом мне в колено, чтобы удержать меня, и сказала:
– О Трот, Трот! Так, значит, ты воображаешь, что влюблен?
– Воображаю, бабушка! Я обожаю ее всей душой! – воскликнул я, так покраснев, что дальше уж некуда было краснеть.
– Ну, разумеется! Дора! Так, что ли? И, конечно, ты хочешь сказать, что она очаровательна?
– О бабушка! Никто не может даже представить себе, какова она!
– А! И не глупенькая? – осведомилась бабушка.
– Глупенькая?! Бабушка!
Я решительно уверен, что ни разу, ни на один момент мне и в голову не приходило задуматься, глупенькая она или нет. Конечно, я отбросил эту мысль с возмущением. Тем не менее она поразила меня своей неожиданностью и новизной.
– Не легкомысленная? – спросила бабушка.
– Легкомысленная?! Бабушка!
Я мог только повторить это дерзкое предположение с тем же чувством, что и предыдущее.
– Ну, хорошо, хорошо… я ведь только спрашиваю, – сказала бабушка. – Я о ней плохо не отзываюсь. Бедные дети! И вы, конечно, уверены, что созданы друг для друга, и собираетесь пройти по жизни так, словно жизнь – пиршественный стол, а вы – две фигурки из леденца? Верно, Трот?
Она задала мне этот вопрос так ласково и с таким видом, шутливым и вместе с тем печальным, что я был растроган.
– Бабушка! Я знаю, мы еще молоды и у нас нет опыта, – сказал я. – Я не сомневаюсь, что мы, может быть, говорим и думаем о разных глупостях. Но мы любим друг друга по-настоящему, в этом я уверен. Если бы я мог предположить, что Дора полюбит другого или разлюбит меня, или я кого-нибудь полюблю или разлюблю ее – я не знаю, что бы я стал делать… должно быть, сошел бы с ума!
– Ох, Трот! Слепой, слепой, слепой! – мрачно сказала бабушка, покачивая головой и задумчиво улыбаясь. – Один мой знакомый, – продолжала она, помолчав, – несмотря на мягкий свой характер, способен на глубокое, серьезное чувство, напоминая этим свою покойную мать. Серьезность – вот что этот человек должен искать, – чтобы она служила ему опорой и помогала совершенствоваться, Трот. Глубокий, прямой, правдивый, серьезный характер!
– О, если бы вы только знали, как Дора серьезна! – воскликнул я.
– Ах, Трот! Слепой, слепой! – повторила она.
Сам не знаю почему, но мне почудилось, будто надо мной нависло облако, словно я что-то утратил или чего-то мне не хватает».
Давиду не хватает того, что ему суждено судьбой, но чего он пока не видит: другой любви, Агнес, к которой он относится сейчас как к сестре. После разговора с бабушкой Давид встречается с Агнес и говорит с ней о своей любви к Доре:
«А как она говорила со мной о Доре, когда мы сидели в сумерках у окна! Как она слушала мои похвалы ей и как хвалила ее сама! Маленькую волшебную фигурку она одарила собственным своим чистым светом, благодаря чему Дора становилась еще более целомудренной, еще более драгоценной для меня. О Агнес, сестра моего детства, если бы я тогда знал то, что узнал много лет спустя!..
Когда я вышел на улицу, повстречался мне нищий. И когда я поднял голову к ее окну, думая о спокойных, ангельских глазах Агнес, нищий заставил меня вздрогнуть, повторяя, как эхо, слово, слышанное мною утром – Слепой! Слепой! Слепой!»
Что здесь происходит? Сначала бабушка говорит Давиду: «Слепой!» Потом он слышит, как это же слово повторяет на улице нищий – и вздрагивает. Почему вздрагивает? Видимо, потому, что в этом случайном повторе чувствует обращение к себе, чей-то зов, чье-то предупреждение, как бы инопланетный сигнал.
И обращение это ненавязчиво. Хочешь – получи его, не хочешь – не получай. Владимир Соловьев пишет о таком способе проявления фантастического в обыденной действительности:
«Вот окончательный признак подлинно фантастического: оно никогда не является, так сказать, в обнаженном виде. Его явления никогда не должны вызывать принудительной веры в мистический смысл жизненных происшествий, а скорее должны указывать намеками на него. В подлинно фантастическом всегда остается формальная возможность объяснения из обыкновенной связи явлений, причем однако это объяснение окончательно лишается внутренней вероятности».
Может быть, об этом говорит и Гераклит: «Неявленная (тайная) гармония лучше явленной (явной)». А также: «Владыка, чье прорицалище в Дельфах, и не говорит, и не утаивает, а подает знаки».
Я уже приводил отрывок из романа Владимира Набокова «Приглашение на казнь», в котором Цинциннат мечтает о чудесном «сонном мире»:
«Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне. Это как будто в пасмурный день валяешься на спине с закрытыми глазами, – и вдруг трогается темнота под веками, понемножку переходит в томную улыбку, а там и в горячее ощущение счастья, и знаешь: это выплыло из-за облаков солнце. Вот с такого ощущения начинается мой мир: постепенно яснеет дымчатый воздух, – и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта, так расправляется моя душа в родимой области».
Чуть дальше этот текст продолжается так:
«Там – неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем».
Элементы композиции, которые видит Левин (подбегающего к голубю и улыбающегося Левину мальчика, отпархивающего голубя, дрожащие в воздухе пылинки снега, дух печеного хлеба из окошка и выставленные сайки), невозможно заподозрить в сознательном построении этой композиции. И слепой, который встретился с Давидом Копперфилдом, ничего не знает о беседе Давида с бабушкой и об отношениях Давида с двумя девушками. Предположить, что элементы совершенно случайно вступили в композиционное и ритмическое взаимодействие и образовали точные контрасты и повторы, столь же странно, как предположить, что если вы побросаете на стол вырезанные из газеты слова, они сами сложатся в стихотворение. Ну хорошо, все это придумали Лев Толстой и Чарльз Диккенс, это они здесь художники. Но фокус в том, что такие вещи действительно случаются в жизни, и Лев Толстой и Чарльз Диккенс это знают и показывают. Как настоящие художники они не стали бы изображать то, чего не бывает.
Может быть, каждый человек, пусть неосознанно и далеко не всегда прямо и решительно, следует в своей жизни таким знакам – подобно капле, причудливо сбегающей по стеклу по уже намоченным местам, временами замедляющей движение и колеблющейся. Анри Бергсон в книге «Два источника морали и религии» пишет, что подчас все «огромное множество элементов» организуется «простым актом, подобным погружению ноги в песок, благодаря которому тысячи песчинок мгновенно образуют какой-то рисунок». По этому удивительному следу и идет, видимо, человек-художник. Бергсон пишет далее:
«Что может быть более сложным, более изощренным по своему построению, чем симфония Бетховена? Но на протяжении всей своей работы по аранжировке и отбору, осуществлявшейся в интеллектуальном плане, музыкант обращался к пункту, расположенному вне этого плана, ища в нем принятия или отказа, направления, вдохновения; в этом пункте располагалась неделимая эмоция, которой ум, несомненно, помогал выразиться в музыке, но которая сама по себе была чем-то большим, чем музыка и чем ум. <…> Чтобы соотнестись с ней, художник каждый раз должен был прилагать усилие, подобно тому как глаз обнаруживает звезду, которая, как только она найдена, сразу же растворяется в ночной темноте».
То есть художника ведет некий свет. И это не просто метафора. Вот, например, что происходит с Якобом Бёме, по словам одного его прижизненного биографа:
«Между тем как он в поте своего лица, как верный труженик, кормил свою семью, в начале XVII века, а именно на 25-м году своей жизни, он был повторно отмечен мистическим светом. Через слепящий блик оцинкованного сосуда (свет которого был добрым и бодрящим) он был всецело увлечен к самым глубинным основаниям, к центру тайной природы. Он решил пойти к воротам Найсе у Гёрлица на зеленый луг, с тем чтобы избавиться от этого наваждения, которое показалось ему сомнительным. И тем не менее это видение становилось все яснее, так, что он смог посредством запечатленных знаков проникнуть в сокровенные глубины природы. Он в большой радости, вознося хвалу Богу, узрел смысл своих домашних дел в воспитании детей и обходился теперь с каждым еще более мило и дружески, и о своей тайне говорил мало или совсем ничего».
(Интересно: когда моя четырехлетняя дочка употребила как-то слово «красивый», я спросил ее, какие вещи являются красивыми. И подумал: «Ни за что не ответит, никто не может ответить на этот вопрос». Ответ пришел в ту же секунду: «Которые блестят». А французский философ Гастон Башляр в книге «Поэтика пространства» говорит о восприятии человеком горящей в окне лампы: «Все, что светится, видит» ("Tout ce qui brille voit" – можно перевести и как: «Все, что блестит, видит»). <…> Лампа в окне – это око дома». Так что я бы еще добавил: «и которые нас видят». То, что красиво, видит нас первым.)
Так и Цинциннату в романе Набокова «Приглашение на казнь» является «стежка» – тропинка, ведущая в «сонный мир», – и расходящийся, всеохватывающий свет:
«И настолько сильна и сладка была эта волна свободы, что все показалось лучше, чем на самом деле: его тюремщики, каковыми в сущности были все, показались сговорчивей… в тесных видениях жизни разум выглядывал возможную стежку… играла перед глазами какая-то мечта… словно тысяча радужных иголок вокруг ослепительного солнечного блика на никелированном шаре…»
Неожиданный свет может являться по-разному: например, как огонь, как растение (цветок или дерево), как лицо (часто – как женское лицо или как образ женщины в целом). Приведу пять примеров, первый – из автобиографического романа Этьена де Сенанкура «Оберман» (1804 год):
«Было сумрачно и прохладно; я чувствовал себя подавленным и бродил без цели, потому что не мог ничем заняться. На невысокой стене я увидел несколько нарциссов. Один цветок уже совсем распустился, – вот оно, самое сильное выражение желания. Это был первый из весенних ароматов. Я ощутил полноту счастья, предназначенного человеку. Невыразимая гармония всего сущего, – отражение идеального мира, – звучала в моей душе. Никогда еще я не испытывал ничего более великого и столь мимолетного. Не знаю, очертания ли этого цветка или какое-то иное тайное сходство позволили мне угадать в нем бесконечную красоту, выразительность, изящество форм счастливой бесхитростной женщины во всей прелести, во всем великолепии поры любви. Я никогда не постигну эту невыразимую силу и эту беспредельность, эту ничем не стесняемую форму, эту идею о лучшем мире, который мы чувствуем, но которого нет в природе; этот небесный свет, мнится нам, мы можем осязать, он воодушевляет и влечет нас, но это всего лишь еле заметный блуждающий огонек, затерянный в бездне тьмы. О, этот свет, райский образ, еще более прекрасный в своей призрачности, манящий всем обаянием тайны, образ, ставший необходимым в наших горестях, привычным утешением для наших угнетенных сердец, – найдется ли человек, который, хотя бы раз увидев, мог его позабыть? Если противодействие, если косность мертвой, грубой, отвратительной силы сковывает нас, обволакивает и порабощает, не дает нам выбраться из пучины неуверенности, разочарований, толкает на ребяческие, безрассудные или жестокие поступки; если ничего не знаешь, ничего не имеешь; если все проходит мимо, подобно причудливым созданиям какого-то жуткого и нелепого сна, – кто может подавить в нашем сердце потребность в ином порядке, в иной природе?»
Второй пример – из романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген». Герою романа снится, что он, пройдя через ход в скале, встречает голубой цветок:
«Но то, что его полновластно притягивало, было высоким светло-голубым цветком, стоявшим у самого источника и прикасавшимся к нему своими широкими блестящими листьями. Кругом росли бесчисленные и разнообразные цветы, удивительный аромат наполнял воздух. Он не видел ничего, кроме голубого цветка, и рассматривал его долго, с несказанной нежностью. Наконец он захотел к нему приблизиться, и тогда цветок вдруг начал двигаться и изменяться, листья заблестели сильнее и прижались к растущему стеблю, цветок склонился к нему навстречу, и лепестки раскрылись широким воротником, в котором светилось нежное лицо».
Третий пример – свидетельство одного психиатра, приводимое Уильямом Джеймсом в книге «Многообразие религиозного опыта»:
«Я провел вечер в большом городе с двумя друзьями за чтением и спорами по вопросам философии и поэзии. Мы расстались в полночь. Чтобы попасть домой, мне предстояло сделать большой конец в экипаже. Мой ум, еще полный идеями, образами и чувствами, вызванными чтением и беседой, был настроен спокойно. Мной овладело состояние почти полной пассивности, и мысли почти без моего участия проходили через мою голову. Вдруг, без всякого перехода, я почувствовал вокруг себя облако цвета огня. С минуту я думал, что это зарево большого пожара, вспыхнувшего где-нибудь в городе, но скоро понял, что огонь этот был во мне. Неизмеримая радость охватила меня, и к ней присоединилось прозрение, которое трудно передать словами. Между прочим, я не только уверовал, я увидел, что вселенная соткана не из мертвой материи, что она живая; и в самом себе я почувствовал присутствие вечной жизни. Это не было убеждение, что я достигну бессмертия, это было чувство, что я уже обладаю им. <…> Состояние это длилось всего несколько секунд, но воспоминание о нем и чувство реальности принесенных им откровений живет во мне вот уже четверть века».
Четвертый пример – из повести Джеймса Джойса «Портрет художника в юности»:
«Он был один. Отрешенный, счастливый, коснувшийся пьяного средоточия жизни. Один – юный, дерзновенный, неистовый, один среди пустыни пьянящего воздуха, соленых волн, выброшенных морем раковин и водорослей, и дымчато-серого солнечного света, и весело и радостно одетых фигур детей и девушек, и звучащих в воздухе детских и девичьих голосов.
Перед ним посреди ручья стояла девушка, она стояла одна, не двигаясь, глядела на море. Казалось, какая-то волшебная сила превратила ее в существо, подобное невиданной прекрасной морской птице. Ее длинные, стройные, обнаженные ноги, точеные, словно ноги цапли – белее белого, только прилипшая к ним изумрудная полоска водорослей метила их как знак. Ноги повыше колен чуть полнее, мягкого оттенка слоновой кости, обнажены почти до бедер, где белые оборки панталон белели, как пушистое оперение. Подол серо-синего платья, подобранный без стеснения спереди до талии, спускался сзади голубиным хвостом. Грудь – как у птицы, мягкая и нежная, нежная и мягкая, как грудь темнокрылой голубки. Но ее длинные светлые волосы были девичьи, и девичьим, осененным чудом смертной красы, было ее лицо.
Девушка стояла одна, не двигаясь, и глядела на море, но когда она почувствовала его присутствие и благоговение его взгляда, глаза ее обратились к нему спокойно и встретили его взгляд без смущения и вызова. Долго, долго выдерживала она этот взгляд, а потом спокойно отвела глаза и стала смотреть вниз на ручей, тихо плеская воду ногой – туда, сюда. Первый легкий звук тихо плещущейся воды разбудил тишину, чуть слышный, легкий, шепчущий, легкий, как звон во сне, – туда, сюда, туда, сюда, – и легкий румянец задрожал на ее щеках.
"Боже милосердный!" – воскликнула душа Стивена в порыве земной радости.
Он вдруг отвернулся от нее и быстро пошел по отмели. Щеки его горели, тело пылало, ноги дрожали. Вперед, вперед, вперед уходил он, неистово распевая гимн морю, радостными криками приветствуя кликнувшую его жизнь.
Образ ее навеки вошел в его душу, но ни одно слово не нарушало священной тишины восторга. Ее глаза позвали его, и сердце рванулось навстречу этому призыву. Жить, заблуждаться, падать, торжествовать, воссоздавать жизнь из жизни. Огненный ангел явился ему, ангел смертной красоты и юности, посланец царств пьянящей жизни, чтобы в единый миг восторга открыть перед ним врата всех путей заблуждения и славы. Вперед, все вперед, вперед, вперед!
Он внезапно остановился и услышал в тишине стук собственного сердца. Куда он забрел? Который теперь час?
Вокруг него ни души, не слышно ни звука. Но прилив уже возвращался, и день был на исходе. Он повернул к берегу и побежал вверх по отлогой отмели, не обращая внимания на острую гальку; в укромной ложбинке, среди песчаных холмов, поросших пучками травы, он лег, чтобы тишина и покой сумерек утихомирили бушующую кровь.
Он чувствовал над собой огромный равнодушный купол неба и спокойное шествие небесных тел; чувствовал под собой ту землю, что родила его и приняла к себе на грудь.
В сонной истоме он закрыл глаза. Веки его вздрагивали, словно чувствуя высшую упорядоченную энергию земли и ее стражей, словно ощущая странное сияние какого-то нового, неведомого мира. Душа его замирала, падала в этот новый мир, мир фантастический, туманный, неясный, словно мир подводных глубин, где двигались смутные существа и тени. Мир – мерцание или цветок? Мерцая и дрожа, дрожа и распускаясь вспыхивающим светом, раскрывающимся цветком, развертывался мир в бесконечном движении, то вспыхивая ярко-алым цветком, то угасая до белейшей розы, лепесток за лепестком, волна света за волной света, затопляя все небо мягкими вспышками одна ярче другой. Уже стемнело, когда он проснулся, песок и чахлая трава его ложа теперь не переливались красками. Он медленно встал и, вспомнив восторг, который пережил во сне, восхищенно и радостно вздохнул».
Пятый пример – из романтической сказки Э. Т. А. Гофмана «Золотой горшок» (в переводе Владимира Соловьева):
«Тут монолог студента Ансельма был прерван странным шелестом и шуршаньем, которые поднялись совсем около него в траве, но скоро переползли на ветви и листья бузины, раскинувшейся над его головою. То казалось, что это вечерний ветер шевелит листами; то – что это порхают туда и сюда птички в ветвях, задевая их своими крылышками. Вдруг раздался какой-то шепот и лепет, и цветы как будто зазвенели, точно хрустальные колокольчики. Ансельм слушал и слушал. И вот – он сам не знал, как этот шелест, и шепот, и звон превратились в тихие, едва слышные слова:
"Здесь и там, меж ветвей, по цветам, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица! Качайся в сиянии! Скорее, скорее, и вверх и вниз, – солнце вечернее стреляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листами, спадает роса, цветочки поют, шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями, звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся; сестрицы, скорей!"
И дальше текла дурманящая речь. Студент Ансельм думал: "Конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях". Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков; он посмотрел наверх и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвились вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шепот, и лепет, и те же слова, и змейки скользили и вились кверху и книзу сквозь листья и ветви; и, когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячи изумрудных искр чрез свои темные листья. "Это заходящее солнце так играет в кусте", – подумал студент Ансельм; но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему. Как будто электрический удар прошел по всем его членам, он затрепетал в глубине души, неподвижно вперил взоры вверх, и два чудных темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением, и неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал: "Ты лежал в моей тени, мой аромат обвевал тебя, но ты не понимал меня. Аромат – это моя речь, когда любовь воспламеняет меня". Вечерний ветерок пролетел мимо и шепнул: "Я веял около головы твоей, но ты не понимал меня; веяние есть моя речь, когда любовь воспламеняет меня". Солнечные лучи пробились сквозь облака, и сияние их будто горело в словах: "Я обливаю тебя горящим золотом, но ты не понимал меня; жар – моя речь, когда любовь меня воспламеняет".
И, все более и более утопая во взоре дивных глаз, жарче становилось влечение, пламенней желание. И вот зашевелилось и задвигалось все, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами и сумерки набросили на землю свой покров, издалека раздался грубый густой голос: "Эй, эй, что там за толки, что там за шепот? Эй, эй, кто там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напелись! Эй, эй, сквозь кусты и траву, по траве, по воде вниз! Эй, эй, до-мо-о-о-й, до-мо-о-о-й!"
И голос исчез как будто в отголосках далекого грома; но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку; шурша и шелестя, бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся.
"А господин-то, должно быть, не в своем уме!" – сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гулянья, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельма. Он обнял ствол бузинного дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал не переставая: "О, только раз еще сверкните и просияйте вы, милые золотые змейки, только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня вы, прелестные синие глазки, один только раз еще, а то я погибну от скорби и горячего желания!" И при этом он глубоко вздыхал, и жалостно охал, и от желания и нетерпения тряс бузинное дерево, которое вместо всякого ответа совсем глухо и невнятно шумело листьями и, по-видимому, порядком издевалось над горем студента Ансельма. "А господин-то, должно быть, не в своем уме!" – сказала горожанка, и Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой».
Эти пять примеров, конечно, очень похожи и основаны, несомненно, на личном опыте, даже пример из сказки Гофмана, такой, казалось бы, чисто литературный и шуточный. И все они описывают красивые вещи. Но дело все же не в том, что огонь, цветок или девушка могут быть столь прекрасны, что оказывают особое влияние на человека. Дело прежде всего в том, что вдруг высвечиваются, словно огнем, или соединяются, словно лепестки, разрозненные элементы жизни («словно тысяча радужных иголок вокруг ослепительного солнечного блика на никелированном шаре»). Или, как в сказке Гофмана: «простой золотой горшок, от которого Ансельм, лишь только его увидел, не мог уже отвести глаза. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли всякие образы…»
Если такое случается с христианином, то для него мир предстает как обожествленное творение, или божественная премудрость – София. Вот как рассказывает о своем опыте встречи с Софией, явившейся ему в образе Прекрасной Дамы, Владимир Соловьев в поэме «Три свидания»:
- И в пурпуре небесного блистанья
- Очами, полными лазурного огня,
- Глядела ты, как первое сиянье
- Всемирного и творческого дня.
- Что есть, что было, что грядет вовеки —
- Всё обнял тут один недвижный взор…
- Синеют подо мной моря и реки,
- И дальний лес, и выси снежных гор.
- Всё видел я, и всё одно лишь было —
- Один лишь образ женской красоты…
- Безмерное в его размер входило, —
- Передо мной, во мне – одна лишь ты.
- О лучезарная! тобой я не обманут:
- Я всю тебя в пустыне увидал…
- В моей душе те розы не завянут,
- Куда бы ни умчал житейский вал.
- <….>
- Ещё невольник суетному миру,
- Под грубою корою вещества
- Так я прозрел нетленную порфиру
- И ощутил сиянье Божества.
- Предчувствием над смертью торжествуя
- И цепь времен мечтою одолев,
- Подруга вечная, тебя не назову я,
- А ты прости нетвердый мой напев!
А вот как преображенный мир видит и переживает Фауст в трагедии Гёте (перевод Бориса Пастернака) (обратите, кстати сказать, внимание на мотив радости, счастья, идущий через все эти примеры):
- (Открывает книгу и видит знак макрокосма.)
- Какой восторг и сил какой напор
- Во мне рождает это начертанье!
- Я оживаю, глядя на узор,
- И вновь бужу уснувшие желанья,
- Кто из богов придумал этот знак?
- Какое исцеленье от унынья
- Дает мне сочетанье этих линий!
- Расходится томивший душу мрак.
- Все проясняется, как на картине.
- И вот мне кажется, что сам я – Бог
- И вижу, символ мира разбирая,
- Вселенную от края и до края.
- Теперь понятно, что мудрец изрек:
- «Мир духов рядом, дверь не на запоре,
- Но сам ты слеп, и все в тебе мертво.
- Умойся в утренней заре, как в море,
- Очнись, вот этот мир, войди в него».
- (Рассматривает внимательно изображение.)
- В каком порядке и согласье
- Идет в пространствах ход работ!
- Все, что находится в запасе
- В углах вселенной непочатых,
- То тысяча существ крылатых
- Поочередно подает
- Друг другу в золотых ушатах
- И вверх снует и вниз снует.
- Вот зрелище! Но горе мне:
- Лишь зрелище! С напрасным стоном,
- Природа, вновь я в стороне
- Перед твоим священным лоном!
- О, как мне руки протянуть
- К тебе, как пасть к тебе на грудь,
- Прильнуть к твоим ключам бездонным!
Элементы мира вдруг оживают и взаимодействуют, как «тысяча существ крылатых» (Гёте), как «неземные существа» (Толстой). Герой романа Набокова «Дар», поэт, говорит о подобном же опыте:
«Или: пронзительную жалость – к жестянке на пустыре, к затоптанной в грязь папиросной картинке из серии "национальные костюмы", к случайному бедному слову, которое повторяет добрый, слабый, любящий человек, получивший зря нагоняй, – ко всему сору жизни, который путем мгновенной алхимической перегонки, королевского опыта, становится чем-то драгоценным и вечным. Или еще: постоянное чувство, что наши здешние дни – только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастия, далеких гор».
И в том же романе:
«Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня – и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства: "Как быть счастливым"? Или глубже, дотошнее: понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным, зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть!»
Павел Флоренский в книге воспоминаний «Детям моим» пишет:
«Нечто, кажущееся обыкновенным и простым, самым заурядным по своей частоте, нередко привлекало в силу каких-либо особых обстоятельств мое внимание. И вдруг тогда открывалось, что оно – не просто. Воистину что-то вдруг припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им открывалось иное, ноуменальное, стоящее выше этого мира или, точнее, глубже его. Полагаю, это – то самое чувство и восприятие, при котором возникает фетиш: обычный камень, черепица, обрубок открывают себя как вовсе не обычные и делаются окнами в иной мир. Со мною в детстве так бывало не раз».
Мы видели, как и для Бёме всё началось с блика на цинковом сосуде.
О подобном же духовном опыте пишет Марсель Пруст в романе «По направлению к Свану»:
«Как часто после этого дня, во время прогулок в сторону Германта, сокрушался я еще больше, чем раньше, размышляя об отсутствии у меня литературного дарования, о необходимости отказаться от всякой надежды стать когда-нибудь знаменитым писателем. Горечь, которую я испытывал по этому поводу, оставаясь наедине немного помечтать, причиняла мне такие острые страдания, что для заглушения их ум мой, по собственному почину, как бы благодаря запрету сосредоточивать внимание на боли, совершенно переставал думать о стихах, о романах, о писательской будущности, на которую отсутствие таланта не позволяло мне рассчитывать. Тогда, вне всякой зависимости от этих литературных забот и без всякой вообще видимой причины, вдруг какая-нибудь кровля, отсвет солнца на камне, дорожный запах заставляли меня остановиться, благодаря своеобразному удовольствию, доставляемому мне ими, а также впечатлению, будто они таят в себе, за пределами своей видимой внешности, еще нечто, какую-то особенность, которую они приглашали подойти и взять, но которую, несмотря на все мои усилия, мне никогда не удавалось открыть. Так как я чувствовал, что эта таинственная особенность заключена в них, то я застывал перед ними в неподвижности, пристально в них вглядываясь, внюхиваясь, стремясь проникнуть своею мыслью по ту сторону видимого образа или запаха. И если мне нужно было догонять дедушку или продолжать свой путь, то я пытался делать это с закрытыми глазами; я прилагал все усилия к тому, чтобы точно запомнить линию крыши, окраску камня, казавшиеся мне, я не мог понять почему, преизбыточными, готовыми приоткрыться, явить моему взору таинственное сокровище, лишь оболочкой которого они были. Разумеется, не эти впечатления могли снова наполнить меня утраченной надеждой стать со временем писателем и поэтом, потому что они всегда были связаны с каким-то конкретным предметом, лишенным всякой интеллектуальной ценности и не содержащим в себе никакой отвлеченной истины. Но, по крайней мере, они доставляли мне иррациональное наслаждение, иллюзию некоего оплодотворения души, чем прогоняли мою скуку, чувство моей немощности, испытываемое каждый раз, когда я искал философской темы для большого литературного произведения. Но возлагаемый на мою совесть этими впечатлениями формы, запаха или цвета долг: постараться воспринять то, что скрывалось за ними, – был так труден, что я довольно скоро находил извинения, позволявшие мне уклониться от совершения столь изнурительных усилий и избежать сопряженного с ними утомления. К счастью, меня окликали мои родные; я чувствовал, что в данную минуту у меня нет необходимого спокойствия для успешного продолжения моих изысканий и что лучше перестать думать об этом до возвращения домой, не утомлять себя до тех пор бесплодными попытками. И я не занимался больше таинственной сущностью, скрытой под определенной формой или определенным запахом, вполне спокойный на ее счет, потому что я приносил ее домой огражденной видимыми и осязаемыми своими покровами, под которыми я найду ее еще живой, как рыбу, которую, в дни, когда меня отпускали на уженье, я приносил в корзинке, прикрытой травою, сохранявшею мой улов свежим. Придя домой, я начинал думать о чем-нибудь другом, и таким образом в уме моем беспорядочно накоплялись (вроде того, как моя комната постепенно наполнялась собранными мной во время прогулок цветами и полученными в подарок безделушками): камень, на котором играл солнечный блик, крыша, звук колокола, запах листьев – множество различных образов, под которыми давно уже умерла смутно почувствованная когда-то реальность, а я так и не собрался с силами раскрыть ее природу».
Человек может пойти по размеченному такими метками, такими «подарками» пути. И не только в качестве писателя или мыслителя, как это было с Прустом или с Бёме. Бёме ведь, например, в результате своего необыкновенного опыта не только осуществил свое творческое, философское призвание, но и «узрел смысл своих домашних дел» – а значит, изменил свою жизнь. А вот как находит свое счастье герой рассказа Набокова «Облако, озеро, башня»:
«А на остановках Василий Иванович смотрел иногда на сочетание каких-нибудь совсем ничтожных предметов – пятно на платформе, вишневая косточка, окурок, – и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штучек в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который однако сейчас он видит до бессмертности ясно… <…> А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал.
Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посередине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью (которая тем поэтичней, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня. Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной невинности, – любовь моя! послушная моя! – был чем-то таким единственным, и родным, и давно обещанным, так понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел тут ли оно, чтоб его отдать».
И герой рассказа не пропускает этот знак, следует этому беззвучному зову, совершает «сущностный акт» (как называет такой поступок Мартин Бубер), меняет свою жизнь:
«Наверху была комната для приезжих. – Знаете, я сниму ее на всю жизнь, – будто бы сказал Василий Иванович, как только в нее вошел. В ней ничего не было особенного, – напротив, это была самая дюжинная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, – но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспрекословно отдаваясь влечению, правда которого заключалась в его же силе, никогда еще не испытанной, Василий Иванович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, конечно, но все кругом было помощью, обещанием и отрадой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что он должен тут поселиться».
Бывают счастливые моменты, когда все вдруг связывается воедино. А бывает, конечно, и противоположное чувство, когда все распадается – даже то, что было связано совершенно обычным, будничным смыслом.
Так, например, случилось с Гамлетом:
«Недавно, не зная почему, я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, что этот цветник мирозданья, земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотою искрой, на мой взгляд – просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! Поступками как близок к ангелам! Почти равен Богу – разуменьем! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха?»
В буддийской «Дхаммападе» («Путь истины») говорится:
«Что за смех, что за радость, когда мир постоянно горит? Покрытые тьмой, почему вы не ищете света?
Взгляни на сей изукрашенный образ, на тело, полное изъянов, составленное из частей, болезненное, исполненное многих мыслей, в которых нет ни определенности, ни постоянства.
Изношено это тело, гнездо болезней, бренное; эта гнилостная груда разлагается, ибо жизнь имеет концом – смерть. Что за удовольствие видеть эти голубоватые кости, подобные разбросанным тыквам в осеннюю пору?»
Или в «Войне и мире» Льва Толстого:
«"Так это должно быть! – думал князь Андрей, выезжая из аллеи лысогорского дома. – Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию, зачем? – сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!" И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею».
«И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различий очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. "Да, да, вот они, те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы, – говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня – ясной мысли о смерти. – Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество – как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня"».
Или:
«С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора».
Лев Толстой часто пускает в ход этот разоблачающий, раздевающий, разваливающий, обессмысливающий привычную жизнь «холодный белый свет». Вот, например, как он описывает оперу (которую не любил как жанр, она как раз и была для него примером ненастоящего, бессмысленного действия):
«На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять текста, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться».
Сама жизнь бывает подобна дурно поставленной и фальшиво исполняемой опере:
«Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине; послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видавшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. M-lle Bourienne стояла около них, прижав руку к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно, столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. <…> Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестевшая зубами и глазами улыбка».
В. Б. Шкловский, приведя толстовское описание оперы, назвал такой прием «остранением», имея в виду «не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание "видения" его, а не „узнавания"». При остранении вещь утрачивает свою привычную функциональность, описывается как в первый раз виденная, кажется необычной, странной. Видящий ее человек почти не узнает ее. Хорошо это или плохо? Сейчас посмотрим. Во всяком случае, это основной прием искусства. В предыдущих примерах из Толстого видите массу деталей, они сочетаются во времени и пространстве, но сочетаются неправильно, фальшиво, мертвенно, сочетаются так, что не составляют живого единства, так, что не вызывают счастья, а нагоняют тоску. Более того, когда «пружина выдернута», когда внутренний свет погас, мы вообще перестаем воспринимать мир «нормально», по-человечески. Наше восприятие перестает связывать, дробит воспринимаемое, как хорошо заметно в последнем примере про губки княгини. Мы смотрим, но уже почти не видим, все расплывается. Если это состояние продолжится, то оно закончится развалом восприятия, безумием.
Но, к счастью, есть и другой, противоположный полюс, и Лев Толстой, столь остро чувствующий фальшивые ноты, не менее остро чувствует подлинную музыку, которая начинает подчас звучать в жизни в те мгновения, когда ее волшебный фонарь вновь зажигается, когда разрозненные части неожиданно, непонятным, чудесным образом предстают единством. Посмотрите, это тоже «остранение», но теперь со знаком «плюс»:
«Петя стал закрывать глаза и покачиваться.
Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто-то.
– Ожиг, жиг, ожиг, жиг… – свистела натачиваемая сабля.
И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы, – каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.
"Ах, да, ведь это я во сне, – качнувшись вперед, сказал себе Петя. – Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй, моя музыка! Ну!.."
Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. "Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу", – сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.
"Ну, тише, тише, замирайте теперь. – И звуки слушались его. – Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще, радостнее. – И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. – Ну, голоса, приставайте!" – приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.
С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг… свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него».
Здесь происходит совпадение (точнее, постепенное, ритмическое совпадание) «внутреннего человека» с «внешним миром» в единую музыку. Разрозненные, бессвязные звуки – свист сабли, ржание лошадей, плеск дождевых капель – постепенно «сопрягаются» с внутренней музыкой Пети, шум превращается в хор. Человек и мир, свобода и необходимость (а это основной философский вопрос «Войны и мира», а также и смысл названия этого произведения) совпадают в творчестве, в чуде, в мифе.
Новалис в повести «Ученики в Саисе» пишет:
«Благодаря этому выигрывают оба восприятия: внешний мир становится прозрачен, а внутренний мир – разнообразен и многозначителен. Так человек пребывает в проникновенно живом состоянии между двумя мирами в полнейшей свободе и радостнейшем ощущении своей власти». Так и Толстой говорит о Пете: «Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно».
(Причем пребывание «в волшебном царстве» не является всего лишь роскошью, достоянием немногих людей или особенностью исключительных моментов жизни, – на самом деле это тот спасительный полюс, на котором вообще держится жизнь, поскольку противоположный полюс – распад и безумие. Человек раскачивается между двумя этими полюсами, даже если он не осознает ни подстерегающего его распада, ни спасающего его чуда.)
Поскольку мифологическое восприятие действительно соединяет человека с миром, оно одаривает его силой воздействия на мир, его поступки «цепляют» (по выражению Толстого) реальность. Это и есть свобода. Вспомните: «И настолько сильна и сладка была эта волна свободы…» (Набоков), «Опять на сумрак твой гляжу И голос слушаю свободный» (Никитин). Хороший пример свободного человека, или, точнее, человека в момент его свободы, – командующий батареей капитан Тушин из «Войны и мира», погрузившийся в собственный «фантастический мир», вдохновенно дирижирующий боем:
«Солдаты, большею частью красивые молодцы (как и всегда в батарейной роте, на две головы выше своего офицера и вдвое шире его), все, как дети в затруднительном положении, смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах.
Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он все помнил, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека.
Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятеля, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или лошадь), – из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.
– Вишь, пыхнул опять, – проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром, – теперь мячик жди – отсылать назад.
– Что прикажете, ваше благородие? – спросил фейерверкер, близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что-то.
– Ничего, гранату… – отвечал он.
"Ну-ка, наша Матвевна", – говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая крайняя старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый нумер второго орудия в его мире был дядя; Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разгоранью этих звуков».
3. Ритм слова, или Туда и обратно
В слове есть, во-первых, звуковые краски, во-вторых, их расположение, последовательность, то есть определенный ритм. При этом от каждого слова остается ощущение завершенного круга (цикла), путешествия, о котором говорит Мандельштам. Прислушайтесь еще раз: «бабочка», «тяжелый», «метро», «холод», «лес», «Лиурна»…
Эта завершенность аналогична завершенности художественного произведения, например стихотворения. Но что представляет собой завершенность стихотворения? Вообще говоря, это вопрос того же размера, что и вопрос о смысле жизни. Ответить на него невозможно, но можно показать модель. Возьмем одно из стихотворений Пушкина:
- Я пережил свои желанья,
- Я разлюбил свои мечты;
- Остались мне одни страданья,
- Плоды сердечной пустоты.
- Под бурями судьбы жестокой
- Увял цветущий мой венец —
- Живу печальный, одинокой,
- И жду: придет ли мой конец?
- Так, поздним хладом пораженный,
- Как бури слышен зимний свист,
- Один – на ветке обнаженной
- Трепещет запоздалый лист!..
Закройте ладонью последнюю строфу – чувствуете незавершенность? Вы бы ее смогли почувствовать, даже если бы не знали о существовании третьей строфы. Это как если бы вместо слова «холод» сказали только «хол…». Между тем в первых двух строфах высказана вполне законченная мысль. Третья строфа дает лишь сравнение. Однако мы чувствуем, что она – главная, что без нее стихотворения нет. Не на одну изъятую треть нет, а вообще нет, оно не живет.
Чтобы понять, в чем заключается завершенность стихотворения, нам нужна еще одна модель. Например, трехступенчатая завершенность жизни: рождение, протекание жизни, смерть. (Мы с вами занимаемся алхимией, то есть применяем принцип «Изумрудной Скрижали» Гермеса Трисмегиста: «То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи». Или, как сказано у Гёте, «и вверх снует, и вниз снует». В нашем случае слово можно объяснить через модель стихотворения, а модель стихотворения – через модель жизни человека. И обратно.) Стихотворение – это маленькая жизнь. Конец стихотворения – смерть. Начало стихотворения – рождение. Но все же почему нельзя остановить данное стихотворение на второй строфе, на слове «конец»?
Есть такая разновидность обряда посвящения у некоторых живущих в первобытном состоянии народов: проходящий обряд посвящения человек бросается с дерева вниз головой, но не разбивается, так как его удерживает привязанная к ноге лиана. Обряд посвящения как раз и строится по вышеуказанной трехчастной модели, только фокус в том, что рождение стоит последним пунктом: первое – протекание жизни (падение, умирание), второе – смерть (распад, расчленение), третье – рождение, точнее возрождение (собирание воедино, восстановление). Смысл обряда посвящения, как известно, в том, что человек должен получить опыт смерти, чтобы возродиться к жизни, то есть родиться во второй раз. Схема эта универсальна: можно говорить, например, как в китайской традиции, о погружении ян (светлого, мужского, твердого начала) в инь (темное, женское, жидкое начало), об их борьбе и постепенном соединении в этой борьбе, ведущем к возрождению, восстановлению начала ян.
Стихотворение и являет собой такой обряд посвящения, такую универсальную схему: оно падает, как самолет в штопоре, но в тот самый момент, когда гибель (остановка) неизбежна, включается пропеллер – «трепещущий запоздалый лист». Он суммирует все предыдущие жалобы в едином образе, превращает их в картинку – и тем самым сбрасывает их. Он отражает в себе, как в зеркале, все звучание стихотворения, все стихотворение как бы является развернутым рисунком «трепещущего запоздалого листа». Это имя текста, его ангел-хранитель. Прислушайтесь к первым двум строфам – и вы услышите этот трепещущий лист. В последней строфе хорошо видно, как он аккумулирует в себе весь ритм, примиряя противоположности, инь и ян:
Б звучит неотвратимо четко, по-мужски (что подчеркнуто и мужской рифмой), А откликается тревожными водоворотами, замираниями души над пропастью: «пораженный», «обнаженный». В последней строке, которая по схеме должна была бы быть убийственно четкой, вдруг возникает водоворот, смещенный к центру, все уравновешивающий. Он цепляется за подставленный в первом А этой строфы выступ на первом ударении («Так…»), как за гвоздик. Кроме того, «так» отражается в предпоследней строке – точно над воронкой, над словом «запоздалый» – в слове «ветке». Так концовка вбирает в себя все стихотворение и отражает его, пуская возвратную волну. Получается что-то вроде вечного двигателя. В стихотворении на последней строке происходит взрыв – но это внутренний взрыв, энергия не улетучивается, а питает, живит все стихотворение. Вообще говоря, не может быть настоящего стихотворения без внутреннего взрыва в нем.
По сути, умирание и возрождение в стихотворении происходит в том смысле, что оно, постепенно, по мере своего звучания, превращаясь в единое слово, дробит, умерщвляет все отдельные слова в себе. Оно разрезает слова на элементы, на отдельные звуки, соединяя их по-иному, по-своему. Но в результате такого расчленения каждое отдельное слово вдруг возрождается, начинает звучать осмысленно, символически. И это становится очевидно тогда, когда стихотворение заканчивается, концовка стихотворения это выявляет. Фокусник, распиливший девушку, предъявляет ее по окончании фокуса целой и невредимой. Или: герой сказки разрезается, умерщвляется, спрыскивается сначала мертвой, а затем живой водой – и оживает, становясь при этом лучше, чем прежде.
Ю. М. Лотман пишет об этом в «Лекциях по структуральной поэтике»:
«…звуковая организация стиха довершает размельчение словесных единств на отдельные фонемы (минимальные единицы звукового строя языка, служащие для различения смысла слов. – И. Ф.). Таким образом, может показаться, что сумма структурных граней стиха раздробляет составляющие стих слова на фонологические единицы, превращает стих в звукоряд (Фонология изучает систему фонем языка и их различительные признаки. – И. Ф.). Но в том-то и дело, что все это представляет собой только одну сторону процесса, которая существует лишь в единстве с противонаправленной ей второй.
Специфика структуры стиха состоит, в частности, в следующем: поток речевых сигналов, будучи раздроблен на фонологически элементарные частицы, не утрачивает связи с лексическим значением; слова уничтожаются и не уничтожаются в одно и то же время.
Любое расчленение стиха не приводит к разрушению составляющих его слов. Разнообразные ритмические границы накладываются на слово, дробят его, но не раздробляют. Слово оказывается раздробленным на единицы и вновь сложенным из этих единиц».
А теперь поговорим о смысле жизни. Вернее, о признаке правильной жизни (жизни, имеющей смысл) – об ощущении счастья. Счастье – это когда время как бы останавливается, перестает быть неотвратимым (гётевское «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»), начинает течь в обратную сторону (как утверждает Павел Флоренский о протекании времени в сновидении – что спорно собственно для сновидения, но бесспорно для искусства). Стихотворение подобно алхимическому изображению мифического змея Уробороса (по-гречески: «кусающий свой хвост»), означающему циклическую природу жизни: чередование созидания и разрушения, умирания и возрождения, то есть означающему соединение времени и вечности:
Михаил Пришвин говорит (в записной книжке): «Поэзия – это сила центробежная, подчиненная центростремительной силе. <…> Движение по кругу». А Ван Гог вообще как-то записал: «Жизнь, вероятно, кругла».
Ритм стихотворения – это его время, что дает нам возможность проникнуть в тайну прекрасного мгновения, понять «технологию» счастья. Флоренский в лекциях о пространственности и времени в искусстве пишет:
«Когда это единство в сознании, так или иначе, установилось, музыка перестает быть только во времени, но и подымается над временем. <…> Активностью внимания время музыкального произведения преодолевается, потому что оно преодолено уже в самом творчестве, и произведение стоит в нашей душе как нечто единое, мгновенное и вместе вечное, как вечное мгновение, хотя организованное, и даже именно потому, что организованное».
Помните, как у Владимира Соловьева: «Безмерное в его размер входило…»
О том же пишет Мартин Бубер в книге «Я и Ты»:
«Как мелодия не есть совокупность звуков, стихотворение – совокупность слов и статуя – совокупность линий; но надо раздирать на куски, чтобы из единого сделать множественное. <…> И как молитва не совершается во времени, но время течет в молитве, жертвоприношение не совершается в пространстве, но пространство пребывает в жертве… ветры причинности сворачиваются клубком у моих ног, и колесо судьбы останавливается. <…> Вот вечный источник искусства: к человеку подступает образ и хочет через него воплотиться, сделаться произведением. Не порождение его души, но видение, подступающее к ней и требующее от нее творческого воздействия. Оно ждет от человека сущностного акта: совершит он его, скажет своим существом основное слово явившемуся образу – и хлынет творящая сила, и родится произведение».
Ритм стихотворения формирует некое метафизическое тело, как бы тело ангела (помните, у Мандельштама: «И призраки требуют тела, и плоти причастны слова»).
Посмотрим внимательнее на первобытный обряд, подразумевающий преображение, второе рождение человека (обряд посвящения или во многом подобный ему обряд исцеления). Суть обряда хорошо передают строки поэмы Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате»:
- На пути их, в дебрях леса,
- Дуб лежал, погибший в бурю,
- Дуб-гигант, покрытый мохом,
- Полусгнивший под листвою,
- Почерневший и дуплистый.
- Увидав его, Оссэо
- Испустил вдруг крик тоскливый
- И в дупло, как в яму, прыгнул.
- Старым, дряхлым, безобразным
- Он упал в него, а вышел —
- Сильным, стройным и высоким,
- Статным юношей, красавцем!
Сравните это со стихотворением Пушкина «Я пережил свои желанья». Здесь хорошо видны прохождение через смерть, распад – и возрождение. Герой ныряет и выныривает, уходит и возвращается.
Смысл первобытного обряда посвящения – в том, чтобы, получив опыт смерти, заручиться помощью духа-помощника, который будет помогать, например, в охоте, или, говоря более широко, обрести ангела-хранителя, направляющего в жизни.
Во время обряда посвящаемый подвергается тяжелым физическим и психическим испытаниям, максимально приближающим его к опыту клинической смерти. Л. Леви-Брюль в книге «Первобытное мышление» пишет:
«Новопосвящаемые отделяются от женщин и детей, с которыми они жили до этого времени. Обычно отделение совершается внезапно и неожиданно. Будучи доверены попечению и наблюдению определенного взрослого мужчины, с которым они, как правило, находятся в родственной связи, новопосвящаемые обязаны пассивно подчиняться всему, что с ними делают, и переносить без каких бы то ни было жалоб всякую боль. Испытания протекают долго и мучительно, а порой доходят до настоящих пыток. Тут мы встречаем лишение сна, пищи, бичевание и сечение палками, удары дубиной по голове, выщипывание волос, соскабливание кожи, вырывание зубов, обрезание, подрезание, кровопускание, укусы ядовитых муравьев, душение дымом, подвешивание при помощи крючков, вонзаемых в тело, испытание огнем и т. д. Несомненно, второстепенным мотивом в этих обычаях может служить стремление удостовериться в храбрости и выносливости новопосвящаемых – испытать их мужество, убедиться, способны ли они выдержать боль и хранить тайну. Главная первоначальная цель, которую преследуют при этом, – мистический результат, совершенно не зависящий от их воли: речь идет о том, чтобы установить сопричастность между новопосвящаемым и мистическими реальностями, каковыми являются сама сущность общественной группы, тотемы, мифические или человеческие предки. Путем установления сопричастности посвящаемому дается, как уже говорилось, новая душа. Здесь появляются непреодолимые для нашего логического мышления трудности, вызываемые вопросом о единстве или множественности души. Между тем для пра-логического мышления нет ничего проще и легче, чем представить себе то, что мы называем душой, как нечто одновременно и единое, и множественное. Как индейский охотник Северной Америки, постясь восемь дней, устанавливает между собой и духом медведей мистическую связь, которая даст ему возможность выследить и убить медведей, так и испытания, налагаемые на посвящаемых, устанавливают между ними и мистическими существами, о которых идет речь в данном случае, необходимый контакт, без которого слияние, являющееся целью всех этих церемоний, не осуществилось бы. Важна не материальная сторона испытаний. Она столь ж безразлична сама по себе, как боль, которую испытывает пациент нашего врача, безразлична для успеха хирургической операции. Способы и средства, применяемые первобытными людьми для того, чтобы привести посвящаемых в состояние надлежащей восприимчивости, действительно очень болезненны. К ним прибегают, однако, не из-за болезненности, но от них не думают и отказываться по этой причине. Все свое внимание они устремляют на тот момент, который единственно и имеет значение: на состояние особой восприимчивости, в которое надлежит привести посвящаемых, чтобы осуществилась желанная сопричастность. Состояние восприимчивости заключается главным образом в своего рода деперсонализации, потере сознания, вызываемой усталостью, болью; истощением нервных сил, лишениями, одним словом, в мнимой смерти, за которой следует новое рождение. Женщинам и детям (которым запрещено присутствовать при подобных церемониях под страхом самых суровых наказаний) внушают, что новопосвящаемые действительно умирают. Это убеждение внушают и посвящаемым, сами старики, возможно, в известном смысле разделяют такую веру. "Цвет смерти белый, и новопосвящаемые выкрашены в белый цвет". Если, однако, мы вспомним, чем являются смерть и рождение для пра-логического мышления, то увидим, что это мышление должно было так представлять себе состояние, делающее возможными сопричастности, в которых и заключается посвящение юношей. Смерть отнюдь не полное и простое упразднение и уничтожение всех форм деятельности и существования, составляющих жизнь. Первобытный человек никогда не имел ни малейшего представления о таком полном уничтожении. То, что мы называем смертью, никогда не воспринимается им как нечто законченное и полное. Мертвые живут и умирают, и даже после второй смерти они продолжают существовать, дожидаясь нового перевоплощения. То, что мы называем смертью, совершается в несколько приемов. Первая стадия смерти, подражание которой дают испытания посвящения, не что иное, как перемена места, перенесение души, которая мгновенно покинула тело, оставаясь, однако, в непосредственном соседстве с ним. Это начало перерыва сопричастности. Оно ставит личность в совершенно особое состояние восприимчивости, родственное сну, каталепсии, экстазу, которые во всех первобытных обществах являются постоянными условиями общения с невидимым миром».
Модель обряда посвящения явилась основой для структуры волшебной сказки (как можно прочесть в книге В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки»). Героя сказки уводят в лес для совершения обряда приобщения к смерти, он встречается с хозяйкой леса – Бабой-ягой, которая есть существо другого мира, мира мертвых, попадает через ее «избушку на курьих ножках» (остаток в сказке мифического чудовища, пожирающего героя) в иной мир, по которому надо, например, идти в железных башмаках (пока не истопчешь), питаясь железными хлебами, подвергается разным испытаниям (в том числе и битве с чудовищем – все тот же образ пожирающего чудовища, чудовища-смерти, чудовища-туннеля, из которого можно выбраться, например, распоров ему живот), получает помощь от волшебных помощников и волшебных предметов, подвергается иногда расчленению (тот же образ поедания чудовищем), однако вновь соединяется помощниками при помощи опрыскивания живой водой, после чего возвращается и женится (именно после обряда посвящения можно и нужно было жениться, именно тогда юноша становился полноправным членом племени). Сказка – это содержание обряда посвящения, о котором стали рассказывать детям, когда перестали уже совершать сам обряд, когда он перестал быть тайной и смысл его стал забываться (и стал постепенно изменяться при передаче в сказках). Структура же сказки легла затем в основу, например, художественной литературы, ее пафоса и сюжетов.
Далеко ли ушел от обряда посвящения современный человек? Видимо, не очень. Например, он иногда способен переживать подобный обряд во сне. Кроме того, свидетельства людей, перенесших клиническую смерть, довольно едины и передают как раз такой «виртуальный» обряд посвящения. Если их суммировать, то получается примерно следующая картина:
Человек чувствует, как его душа отделяется от тела в виде заряда энергии, что она летит – как птица, что она все постигает без слов, через некий универсальный язык. Боль исчезает, становится тепло. Душа слышит какие-либо звуки: стук, жужжание, звон, свист, музыку. Она скользит по темному безвоздушному туннелю к ярчайшему свету, который, однако, не ослепляет и не обжигает. Свет оказывается живым. Он показывает, высвечивает душе всю ее жизнь, как в зеркале или на сцене, – в одно мгновение, но во всех мельчайших деталях. Душа встречается также с душами умерших родственников и знакомых. Кроме того, ей нужно преодолеть какую-то границу: забор, дверь, поле, реку, океан, пропасть, лес, полосу тумана. Люди, перенесшие клиническую смерть, сохраняют чувство присутствия живого света, как бы ангела-хранителя, говорят о том, что он помогает им ориентироваться в жизни. (Звучит, возможно, слишком умильно, но таковы свидетельства. Видимо, в них «добавляют сахар» те, кто пишет о них, а возможно, что и те, кто пережил это и невольно приукрашивает, вспоминая. Должно быть, все происходит более жестко, болезненно и опасно. И не всегда столь отчетливо. Но структура, видимо, верна, то есть сам путь действительно таков.)
Трудно, кстати сказать, согласиться с утверждением Леви-Брюля, что не важна материальная сторона испытаний, что не важны способы и средства, применяемые для достижения состояния особой восприимчивости. Так, например, «выщипывание волос, соскабливание кожи, вырывание зубов, обрезание, подрезание, кровопускание» и т. п. не только доводят посвящаемого до состояния деперсонализации, но и обозначают, символизируют деперсонализацию. Способы и средства, используемые в обряде посвящения, имитируют метафизический путь, настраивают на метафизическое путешествие, а не только являются пыткой, вызывающей у посвящаемых определенное психическое состояние. Возникновению потусторонней музыки помогают барабанный бой или тростниковое гудение, общению на священном языке – нечленораздельные восклицания, появлению духов – маски и истуканы, появлению живого света – костер, прохождению через границу двух миров – пролезание через выкопанный туннель, отделению души от тела и полету – кружение в танце или даже прыжок с дерева (с привязанной ногой).
Карл-Густав Юнг в работе «Об архетипах коллективного бессознательного» приводит примеры снов, подобных обряду посвящения:
«Протестантскому теологу часто снился один и тот же сон: он стоит на склоне, внизу лежит глубокая долина, а в ней темное озеро. Во сне он знает, что до сего момента что-то препятствовало ему приблизиться к озеру. На этот раз он решается подойти к воде. Когда он приближается к берегу, становится темно и тревожно, и вдруг порыв ветра пробегает по поверхности воды. Тут его охватывает панический страх, и он просыпается.
Этот сон содержит природную символику. Сновидец нисходит к собственным глубинам, и путь его ведет к таинственной воде. И здесь совершается чудо купальни Вифезда: спускается ангел и возмущает воды, которые тем самым становятся исцеляющими. Во сне это ветер, Пневма, дующий туда, куда пожелает. Требуется нисхождение человека к воде, чтобы вызвать чудо оживления вод.
Дуновение духа, проскользнувшее по темной воде, является страшным, как и все то, причиной чего не выступает сам человек, либо причину чего он не знает. Это указание на невидимое присутствие, на нумен».
Юнг пишет также, проводя параллель между сновидением и мифом:
«Видимо, нужно вступить на ведущий всегда вниз путь вод, чтобы поднять вверх клад, драгоценное наследие отцов. В гностическом гимне о душе сын посылается родителями искать жемчужину, утерянную из короны его отца-короля. Она покоится на дне охраняемого драконом глубокого колодца, расположенного в Египте – земле сладострастия и опьянения, физического и духовного изобилия. Сын и наследник отправляется, чтобы вернуть драгоценность, но забывает о своей задаче, о самом себе, предается мирской жизни Египта, чувственным оргиям, пока письмо отца не напоминает ему, в чем состоит его долг. Он собирается в путь к водам, погружается в темную глубину колодца, на дне которого находит жемчужину. Она приводит его в конце концов к высшему блаженству. <…>
Погружение в глубины всегда предшествует подъему. Так, другому теологу снилось, что он увидел на горе замок Св. Грааля. Он идет по дороге, подводящей, кажется, к самому подножию горы, к началу подъема. Приблизившись к горе, он обнаруживает, к своему величайшему удивлению, что от горы его отделяет пропасть, узкий и глубокий обрыв, далеко внизу шумят подземные воды. Но к этим глубинам по круче спускается тропинка, которая вьется вверх и по другой стороне. Тут видение померкло, и спящий проснулся. И в данном случае сон говорит о стремлении подняться к сверкающей вершине и о необходимости сначала погрузиться в темные глубины, снять с них покров, что является непременным условием восхождения. В этих глубинах таится опасность; благоразумный избегает опасности, но тем самым теряет и то благо, добиться которого невозможно без смелости и риска».
Во время обряда посвящения человек одновременно проделывает путь в смерть и путь по собственному телу. Когда человек спускается в сон, вместо спинномозговой системы начинает действовать симпатическая нервная система, центр которой – в «солнечном сплетении». При этом происходит «деперсонализация»: личное сознание умирает, «расщепляется», растворяется, что проявляется в образах погружения в воду, расчленения. (Сравните с обрядом посвящения, в котором инсценируется расчленение посвящаемого, его поедание змеем или рыбой, или с одним из обрядов тибетского буддизма, в котором фигурка человека разрезается ножом на несколько частей.)
У Юнга, прежде чем погрузиться в воду, человек встречает некую фигуру – собственную Тень. Этот двойник – как бы отражение замкнутости, ограниченности человеческого Я, человеческого «эго» на поверхности воды при приближении к безграничному и всеобщему (не случайно двойник может являться как отражение в зеркале). При этом мир неожиданно предстает как хаос, как бессмысленная и враждебная человеку множественность. Но эта дурная множественность как раз и образована бесконечно множащимися отражениями Я, которое все никак не может объединиться с не-Я, пробиться к нему, отражается, отскакивает от поверхности не-Я (что и есть расчленение героя). Если посвященный, «дважды рожденный» видит глядящий на него множеством глаз единый мир, то человек, не родившийся свыше или повторно, но уже волей или неволей ступивший на тропу обряда посвящения, видит сначала лишь умноженного себя, а это устрашающая картина . Такое противостояние единства и множественности воплощено в образе Медузы Горгоны с ее окаменяющим взглядом и волосами-змеями, в образе Вельзевула («повелитель мух»). По данному принципу строятся и многие фильмы ужасов. Особенно очевидна связь между дьявольским взглядом и дурной множественностью в гоголевской повести «Портрет»:
«К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз».
Или в повести Садека Хедаята «Слепая сова», где герой видит свое отражение, своего двойника, которого затем сменяет ощущение дурной множественности – в виде мух:
«Когда я встал, чтобы зажечь светильник, эта тень сама собой растворилась и исчезла. Я подошел к зеркалу, пристально вгляделся – отражение в нем показалось чужим, и это было неправдоподобно и страшно. Мое отражение стало сильнее меня, а я стал точно бы отражением в зеркале, и у меня появилось такое чувство, что я не могу находиться в одной комнате со своим отражением. Я боялся, что, если побегу, отражение бросится за мной, и я сидел с ним неподвижно лицом к лицу, как сидят две кошки, готовые подраться. Я только поднял руки и закрыл ими глаза, чтобы в глубине ладоней обрести вечную ночь. По большей части ужас порождал во мне особое наслаждение, упоение – такое, что голова кружилась, колени слабели, меня тошнило. Неожиданно я ощутил, что стою на ногах – было мне странно, удивительно, как это я мог стать на ноги? Мне показалось, что, если я двину ногой, я потеряю равновесие. Как-то особенно закружилась голова, а земля и все сущее на ней показались бесконечно далекими от меня. Я смутно желал землетрясения или молнии небесной, чтобы снова войти в мир покоя и света.
Потом я решил снова лечь в постель и про себя все повторял: "Смерть, смерть…" Губы мои были сомкнуты, но я боялся своего собственного голоса, прежняя смелость меня совершенно покинула. Я стал как те мухи, которые в начале осени прячутся в комнатах, сухие, безжизненные мухи, боящиеся собственного жужжания. Сперва они неподвижно облепляют стены, затем, почувствовав, что еще живы, начинают дико биться о стены и двери, и их трупики устилают пол по краям комнаты».
Не случайно мистики нередко воспринимали подобную дурную множественность как результат того, что разбито некое зеркало. При этом разбитое зеркало может символизировать не только смерть, но и творение мира, поскольку каждый осколок сам является зеркалом, и эти зеркала бесконечно отражают друг друга. В любом случае момент этот страшен и опасен.
Очень отчетливо отражение лица и размножение его по водной поверхности видно в «Исповеди англичанина, употребляющего опиум» Томаса Де Квинси:
«К моим архитектурным построениям прибавились и призрачные озера – серебристые пространства воды. Эти образы постоянно наполняли мою голову, и я уж начинал бояться (хотя, возможно, то вызовет смех у медиков), что подобная водянка присутствует в ней объективно (выражаясь метафизически) и что орган восприятия отражает самое себя. <…>
Воды преобразили свой лик, превратясь из прозрачных озер, светящихся подобно зеркалам, в моря и океаны. Наступившая великая перемена, разворачиваясь медленно, как свиток, долгие месяцы, сулила непрерывные муки; и действительно – я не был избавлен от них вплоть до разрешения моего случая. Лица людей, часто являвшихся мне в видениях, поначалу не имели надо мной деспотической власти. Теперь же во мне утвердилось то, что я назвал бы тиранией человеческого лица. Возможно, иные эпизоды моей лондонской жизни ответственны за это. Словно бы в подтверждение сему, ныне случалось наблюдать мне, как на волнующихся водах океана начинали появляться лица и вслед за тем уж вся поверхность его оказывалась вымощена теми лицами, обращенными к небу; лица молящие, гневные, безнадежные вздымались тысячами, мириадами, поколеньями, веками – смятенье мое все росло, а разум – колебался вместе с Океаном».