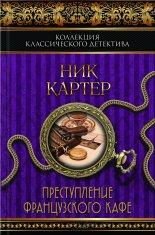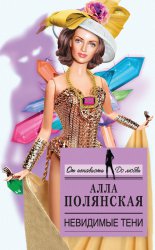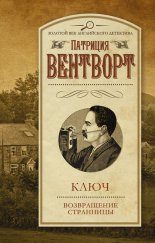Вопрос на десять баллов Николс Дэвид

– Неправда! Не думаю я о ней! – возмущаюсь я.
Но я о ней думаю. Ребекка смотрит мне в глаза ровно столько, сколько нужно, чтобы убедиться в этом, затем отводит взгляд.
– Как это глупо, – спокойно говорит она, протирая глаза ладонями. – Что-то я поднабралась немного. Пойду я, наверное.
Раньше я в этом не был уверен, а теперь точно не хочу отпускать ее, поэтому подползаю к ней и пытаюсь снова поцеловать ее. Она отворачивается.
– Почему ты уходишь?
– Не знаю… Я не знаю, что на меня нашло. Мы можем это все забыть?
– Хорошо. Ладно. О’кей. Я бы не хотел, чтобы ты уходила, но раз ты так хочешь…
– Да, я так думаю. Думаю, мне пора идти.
Она поднимается, запахивает полы пиджака и направляется к двери, оставив меня в раздумьях: что я делал все это время. Помимо банального полнейшего безрассудства. Я выхожу вслед за Ребеккой в коридор, где она с трудом протискивается сквозь скопление велосипедов.
– Ну вот, посмотри – теперь порвала эти чертовы колготки…
– Дай я хоть домой тебя провожу.
– Спасибо, не надо.
– Мне не трудно…
– Да я сама…
– Тебе не стоит возвращаться одной…
– Я в порядке…
– Нет же, я настаиваю…
Тут Ребекка резко разворачивается и, тыкая в меня пальцем, отрубает:
– А я настаиваю, чтобы ты не шел, понятно?
Мы оба поражены резкостью этого высказывания: кажется, я даже сделал шаг назад. Мы смотрим друг на друга, пытаясь понять, что происходит, затем Ребекка говорит:
– Кроме того, тебе надо лечь. У тебя сегодня критический день, помнишь? – Она открывает дверь. – Давай больше не будем об этом вспоминать, ладно? И никому об этом не рассказывай, хорошо? Особенно этой Алиске-блин-Харбинсон. Обещаешь?
– Конечно же, я никому не скажу. Зачем мне говорить Алисе…
Но Ребекка уже на полпути вниз по ступеням и, не оглядываясь, уносится в ночь.
Третий раунд
– Простите меня, – сказал Себастьян через некоторое время. – Боюсь, я был нелюбезен с вами сегодня. Брайдсхед часто оказывает на меня такое действие.
Ивлин Во. Возвращение в Брайдсхед. Перевод И. Бернштейн
23
В о п р о с: Какие ткани подразделяются на три типа: поперечнополосатые, гладкие и сердечная ткань?
О т в е т: Мышечные ткани.
Несколько зароков, данных в новогоднюю ночь.
1. Больше времени уделять своей поэзии. Если ты серьезно настроен в отношении поэзии как литературной формы, а также источника дополнительного заработка, то тебе над ней стоит поработать побольше, особенно если ты намерен выработать собственный неповторимый стиль. Помни, Т. С. Элиот написал «Четыре квартета», работая в банке, так что недостаток времени – это не оправдание.
2. Хватит давить прыщи, особенно когда разговариваешь с людьми. Если наука нас чему и научила, так это тому, что выдавливание прыщей только распространяет инфекцию и приводит к появлению новых угрей. Простооставь свою кожу в покое, найди другое занятие для рук, научись курить или еще что-нибудь в этом роде. Помни: никто не захочет поцеловать кровоточащее лицо.
3. Будь невозмутимым. Не суетись перед Алисой – она тебя будет больше уважать.
4. Подкачай немного мускулы.
Все это было написано примерно без четверти одиннадцать в новогоднюю ночь, и к тому времени я порядочно набрался, поэтому почерк слегка неразборчивый. Двадцать минут спустя я уже спал, таким образом поправ общепринятое заезженное представление о том, что все обязаны гулять и веселиться в новогоднюю ночь. Я провел время необычно и невероятно дерьмово.
Празднование началось в 20:35, когда я нашел отвертку в ящике кухонного стола и открутил дверцу шкафа Джоша, чтобы добраться до его переносного телика. Затем я сел перед телевизором и посмотрел фильм про Джеймса Бонда по Ти-Ти-Ви, присоединившись к многочисленной армии престарелых вдовушек, пациентов психиатрических больниц и всех остальных людей, которые остались дома в новогоднюю ночь. Но чем больше я пил, тем больше думал о папе и Алисе, и они странно смешались в моей голове, так что к тому времени, как агент 007 сорвал злой план Скараманги по захвату мирового господства, я был уже полной развалиной как физически, так и эмоционально, поэтому я стал единственным человеком в мировой истории, который расплакался над фильмом «Человек с золотым пистолетом», ну, может, вторым после Бритт Экланд [68]. Затем я собрал волю в кулак и написал эти зароки.
И сейчас, две недели спустя, эти планы вовсю реализуются. Правда, я еще не взялся за поэзию, но вскоре этим займусь, когда будет время. Зато я почти не прикасаюсь к лицу. И я очень крут в отношениях с Алисой, в основном по той причине, что не видел ее, не слышал и понятия не имею, где она может быть. На самом деле в социальном плане у меня снова наступило некоторое затишье. Как предупреждал Чарльза в книге «Возвращение в Брайдсхед» его кузен, во втором семестре в университете обычно стараешься избежать общения с нежелательными людьми, с которыми познакомился в первом семестре. И я начинаю подозревать, что на самом деле один из таких людей – я сам.
Но вернемся к моим планам. Последний пункт нуждается в разъяснениях. Я решил, что накачать мышцу-другую мне не повредит, но нет, это не потому, что я купился на поверхностное, сексистское представление о том, что рекламная индустрия называет привлекательным «мужественным» образом, и не потому, что надо мной начали подтрунивать, по крайней мере не в открытую. Дело всего-навсего в том, что я довел свой туберкулезный вид до его логического завершения. Кроме того, еще со школьной скамьи я руководствовался принципом, что можно быть либо умным, либо спортсменом, и это две взаимоисключающие вещи, но ведь на самом деле нет причин, которые мешают развивать и то и другое: вот Патрик Уоттс, например, умен и очень даже спортивен, пусть у него и есть некоторые проблемы личного плана. Возможно, еще лучший пример – Дастин Хоффман в фильме «Марафонец»: он и спортивный, и умный, и у него есть целостность натуры – такой парень легко может пробежать пять миль со связкой библиотечных книг под мышкой. Или возьмем пример из реального мира – Алису Харбинсон. Алиса Харбинсон обладает поразительно свежим лицом, здоровьем и умом. По крайней мере, она была такой, когда я в последний раз видел ее. Две недели и три дня назад. Целую вечность назад.
Не стоит беспокоиться. Я сублимирую всю эту энергию в интенсивные занятия фитнесом. Я в точности придерживаюсь строгого ежедневного режима, составленного в стиле Канадских королевских ВВС, согласно которому мой день начинается с того, что я засовываю ноги под шкаф, убедившись сначала, что он на меня не свалится, потом делаю подъем туловища (восемь раз) и отжимания (четыре раза). Это все хорошо, но у меня не возникает ощущения, что я проделал настоящий, полный комплекс упражнений на все группы мышц, так что немного дополнительных упражнений мне не помешают. Нужно потягать железо. Таким образом, я решаю потратить свои рождественские деньги на снаряды для занятий тяжелой атлетикой.
Я ем здоровый, питательный завтрак, приобретенный в магазинчике на углу, – батончик мюсли в шоколаде и литр натурального ананасового сока «Джаст джус», затем скаутский марш-бросок (тридцать минут – бегом марш, тридцать минут – шагом марш) в центр города; эта дистанция кажется бесконечно длинной, особенно если бежишь трусцой в спецовке и джинсах. Но я не останавливаюсь, бегу по улицам, заваленным остовами новогодних елок, которые мусорщики не хотят вывозить. То и дело я испускаю тихие отрыжки, пахнущие ананасовым соком. Очень скоро бок пронзает острая боль – намек на то, что мне необходимо уделять большее внимание здоровью своей сердечно-сосудистой системы, но этим можно заняться и попозже. Мой приоритет номер один – это увеличить мышечную массу и сделать мышцы более рельефными. Я не хочу стать таким раздутым, как боксер и штангист, а вот фигура спортивного гимнаста, как у одного из тех парней с параллельных брусьев, – это как раз для меня. Если в какой-то момент мне покажется, что мои мускулы становятся гипертрофированными, я сразу же прекращу нагрузки.
Обливаясь ручьями пота, я захожу в спортивный магазин сразу же после его открытия. Я, наверное, второй раз в жизни захожу в магазин спорттоваров, потому что до сих пор все спортивные костюмы покупала мне мама. Я сильно волнуюсь перед тем, как войти, словно собираюсь к фотографу или еще что-то в этом роде. Оказавшись внутри, я вижу перед собой помещение, которое сильно отдает раздевалкой для мальчиков, и это ощущение усиливается продавцом – он примерно моего возраста, коренастый и угрюмый, и подходит ко мне с таким видом, будто собирается шлепнуть меня мокрым полотенцем.
– Парень, помощь не нужна?
– Спасибо, я просто смотрю! – отвечаю я этаким голосом-чуть-ниже-чем-обычно, затем начинаю прогуливаться по магазину, опытным глазом оценивая ракетки для бадминтона, затем как бы мимоходом подхожу к гантелям.
Их две штуки, и сделаны они из прочного железа, их вес можно регулировать, так чтобы я мог постепенно наращивать нагрузку, пока не стану похож на Адониса, но не более того. В этих гантелях есть нечто само собой разумеющееся, поэтому после того, как я выясняю, что, да, они тяжелые и сделаны из железа, в отличие от тех, крашенных в серый цвет пластмассовых, и, да, я могу их себе позволить – стоят они 12,99 фунта, я сразу же тащу их к продавцу. И только после того, как я протянул продавцу деньги, а он упаковал гантели в толстый пластиковый пакет, я понимаю, что сделал весьма примитивную логистическую ошибку: домой мне их не донести.
Первые двадцать пять ярдов я убеждаю себя, что это возможно, если идти достаточно быстро, и я перебрасываю пакет в другую руку, когда боль от пластика, врезающегося в плоть, становится невыносимой. Но за «Вулвортом» происходит неизбежное: у пакета разрывается дно, и железяки падают на асфальт с таким индустриальным грохотом, что покупатели, в основном молодые мамаши с чадами в колясках, оборачиваются и смотрят на меня, потом на гантели, а я отвечаю выражением лица «и кто засунул мне гири в пакет?!». Тротуарная плитка, похоже, не повреждена, но одна гантель все еще тяжело катится по направлению к аптеке, как маленький танк, так что мне приходится делать рывок к ней и подставлять ногу, чтобы остановить ее, что вызывает определенное веселье среди мамаш, которые показывают на меня пальцем, словно говоря своим детишкам: «Посмотри, какой смешной недоразвитый дядя». Я беру по гантели в каждую руку и быстро ухожу прочь. Дойти удается до магазина модной одежды «Дороти Перкинс» – еще ярдов двадцать, – где мне приходится снова остановиться, чтобы отдышаться. Когда я прислоняюсь к витрине, гантели замечают какие-то девчонки и начинают смеяться надо мной. Я решаю использовать инерцию для продвижения вперед – вся штука в том, чтобы идти и не останавливаться. Если я буду идти, все будет хорошо. В конце концов, осталось не более мили с четвертью.
Когда я выхожу из торгового центра, перехожу через дорогу и иду по жилым кварталам, становится намного проще делать регулярные остановки для отдыха без лишних взглядов прохожих. Я жду, пока восстановится дыхание, потом поднимаю гантели (руки при этом свисают, как у бабуина) и, спотыкаясь, совершаю короткие перебежки по улице, словно под пулеметным огнем, пока выдерживает сердце. Я чувствую себя так, словно меня только что воскресили. Я весь потный, лицо красное, плечи растянуты, вывихнуты и жутко болят, руки неестественно, как в мультиках, вытянуты, а металлический решетчатый узор на ручках гантелей оставил на моих ладонях неизгладимый отпечаток, отчего они стали похожи на сырые лапы рептилии. Сегодня вечером у меня персональная консультация, а я еще и близко к дому не подошел, поэтому я снова поднимаю гантели и бегу.
Вскоре я добираюсь до южного склона Ричмонд-Хилл, чья вершина теряется в низко плывущих облаках. Мне удается проковылять еще двадцать пять ярдов, пока я не сползаю, согнувшись пополам, по стене. Я чувствую себя так, словно кто-то врезал мне ногой по легким, лопнув их, как бумажные пакеты. Я никак не могу остановить кашель, каждый вдох-выдох отдается болью в горле – оно высохло и ужасно першит; я с трудом сдерживаю позывы к рвоте. Во рту стоит сладковато-желчный вкус ананасового сока, по лицу льются струи пота и каплями срываются с носа на мостовую, и тут кто-то кладет мне руку на плечо и говорит:
– С вами все в порядке? Вы себя хорошо чувствуете? – (Я открываю глаза и вижу, что это Алиса.) – Может, мне нужно вызвать… Брайан?
– Алиса! – Вдох, тяжелый выдох. – Ох… привет… Алиса. – Я выпрямляюсь, вдыхаю, тяжело выдыхаю. – Как дела? – задыхаясь, спрашиваю я с невозмутимым видом.
– Со мной-то все хорошо, а вот из-за тебя я напугалась – подумала, что какого-то старичка удар хватил.
– Нет-нет, это я. Я в норме, правда…
Алиса смотрит на гантели, которые я прижал ногой, чтобы они не укатились вниз по холму и не убили ребенка.
– Это еще что такое?
– Гантели…
– Я знаю, что это такое, но что ты с ними делаешь?
– Долго рассказывать.
– Помочь?
– Если сможешь…
Алиса берет в руки гантель, словно маленького щенка, и резво устремляется к вершине холма.
24
В о п р о с: Что, согласно Гегелю, является тенденцией какой-либо концепции превращаться в свое собственное отрицание в результате конфликта между присущими ему противоречащими аспектами?
О т в е т: Диалектика.
Я оставляю Алису в своей спальне слушать пластинку с «Бранденбургским концертом» и оценивать мои книги по десятибалльной шкале, а сам тем временем иду готовить кофе. Честно говоря, моя спальня не в идеальном состоянии. Я окинул комнату взглядом, чтобы убедиться, что нигде не валяются трусы или тетради с моими стихами, но все равно оставлять Алису здесь одну не хочется. Чайник закипает целую вечность, поэтому я отвлекаюсь тем, что бегу в ванную, умываюсь и очень быстро чищу зубы, чтобы избавиться от этой кислятины во рту. Когда я возвращаюсь на кухню, там уже сидит Джош – наливает себе в кружку моего свежего кипятка.
– Ты, конечно же, в курсе, что в твою комнату прокралась лиса?
– Это моя подруга Алиса.
– Приве-е-е-етик, значит, Алиса. Не возражаешь, если я присоединюсь к вам?
– На самом деле мы тут хотели типа немного об учебе поговорить…
– Ну ладно, Брай, намек понял. Просто проведи ее мимо моей комнаты на обратном пути, чтобы я мог на нее посмотреть, ладно? Может, ты захочешь что-нибудь сделать с этим? – И он показывает на уголок моего рта, где остались две полоски зубной пасты. – Bonne chance, топ ami…– говорит он и направляется к двери. – Ах да, тебе кто-то звонил. Спенсер, что ли? Просил ему перезвонить.
Я делаю кофе, беру кружки, ворую у Маркуса два печенья и направляюсь в спальню.
Алиса полулежит на моем футоне, лениво листая «Коммунистический манифест», поэтому я ставлю кофе перед ней, убираю залапанный жирными руками стакан воды и старые, с налетом кружки подальше от кровати и мысленно фотографирую голову Алисы на моей подушке.
– Брайан, почему рама твоей кровати стоит за шкафом?
– Захотел сделать из кровати что-то типа футона.
– Ага. Футон. Отлично. – Она смотрит на открытки и фотки, прикрепленные пластилином к стене у кровати. – Это твой папа?
– Угу.
Она отдирает фотку от стены и внимательно рассматривает ее:
– Он очень красивый.
Я снимаю свою спецовку и вешаю ее на дверцу шкафа:
– Да, был.
Она всматривается в мое лицо, пытаясь понять, почему красота не передалась следующему поколению, затем с нахмуренными бровями одаряет меня своей коронной улыбкой:
– Ты не хочешь переодеться?
Я смотрю на свитер, который вполне оправдывает свое название [69]– под мышками темные маслянисто-влажные пятна пота, и пахнет он мокрой псиной. Однако я застываю в нерешительности и робко бормочу:
– Да нет, мне и так нормально.
– Давай не стесняйся. Обещаю, я не буду гладить себя, пока ты будешь переодеваться.
И в этой пикантной, пронизанной эротизмом атмосфере, которую создала последняя фраза Алисы, я поворачиваюсь к ней спиной и срываю с себя свитер и майку.
– Так для чего тебе гантели, громила?
– Да вот, знаешь ли, решить заняться своим здоровьем…
– Иметь мускулы и хорошее здоровье – это не одно и то же. У моего последнего приятеля было самое восхитительное тело на свете, а он с трудом мог пройти двести ярдов…
– Это тот, у которого был огромный член?
– Брайан! Кто тебе рассказал?!
– Разве не ты говорила?
– Я? Ах да, и правда. Это был он. В любом случае, у него было прекрасное тело.
– Ты так думаешь? – спрашиваю я, прикрываясь джемпером, словно застенчивая невеста.
– Да, он был таким подтянутым и угловатым – очень похож на Эгона Шиле [70].
Я поворачиваюсь к Алисе спиной, натягиваю чистый джемпер через голову и решаю, что пора сменить тему разговора.
– Как провела оставшуюся часть рождественских каникул?
– Ну, в общем-то нормально. Да, спасибо, что приезжал в гости.
– Спасибо, что пригласила. Ты без проблем избавилась от мяса?
– Все прошло классно. Мингус и Колтрейн говорят тебе спасибо.
– Бабушка себя нормально чувствует?
– Что? Ах да… Да, с ней все в порядке. – Алиса приклеивает папину фотографию обратно на стену и, стараясь не смотреть на меня, говорит: – Как-то все немного… чудно получилось, правда?
– Ты хочешь сказать, что я вел себя чудно. Наверное, это из-за того, что перестал быть девственником по отношению к наркотикам.
– Но дело было не только в этом. Ты вел себя… странно, словно хотел что-то доказать.
– Извини, иногда я начинаю волноваться. Особенно рядом с богатеями…
– Пожалуйста, – прерывает она меня.
– Что?
– Пожалуйста, не начинай парить меня по новой, Брайан. «Богатеи» – что за нелепое слово. Что это вообще значит – «богатеи»? Это все у тебя в голове и не значит абсолютно ничего. Господи, как я ненавижу все эти навязчивые мысли о классе, особенно здесь, в этом месте, где нельзя «привет» никому сказать, чтобы тебе не продемонстрировали, как ты далека от пролетариата, и не рассказали про папу – рахитичного одноглазого трубочиста, и про то, что до сих пор всей семье приходится ходить в сортир на улице, и что никто из них ни разу не летал на самолете, и тому подобное подозрительное дерьмо. Большинство из этих историй – все равно враки, и я постоянно думаю: «Зачем ты мне это рассказываешь?» Мне что, полагается считать себя виновной? Думаешь, это моя вина, что ли? Или тебе просто приятно чувствовать, что ты перестаешь играть предназначенную тебе социальную роль или типа того? Я хочу сказать, что это вообще значит – все это дерьмо собачье? Люди есть люди, если ты спросишь меня об этом, и все их взлеты и падения обусловлены их талантами и заслугами, их собственными трудами, и обвинять их в том, что у них канапе вместо дивана или что у них чай, а не обед, – это всего лишь предлог, просто слезливая жалость к себе и вульгарное мышление…
Концерт Баха, сопровождающий ее речь, достигает крещендо, поэтому я говорю:
– А сейчас – прямое включение с ежегодного съезда партии тори!
– Пошел ты в жопу, Брайан! Это нечестно, это совсем нечестно. Я не делаю выводов о людях на основании их происхождения и ожидаю, что люди будут отвечать мне той же любезностью. – Она приподнимается на футоне и потрясает перстом в воздухе. – И как бы то ни было, это даже не мои деньги, это деньги моих родителей, и это не тот случай, когда состояние было сколочено на разворовывании пособий по безработице или эксплуатации угнетенных рабочих в Йоханнесбурге, – ничего подобного, они пахали, блин, и тяжело, блин, пока не заработали то, что у них есть сегодня…
– Но не они же все это заработали, правда?
– Ты о чем? – возмущается Алиса.
– Я просто хочу сказать, что они многое получили в наследство, от своих родителей…
– И?..
– Ну, это же… привилегия, не так ли?
– И что, ты думаешь, что люди должны уносить свои деньги за собой в могилу, как в Древнем Египте? Я-то думала, что передать деньги своим потомкам, использовать их для помощи своим родственникам, чтобы они могли купить себе безопасность и свободу, – это единственный по-настоящему правильный способ распорядиться деньгами…
– Конечно, это так, но я просто говорю, что это привилегия.
– Бесспорно, это привилегия, и они рассматривают ее как таковую, и они платят до хрена налогов, и они прикладывают все усилия, чтобы хоть что-то получить взамен. Но если ты спросишь меня о снобизме, то я скажу тебе, что нет сноба хуже сноба-извращенца, и если это не согласуется с какой-нибудь общепринятой, одобренной студентами системой социалистического мышления, тогда извини, это мои искренние мысли. Потому что я, блин, уже устала от людей, которые пытаются выдать старую как мир зависть за некий вид добродетели. – Дрожащий голос Алисы замолкает, и она, раскрасневшаяся, отпивает кофе из кружки. – Ну конечно, я имела в виду необязательно тебя.
– Конечно же нет. – И я тоже делаю глоток кофе, который кажется особенно горьким из-за зубной пасты, и мы молча слушаем «Бранденбургский концерт».
– Это, случайно, не тема из «Парада раритетных автомобилей»?
– Да, она. Только на обложке альбома написано другое.
Алиса улыбается и плюхается обратно на футон:
– Извини, я просто выпустила пар.
– Да нет, все в порядке. Я с тобой даже согласен. Отчасти, – говорю я, но перед глазами у меня стоят Мингус и Колтрейн, которые едят макароны из тарелки.
– Значит, мы друзья, правда? Брайан, посмотри на меня. Мы друзья, да?
– Да, конечно, мы друзья.
– Даже несмотря на то, что я королева Шеба, а ты замурзанный трубочист?
– Конечно.
– Значит, мы можем забыть обо всем этом? Просто забыть и двигаться дальше?
– Забыть что?
– Да все то, что мы друг другу только что… А, я поняла. Значит, все забыто.
– Забыто.
– Хорошо, – говорит она. – Хорошо.
– А ты… не хочешь сходить сегодня в кино или еще куда-нибудь?
– Не могу – сегодня у меня прослушивание.
– Здорово! А что за пьеса?
– «Гедда Габлер» Генрика Ибсена.
– И какая роль?
– Эпонимическая Гедда.
– Ты будешь прекрасной Геддой.
– Спасибо. Я так надеюсь. И все же я сомневаюсь, пройду ли. Там все захватил третий курс. Мне еще повезет, если меня возьмут… – Она переключается на акцент кокни: – Этой чертовой служанкой Бертой…
– Но ты ведь придешь на тренировку нашей команды сегодня вечером?
– А она сегодня?
– Да, первая в этом семестре!
– О боже, а что, и мне туда надо?
– Патрик очень строг в этом отношении. Он специально попросил меня напомнить тебе, чтобы ты обязательно пришла, иначе ты выбываешь из команды, так и сказал.
Естественно, ничего подобного он не говорил, но все же.
– Хорошо, увидимся на тренировке, а потом выпьем чего-нибудь. – Она подходит ко мне, обнимает меня, так что я чувствую запах ее духов, и говорит: – Ведь мы снова друзья, да?
– Конечно. Снова друзья.
Но я все еще прокручиваю этот разговор с Алисой, когда профессор Моррисон говорит:
– Скажи-ка мне, Брайан, а почему именно ты здесь?
Вопрос застает меня врасплох, и я перестаю смотреть в окно и поворачиваюсь к профессору Моррисону, который сидит, откинувшись в кресле, сложив руки с переплетенными пальцами на своем небольшом брюшке.
– Э… персональное занятие? Начало в два часа?
– Нет, я имею в виду, в университете, на отделении английской литературы. Почему ты здесь?
– Чтобы… учиться?
– Потому что?
– Это… ценно?
– В финансовом плане?
– Нет, знаете ли…
– Совершенствование?
– Да, думаю так. Совершенствование. И мне это нравится, конечно же. Мне нравится образование, учеба, знания…
– Нравится?
– Люблю. Я люблю книги.
– Содержание книг или просто хочешь собрать библиотеку побольше?
– Естественно содержание…
– Значит, ты серьезно относишься к учебе?
– Думаю, да. – (Профессор ничего не отвечает, а только снова откидывается кресле, подняв руки со скрещенными пальцами над головой, и зевает.) – Думаете, нет?
– Не уверен, Брай. Думаю, ты серьезен. Но причина моих расспросов состоит в том, что твое последнее сочинение, «Понятия „гордости“ и „предубеждения“ в пьесе „Отелло“», оно… как бы это выразиться, просто ужасное. Все в нем, начиная с названия, просто ужасно, ужасно, ужасно…
– Ну, на самом деле я писал сочинение в небольшой спешке…
– Да я понял, это сразу видно. Но это настолько ужасный, бессодержательный, бессмысленный опус, что я засомневался, а ты ли вообще его писал?
– Так, хорошо, и что же конкретно вам не понравилось?
Профессор вздыхает, подается вперед и запускает пятерню в волосы, словно собирается объявить, что подает на развод.
– Хорошо, начнем с того, что ты говоришь об Отелло так, словно он твой знакомый парень и ты немного волнуешься за него.
– А разве это плохо? Обращаться с ним, как с реальным человеком. Разве это не лишнее подтверждение живого воображения Шекспира?
– Или недостатка твоей проницательности? Отелло – вымышленный герой, Брайан, он придуманный персонаж, игра ума. Он невероятно богатый и сложный персонаж выдающегося литературного произведения, а все, что ты можешь сказать про него, – это то, что тебе жаль, что в его жизни случаются проблемы из-за того, что он черный. И из этого опуса я узнаю твое мнение: «Нетерпимость – это плохо». Почему ты говоришь мне об этом? Считаешь, я могу подумать, будто нетерпимость – это хорошо? Как будет называться твое следующее сочинение: «Что, Гамлет, нос повесил?», а может, «Почему бы Монтекки и Капулетти просто не помириться?»…
– Ну уж нет, потому что расизм – это вопрос, который меня особенно волнует.
– Я в этом не сомневаюсь, но что мне с этим сделать? Позвонить маме Яго и попросить ее заставить сына отступить? На самом деле ирония в том, что если говорить о расизме, то твое изображение Отелло как безупречного, поддающегося внушению Благородного Дикаря можно само по себе рассматривать как расистское оскорбление…
– Значит, вы считаете, что мое сочинение расистское?
– Нет, но я тем не менее считаю его невежественным, а эти два понятия определенным образом связаны между собой.
Я хочу что-то сказать, но не знаю, что именно мне поможет, поэтому просто сижу и молчу. Мои щеки горят, и мне стыдно, словно в шесть лет я только что надул в штаны. Я хочу поскорее покончить со всем этим, поэтому приподнимаюсь, беру свое сочинение со стола и говорю:
– Ладно, наверное, мне нужна еще одна попытка…
Но профессор, похоже, не закончил – он тянет страницы к себе:
– По-моему, это вовсе не работа человека, который «любит знания», это работа человека, которому нравится делать вид, что он любит знания. Здесь нет ни на йоту вдохновения, или оригинальной мысли, или умственного напряжения – эта работа поверхностная, ханжеская, интеллектуально незрелая, она не основана на фактах, а напичкана усвоенными общепризнанными идеями, сплетнями и клише. – Он подается вперед и берет мое сочинение кончиками пальцев, как дохлую чайку. – Но что самое худшее – твое сочинение разочаровало меня. Меня разочаровало, что ты написал его, а еще больше меня разочаровало то, что ты вообразил себе, будто это достойно траты моего времени. – Он делает паузу, но сказать мне нечего, поэтому я просто смотрю в окно, ожидая, когда это все закончится. Но молчание невыносимо, поэтому я наконец поворачиваю голову; профессор смотрит на меня с видом, который я назвал бы отцовским. – Брайан, сегодня утром у меня было индивидуальное занятие по Уильяму Батлеру Йитсу с одной студенткой – такая милая девочка, наверняка далеко пойдет, получала образование в одной из лучших частных школ для девочек… Так вот, в определенный момент нашего занятия мне пришлось сходить и принести из машины атлас автомобильных дорог, чтобы показать ей, где находится Северная Ирландия… – Я собираюсь что-то сказать, но он останавливает меня, поднимая руку: – Брайан. Когда я проводил с тобой собеседование в этой аудитории год тому назад, ты показался мне невероятно пылким и полным энтузиазма молодым человеком. Слегка несосредоточенным, немного нескладным – я могу так сказать? это будет честным эпитетом? – но, по крайней мере, ты не относился к своему образования как к чему-то само собой падающему в руки. Многие студенты, особенно в университетах вроде этого, склонны воспринимать свое образование как нечто вроде оплаченной государством трехлетней вечеринки с вином и сыром, после которой их ждет машина, классная работа и квартира, но я и предположить не мог, что ты один из таких…
– Нет, я не такой…
– Тогда в чем проблема? Что-то тебя отвлекает? Может, ты несчастлив или у тебя депрессия?..
Боже, я сам не знаю. Может, у меня действительно такое состояние? Возможно, да. Может, рассказать ему про Алису? Может ли служить один лишь факт того, что ты влюблен, оправданием неадекватного поведения? Для Отелло – очевидно, да, а вот для меня?
– Хорошо. Еще что-нибудь хочешь со мной обсудить?
Я влюблен в прекрасную женщину, и я люблю ее больше, чем вы это можете себе представить, настолько сильно, что не могу думать ни о чем другом, но она абсолютно недоступна, и мне это кажется в лучшем случае веселым, а в худшем случае – отвратительным, и от всего этого, я чувствую, у меня едет крыша…
– Думаю, ничего.
– Ну, тогда я не знаю, в чем заключается проблема, потому что, судя по твоим оценкам в этом году – семьдесят четыре, шестьдесят четыре, пятьдесят восемь процентов, а за эту работу пятьдесят три процента, – мне кажется, что ты становишься менее умным. А это очень странно, потому что образование призвано давать прямо противоположный результат.
25
В о п р о с: Где можно встретить Варолиев мост, дугообразный пучок, область Вернике и борозду Роланда?
О т в е т: В мозге.
И это правда – я становлюсь более тупым. Или правильнее сказать «тупее»? И дело не только в тренировках команды «Университетского вызова», дело еще и в лекциях. Я захожу и сажусь с горящими глазами, такой весь внимание, но даже если тема вызывает мой неподдельный интерес, вроде метафорической поэзии, или развития формы сонетов, или становления среднего класса в английских романах, я обнаруживаю, что примерно через десять минут я теряюсь и путаюсь – с таким же успехом я мог бы слушать комментарий к футбольному матчу по радио. Я захожу в университетскую библиотеку, которая почти слышимо стонет от огромного веса и глубины человеческих знаний, и всегда случаются две вещи: а) я начинаю думать о сексе и б) мне приспичивает выйти в туалет. Я иду на лекцию и засыпаю, или не могу дочитать книгу, потому что я постоянно сплю, или не понимаю книгу с первой страницы, или не могу найти нужные ссылки, или начинаю пялиться на девчонок в аудитории, и даже когда мне случается понять лекцию, я не знаю, что сказать о ней, и даже не знаю, согласен я с услышанным или нет. Мне представилась чудесная возможность: полностью за счет государства изучить прекрасные, вечные и повергающие в благоговейный трепет произведения, но моя реакция на них редко бывает глубже, чем «прикол» или «отстой». А тем временем какое-то невероятно одаренное, с огненными волосами юное создание с первого ряда подымает руку и выдает что-нибудь типа: «Не кажется ли вам, что если говорить формально, то язык Эзры Паунда слишком герметичен, чтобы можно было применять к его прочтению структурные термины?», и хотя я понимаю все слова по отдельности – и «прочтение», и «формально», и даже «герметичный», – я понятия не имею, что они означают, будучи расположенными именно в таком порядке.
То же самое происходит, когда я пытаюсь прочитать материал. Все это перемешивается в моей голове в невообразимую кашу, так что важнейшее, глубочайшее стихотворение Шелли «Монблан» превращается в нечто вроде: «Извечная вселенная вещей, / В моем уме кружится, и па-па, та-та… / Вот потемнело – а вот тра-та, вот турум-пурум тра-та-та....», потом разваливается на куски и падает в небытие. Конечно, если бы Шелли выпустил свой «Монблан» в виде семидюймового сингла, тогда я смог бы выучить его слово в слово и рассказать вам, до какой строчки в хит-параде он поднялся, но поскольку это литература и для этого требуется напряжение ума, то здесь я бессилен. Грустно и то, что я люблю и Диккенса, и Донна, и Китса, и Элиота, и Форстера, и Конрада, и Фицджеральда, и Кафку, и Уайльда, и Оруэлла, и Во, и Марвелла, и Грина, и Стерна, и Шекспира, и Свифта, и Йитса, и Гарди – очень, очень люблю их. Просто наша любовь не взаимна.
Когда это все началось? Почему ничего не получается так, как должно? Ведь мозг, в конце концов, – это мышца, и мне казалось, что если ее хорошо тренировать, заставлять ее как следует нагружаться, то она превратится в такой яростный, гудящий, заряженный электричеством маленький кулак из белка. Такое ощущение, что вместо этого у меня голова заполнена теплой влажной субстанцией, серой, жирной и бесполезной, вроде того, что помещено в пластиковом пакетике внутри курицы из супермаркета. На самом деле мне только что пришло в голову, что я даже не знаю, является ли формально мозг мускулом. Или это орган? Или ткань? Или железа? Да, мой мозг как раз похож на железу.
И все это продолжается так же железисто и вечером, на тренировке команды «Вызова» на квартире у Патрика. Это первая наша встреча после Нового года; до нашего первого выступления на телевидении остался всего месяц, поэтому Патрик очень взволнован, особенно после того, как он решил внести в наши тренировки новый, будоражащий сознание элемент.
Патрик потратил рождественские каникулы на то, чтобы соорудить кнопки – четыре запитанные от батареек штуковины, сделанные из новогодних гирлянд и кнопок дверных звонков, прикрученных к квадратным кускам фанеры размером с конверт от долгоиграющей пластинки, которые Патрик покрасил красной эмалью. Он так гордится этим своим нововведением, что, едва я успел сказать «привет» и «с Новым годом» Люси Чан и спросить Алису, как прошло прослушивание, Патрик уже усадил нас на диван и положил кнопки нам на колени. Сам Патрик усаживается во вращающееся офисное кресло с толстой пачкой картонных карточек с вопросами, настраивает лампу на шарнирной подставке у себя над плечом и начинает…
– Итак, первый вопрос ценой в десять баллов: какой британский премьер-министр восемнадцатого века получил кличку Великий Простолюдин?
Я жму на кнопку.
– Гладстон, – отвечаю я.
– Нет, – качает головой Патрик. – Еще есть предположения?