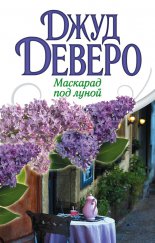Пастернак в жизни Сергеева-Клятис Анна
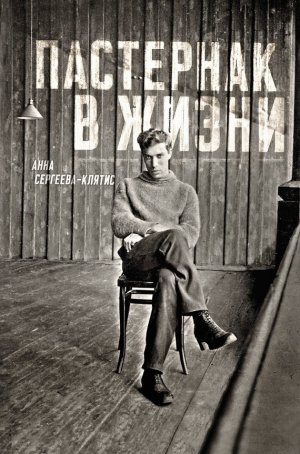
– Да, по-видимому, – сказала я без уверенности. – Это называется «беспощадность к врагу» в сочетании с «заботой о живом человеке».
– А мои близкие говорят, это была проверка: в самом ли деле я болен.
– И что же оказалось?
– Давление повышено… <…>
…Когда мне на секунду представилось, будто мерзкая тема покинула нас, сказала, что из его последних стихов знаю «Птичку» и «Грозу» – от Деда.
Он отмахнулся раздраженно.
– Стихи – чепуха, – сказал он с сердцем. – Зачем люди возятся с моими стихами, не понимаю. Мне всегда неловко, когда этакой ерунде оказывает внимание ваш отец. Единственное стоящее, что я сделал в жизни – это роман. И это неправда, будто роман люди ценят только из-за политики. Ложь. Книгу читают и любят.
Сегодня он говорил отчетливо и легко записываемо. Но в этой отчетливости была какая-то сухость и какое-то смятение – нечто более беспокойное, чем в обычных его бурных речах.
Я поднялась. Ничего путного я все равно не умела сказать ему. Он меня не удерживал. Надел пальто и вышел вместе со мною – он собирался дозваниваться из конторы Городка в Москву. Я его уговорила идти лучше к нам: подумала, закрою поплотнее двери из столовой в переднюю, и Дед наверху не услышит голоса. Зачем Борису Леонидовичу идти сейчас в контору на всеобщее обозрение? Он согласился. Мы шли быстро. «А машина у наших ворот?» – мельком подумала я, но ему не сказала. Впрочем, теперь не все ли равно?
Безлюдье, пустота, безмолвие дороги и поля охватило нас и заставило умолкнуть. Я заметила, что Борис Леонидович одним глазом покосился на кусты и канаву.
– Как странно, – сказал он, с совершенною точностью выговаривая мою собственную мысль, – никого нет, а кажется, что кто-то смотрит. <…>
Мы подходили к нашей даче. Четверо сидели в машине вразвалку, уже не прикрываясь газетами, и во все глаза глядели на нас. Один даже высунулся. Они-то и есть – око? Нет, Блок прав, если бы это были только они, не было бы так странно и страшно. Око старого упыря… Борис Леонидович не обратил на них никакого внимания, не раздеваясь сел сразу в столовой звонить. Я плотно прикрыла дверь в переднюю, чтобы голоса не услыхал наверху Дед, и вышла на крыльцо, чтобы самой не слышать разговора. Борис Леонидович переговорил очень быстро. Я проводила его до ворот, а потом – так не хотелось расставаться с ним! – до перекрестка. Парни, развалясь, тосковали в машине. <…>
Мы простились. Он пошел было прочь (странно – мне впервые бросилось в глаза, как он хромает), но вернулся, обнял меня и поцеловал.
(Запись от 28 октября 1958 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 316–320)
Я предупредила Борю, когда он мне позвонил, что приеду в Переделкино на следующий день. И вот назавтра вдвоем с Митей мы захватили сумки с рукописями и письмами и увезли их к Кузьмичу[354]. Почти тотчас после нашего приезда вошел Б.Л. и с порога прерывающимся голосом:
– Лелюша, я должен тебе сказать очень важную вещь, и пусть меня простит Митя. Мне эта история надоела. Я считаю, что надо уходить из этой жизни, хватит уже. Тебе сейчас отступаться нельзя. Если ты понимаешь, что нам надо вместе быть, то я оставлю письмо. Давай сегодня посидим вечер, побудем вдвоем, и вот так нас вдвоем пусть и найдут. Ты когда-то говорила, что если принять одиннадцать таблеток нембутала, то это смертельно; вот у меня двадцать две таблетки. Давай это сделаем. Ведь Ланны[355] же сделали так! А «им» это очень дорого обойдется… Это будет пощечина…
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. С. 276)
В силу того значения, которое получила присужденная мне незаслуженная награда в обществе, к которому я принадлежу, не сочтите мой добровольный отказ за оскорбление.
(Б.Л. Пастернак – Нобелевскому комитету // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 10. С. 399)
<…> Но как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим так называемым «произведением». Он настолько обрадовал наших врагов, что они пожаловали ему, не считаясь с художественными достоинствами его книжонки, Нобелевскую премию. <…> И этот человек жил в нашей среде и был лучше обеспечен, чем средний труженик, который работал, трудился и воевал. А теперь этот человек плюнул в лицо народу, Как это можно назвать? Иногда мы, кстати, совершенно незаслуженно, говорим о свинье, что она такая, сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, – все люди, которые имеют дело с этими животными, знают особенности свиньи, – она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. (Аплодисменты.) А Пастернак – этот человек себя причисляет к лучшим представителям общества – он это сделал. Он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит. (Аплодисменты.) Я хотел бы высказать по этому поводу свое мнение. А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился о котором он в своем произведении высказался. (Аплодисменты.) Я уверен, что наша общественность приветствовала бы это. (Аплодисменты.) Пусть он стал бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность и правительство никаких бы препятствий ему бы не чинило, а наоборот, считали бы, что этот его уход из нашей среды освежил бы воздух. (Аплодисменты.)
(Доклад первого секретаря ЦК ВЛКСМ В.Е. Семичастного на Пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 1958 г. // Комсомольская правда. 1958. 30 октября. С. 1)
Или случай с Борисом Пастернаком.
Некоторые спрашивают меня сегодня: испытываю ли я угрызения совести в связи со сказанным мною в адрес Пастернака на комсомольском форуме, не подставили ли меня?
Что ответить на вопрос, заданный спустя полстолетия после события и в совсем другой стране?..
Расскажу, как это было.
Предстояло празднование 40-летия комсомола. Готовились к проведению торжественного пленума ЦК ВЛКСМ, на котором должны были присутствовать Хрущев и другие члены Политбюро.
Неожиданно за день до заседания зазвонил телефон, я услышал голос Никиты Сергеевича:
– Приезжайте в Кремль и Аджубея захватите.
По дороге я спросил Алексея, не знает ли он, в чем дело.
Тот ничего не знал.
В кабинете у Хрущева уже сидел Суслов.
Никита Сергеевич, обращаясь ко мне, спрашивает:
– Завтра ты с докладом на пленуме комсомола выступаешь?
– Да, я.
– А не мог бы ты в докладе «выдать» Пастернаку как надо?
– Что вы имеете в виду? – ответил я вопросом на вопрос, так как был застигнут врасплох.
– Да вот с присуждением ему Нобелевской премии.
– Это в доклад не очень вписывается, так как он посвящен 40-й годовщине комсомола.
– Найдите для этого место в своем докладе. Вот мы надиктуем сейчас с Михаилом Александровичем странички две-три, потом вы с Алешей посмотрите, с Сусловым согласуете, и действуй.
Хрущев вызвал стенографистку и начал диктовать. Тут были любимые им словечки: и «паршивая овца», и «свинья, которая не гадит там, где ест или спит», и пр. Типично хрущевский, нарочито грубый, бесцеремонный окрик, выпирающий из текста доклада, нарушающий общий его тон.
Когда он продиктовал слова о том, что, мол, «те, кто воздухом Запада хотят подышать, пусть убираются, правительство возражать не будет», я взмолился:
– Никита Сергеевич, я же не правительство!
– Не беспокойся! Мы будем сидеть в президиуме и в этом месте тебе поаплодируем. Люди поймут.
В целом Хрущев наговорил примерно три страницы. В конце концов мы их превратили в одну. Не просто было включить такой текст в доклад, где с пафосом отмечались подвиги комсомола. В результате пришлось кое-что изменить в уже готовом тексте, чтобы была хоть какая-то связь между отдельными его частями.
Когда на следующий день я с задором произносил свою речь с трибуны во Дворце спорта, место в докладе о Пастернаке было встречено бурными аплодисментами.
Надо сказать, что книгу Бориса Пастернака «Доктор Живаго» я, как и все присутствовавшие в зале, тогда еще не читал. Была она издана в Италии, и в нашей стране ее прочесть было нельзя. Поэтому судить о содержании книги я не мог и осуждал Пастернака за факт незаконного, тайного издания книги за границей.
(Семичастный В.Е. Беспокойное сердце. М., 2002. С. 72–73)
Слезы соленые лить над вами? Пулю загнать в затылок предателю? Я женщина, много видевшая горя, не злая и не жестокая, но такое предательство… Рука не дрогнула бы… Вам пишет не писательница… Вам пишет женщина, у которой муж был расстрелян в 37 году и отец сослан тогда же… и у которой одна цель в жизни – служить всей душой, всеми силами делу коммунизма и своему народу. Это не слова. Это в сердце…
(Г.Е. Николаева – Б.Л. Пастернаку, октябрь (?) 1958 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 10. С. 402)
Благодарю Вас за искренность. Меня переделали годы сталинских ужасов, о которых я догадывался до их разоблачения. Все же я на Вашем месте несколько сбавил бы тону. Помните Верещагина и сцену справедливого народного гнева в «Войне и мире». Сколько бы Вы ни приписывали самостоятельности Вашим словам и голосу, они сливаются и тонут в этом справедливом негодовании. Хочу успокоить Вашу протестующую правоту и честность. Вы моложе меня и доживете до времени, когда на все происшедшее посмотрят по-другому. От премии я отказался раньше содержащихся в Вашем письме советов и пророчеств. Я Вам пишу, чтобы не казалось, что я уклонился от ответа.
(Б.Л. Пастернак – Г.Е. Николаевой, 1 ноября 1958 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 10. С. 401–402)
Могу с уверенностью сказать одно: в этот, может быть, самый тяжкий период своей жизни («Если только можешь, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси») Борис Леонидович отнюдь не был ни мрачен, ни злобен. Нервен, встревожен – да. Но никого из тех, кто перестал приходить к нему и, как от чумы, бежал, издали завидев, он не осуждал. Борис Леонидович очень боялся высылки за пределы СССР. Это, по его словам, было для него страшнее смерти. Жизнь писателя, именно писателя-эмигранта представлялась ему немыслимой. Немыслимо писать, не слыша вокруг родного языка.
(Иванова Т.В. Борис Леонидович Пастернак // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 294)
Александр Галич
Из стихотворения «Памяти Пастернака»
- «Мело, мело, по всей земле,
- Во все пределы.
- Свеча горела на столе,
- Свеча горела…»
- Нет, никакая не свеча,
- Горела люстра!
- Очки на морде палача
- Сверкали шустро!
- А зал зевал, а зал скучал
- – Мели, Емеля!
- Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
- Не к «высшей мере»!
- И не к терновому венцу
- Колесованьем,
- А как поленом по лицу,
- Голосованьем!
- И кто-то спьяну вопрошал:
- «За что? Кого там?»
- И кто-то жрал, и кто-то ржал
- Над анекдотом…
- Мы не забудем этот смех
- И эту скуку!
- Мы поименно вспомним всех,
- Кто поднял руку!
Мне много раз случалось высказывать Деду, что Пастернак – единственный нетрагический русский поэт. Да, да. «Посвящается Лермонтову», любил и хотел бы повторить Блока, но голос звучал всегда в мажоре.
Поэзии Пастернака присуща буйная радость по какому-либо поводу или даже без всякого повода. Даже «Разрыв» звучит у него не трагически, хотя и бурно. Не плакать хочется, а восхищаться: «Какое буйство молодое». Изобилие, избыточность, не оскудение, не омертвение. «Уже написан Вертер», но сам он, Пастернак, Вертером стать решительно неспособен. Никакой смерти даже в словах о смерти, а «всюду жизнь».
- Порядок творенья обманчив,
- Как сказка с хорошим концом.
Жизнь ему сестра. Каждый год он умудрялся заново удивляться четырем временам года. Четыре времени года – четыре образа счастья: весна, лето, осень, зима.
Но сестра его жизнь оказалась сказкою с дурным концом, и его, могучего, полного счастья, под конец пересилила. «Август», «Гамлет», «Я кончился, а ты жива», «Душа моя, печальница», весь евангельский цикл – тут уже вполне трагический звук.
Ну вот, а сегодня я выслушала монолог Анны Андреевны на ту же тему, но, кажется мне, несправедливый. Когда я побывала у нее впервые после похорон, она еще была полна скорбью. Для других чувств не было места. Теперь первое потрясение прошло, и она опять говорит о Борисе Леонидовиче хоть и с любовью, но и с раздражением, как все последние годы. Снова – не только соболезнует, но идет наперекор общему мнению, оспаривает, гневается.
– На днях я из-за Пастернака поссорилась с одним своим другом. Вообразите, он вздумал утверждать, будто Борис Леонидович был мученик, преследуемый, гонимый и прочее. Какой вздор! Борис Леонидович был человек необыкновенно счастливый. Во-первых, по натуре, от рождения счастливый; он так страстно любил природу, столько счастья в ней находил! Во-вторых, как же это его преследовали? Когда? Какие гонения? Все и всегда печатали, а если не здесь – то за границей. Если же что-нибудь не печаталось ни там, ни тут – он давал стихи двум-трем поклонникам и все мгновенно расходилось по рукам. Где же гонения? Деньги были всегда. Сыновья, слава Богу, благополучны. (Она перекрестилась.) Если сравнить с другими судьбами: Мандельштам, Квитко, Перец Маркиш, Цветаева – да кого ни возьми, судьба у Пастернака счастливейшая.
(Запись от 19 или 20 июня 1960 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 403–404)
Пастернак почти не болел и всегда, за исключением последних лет, казался очень здоровым человеком. Вне работы он всегда находился в движении. Долго и помногу гулял, был заядлым грибником <…>. Дачный участок его всегда был в порядке. Любил он сажать картофель и сам его обрабатывал. Трудился в саду и огороде обнаженным до пояса, только голову прикрывал кепкой или панамой.
(Голубева В.А. «Борис Пастернак – человек от Бога»: Из интервью М. Фурмана // Пастернаковский сборник. Вып. 2. С. 353)
Какое счастье работать на себя и семью от зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая Творцу в сотворении вселенной, вслед за родною матерью производя себя вновь и вновь на свет! Сколько мыслей проходит через сознание, сколько нового передумаешь, пока руки заняты мускульной, телесной, черной или плотничьей работой; пока ставишь себе разумные, физически разрешимые задачи, вознаграждающие за исполнение радостью и удачей; пока шесть часов кряду тешешь что-нибудь топором или копаешь землю под открытым небом, обжигающим тебя своим благодатным дыханием. И то, что эти мысли, догадки и сближения не заносятся на бумагу, а забываются во всей их попутной мимолетности, не потеря, а приобретение. Городской затворник, крепким черным кофе или табаком подхлестывающий упавшие нервы и воображение, ты не знаешь самого могучего наркотика, заключающегося в непритворной нужде и крепком здоровье.
(Пастернак Б.Л. Доктор Живаго)
Вот он стоит перед дачей, на картофельном поле, в сапогах, в брюках, подпоясанных широким кожаным поясом офицерского типа, в рубашке с засученными рукавами, опершись ногой на лопату, которой вскапывает суглинистую землю. Этот вид совсем не вяжется с представлением об изысканном современном поэте, так же как, например, не вязались бы гладко выбритый подбородок, элегантный пиджачный костюм, шелковый галстук с представлением о Льве Толстом.
Мулат в грязных сапогах, с лопатой в загорелых руках кажется ряженым. Он играет какую-то роль. Может быть, роль великого изгнанника, добывающего хлеб насущный трудами рук своих. Между тем он хорошо зарабатывает на своих блестящих переводах Шекспира и грузинских поэтов, которые его обожают. О нем пишут в Лондоне монографии. У него автомобиль, отличная квартира в Москве, дача в Переделкине.
(Катаев В.П. Алмазный мой венец // Катаев В.П. Трава забвенья. С. 204–205)
Однажды, когда я проходил мимо его дачи, он как раз вышел из калитки, мы поздоровались, и он сказал с оттенком волнения:
– Я не могу с вами гулять, доктора велели мне ходить быстро.
Ничего не оставалось, как согласиться с этим полезным советом, проститься и расстаться. Я прошел дальше, вдоль так называемой «Неясной поляны»[356] и, возвращаясь, снова встретил Бориса Леонидовича. По-видимому, он уже забыл, что доктора велели ему ходить быстро, и, остановившись, разговорился со мной. Помнится, я сообщил ему, что после многолетнего необъяснимого молчания о Ю.Н. Тынянове снова стали писать, и на днях вышли в свет три тома его сочинений. Он сказал с воодушевлением:
– Это – событие!
Потом мы почему-то заговорили о музыке, долго гуляли, ни медленно, ни быстро, а когда расставались, упала звезда, и он быстро спросил меня:
– Загадали желание?
– Нет, не успел.
– А я успел, – с торжеством сказал Борис Леонидович. – А я успел! Она же долго падала, как же вы не успели?
О нем рассказывали, что однажды, когда он сажал картошку в саду – почти весь его сад был отведен под картофельное поле, – мимо проходил какой-то человек, и Борис Леонидович громко спросил его:
– Вы ко мне?
– Нет.
– Это хорошо, что вы не ко мне. Это очень, очень хорошо.
А когда незнакомец был уже довольно далеко, Пастернак выглянул из калитки и крикнул ему вслед:
– Как ваша фамилия?
В нем было то, что можно назвать «странностью непосредственности».
(Каверин В.А. Эпилог. С. 369–370)
Мы кончили сеанс[357], и он попросил:
– Зоя Афанасьевна, пообедайте со мной сегодня.
– Спасибо, – протянула я, соображая, успею ли в Москву.
– Спасибо да или спасибо нет? – улыбнулся он.
– Спасибо да.
Он весело закричал на кухню, отдавая распоряжение Татьяне Матвеевне. Он пригласил ее сесть вместе с нами, но она постеснялась.
– Вы коньяк пьете?
– Насколько я понимаю, нет.
Пока я ходила мыть руки, он вынул бутылку из холодильника и налил мне маленькую рюмку.
Мы сели за покрытый клеенкой стол друг против друга. Он велел мне намазать хлеб кабачковой икрой, налил из кастрюли овощного супу, бухнул туда две столовых ложки сметаны, собственными перстами насыпал зелени в тарелку и, передавая ее, доверительным шепотом сообщил:
– Это все надо съесть.
Второе он положил мне и себе в глубокие тарелки, освободившиеся от супа. Все было очень просто, посуда дешевая и некрасивая, но обед получился продуманный и вкусный. Борис Леонидович был по-домашнему заботлив и приветлив, разговорчив, говорил всякие приятные вещи, следил, чтобы я ела.
(Запись от 26 августа 1958 г. // Масленикова З.А. Борис Пастернак: Встречи. С. 62)
Валерия Дмитриевна Пришвина любезно одолжила мне три тысячи (3000) руб. Прошу моих близких, в том случае, если по каким-либо причинам я не смогу этого сделать сам, вернуть ей занятые мною деньги до конца 1959 года.
Б. Пастернак
(Расписка Б.Л. Пастернака В.Д. Пришвиной в получении денег от 27 декабря 1958 г.)
Я понимаю, я взрослый, что я ничего не могу требовать, что у меня нет прав, что против движения бровей верховной власти я козявка, которую раздавить, и никто не пикнет, но ведь это случится не так просто, перед этим где-нибудь об [этом] пожалеют. Я опять-таки понимаю, что если я на свободе, и меня не выгнали с дачи, это безмерно много, но зачем в придачу к этим сведениям, соответствующим истине, два ведомства, министерство культуры и министерство иностранных дел дают заверения, что я получаю и впредь буду получать заказы и платные работы, что со мной будут заключать договора и по ним расплачиваться, между тем, как по этой части установилась царственная неясность, дожидающаяся выяснения от тех же верховных бровей, чего никогда не будет.
Вы мне напомните, что дело примирения с Союзом Вы выделили и, как условие существования, возложили на меня. О, зачем же я должен это помнить, зачем должен я быть воплощением благородства и верности честному слову среди сплошной двойственности и притворства? Я тоже забыл это. И мне казалось и продолжает казаться, что для восстановления меня в Союзе, достаточно последних слов во втором моем письме. Я вообще, по глупости, ожидал знаков широты и великодушия в ответ на эти письма[358]. Действительно страшный и жестокий Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону. Государь и великие князья выражали письмами благодарность моему отцу по разным негосударственным поводам. Но, разумеется, куда же им всем против нынешней возвышенности и блеска.
(Б.Л. Пастернак – Д.А. Поликарпову[359], 16 января 1959 г.)
Он рассказывал о себе, говорил, что его гнетет неопределенность положения.
– Лучше бы самое страшное, но поскорей. А то после моих писем ничего не известно. Известно только, что меня исключили из Союза.
– А как ваши материальные дела?
– Мне ничего не платят.
<…>
Ничего не изменилось, ничего не стало яснее. Деньги мне по-прежнему не платят. Я переводил Словацкого, вы знаете.
– Заплатили за перевод?
– Нет.
– Но ведь у вас договор.
– Они не отказывают, но и не платят. У Зинаиды Николаевны есть сбережения, мы их уже тронули.
(Записи от 1 января и 11 февраля 1959 г. // Масленикова З.А. Борис Пастернак: Встречи. С. 148, 152)
Мы приехали к папе 1 января <…>. В его словах сквозило мучительное чувство неуверенности и неустойчивости его положения, выбитость из работы. Рассыпан набор «Марии Стюарт» Шиллера в издательстве «Искусство», из юбилейного многотомного собрания Шекспира выкинули все его переводы и «Генриха IV» заказали переводить кому-то заново. Упоминание его имени в чужих статьях ведет к их запрету, в театрах сняты спектакли с его переводами.
(Пастернак Е.Б [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 541)
В дни потрясений, когда я обращался к Вам за защитой, я понимал, что должен чем-то поплатиться, что в возмездие за совершившееся я должен понести какой-то ощутимый, заслуженный ущерб. Я мысленно расстался со своей самостоятельной деятельностью, я примирился с сознанием, что ничего из написанного мною самим никогда больше не будет переиздано и останется неизвестным молодежи. Это для писателя большая жертва. Я пошел на нее.
Но благодаря знанию языков я не только писатель, но еще и переводчик. Я не думал, что эта полуремесленная деятельность, ничего общего не имеющая с кругом личных воззрений и служащая мне средством заработка, будет мне закрыта. Надо попросту желать мне зла, чтобы лишать меня и этой безобидной, безвредной работы.
Не хочу утомлять Вас ни перечнем сделанного мною в этой области (я перевел семь трагедий Шекспира, «Фауста» Гёте и много, много другого), ни перечислением тех крайностей, до которых доходят в редакциях и издательствах, нарушая договоры, рассыпая готовые наборы и заменяя мои труды другими работами, чтобы изгладить всякий след моего существования даже в далеком прошлом. Достаточно одного Вашего недвусмысленного распоряжения, если Вы пожелаете его сделать, чтобы Ваши исполнители сами восстановили все подробности, не отягощая ими Вашего внимания, и чтобы все изменилось. По последствиям я догадаюсь о Вашем решении, они мне будут ответом.
Если же они не последуют, даю Вам честное слово, я без чувства личной горечи и обиды приму судьбу и расстанусь с лишними надеждами, как с ненужным заблуждением.
(Б.Л. Пастернак – Н.С. Хрущеву, 26 января 1959 г.)
Кроме членов семьи и Нины Александровны, да еще поселенного у них Литфондом женщины-доктора, у Пастернаков в эти дни бывали только Нейгаузы и Асмусы. Однажды, как сообщил мне Борис Леонидович, зашла Лидия Корнеевна Чуковская. Всех остальных, ранее бывавших там, как ветром сдуло. Борис Леонидович никого не осуждал, но однажды сказал иронически: «Андрей, наверное, переселился на другую планету»[360].
(Иванова Т.В. Борис Леонидович Пастернак // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 292)
Заговорили о переводах Бориса Леонидовича.
– Замечательные у него «Хроники», – сказала Анна Андреевна. – Я сличала. И «Макбет». Я подлинник почти целиком наизусть знаю. Перевод очень точный.
– А «Фауст»?
– Пестро. Начало, где ангелы поют, лучше, чем у Гёте. Но вот Маргарита иногда у него грубее, чем надо. У Гёте она девочка. Примеряя убор, говорит: «Ах, какие богатые счастливые. А мы бедные». У Пастернака это место сделано не так наивно, гораздо взрослее. Но дальше уже идет точно, ему снова удается Маргарита-дитя.
(Запись от 31 декабря 1952 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 57)
На днях она [Ахматова. – Прим. авт. сост.] послала Борису Леонидовичу свою книжку с надписью: «Борису Пастернаку – Анна Ахматова». (Попутное восклицание: «Книга, конечно, уже у Ольги».) Он звонил с благодарностью, особо восхищаясь стихами «Сухо пахнут иммортели».
Она, негодующе:
– Он читает их впервые, я уверена. Это стихи десятого года[361].
(Запись от 9 мая 1959 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 355)
Где-то в подпочве теперешних резкостей Анны Андреевны по адресу Пастернака мне иногда чудилась какая-то ее давняя обида, может быть, даже больше – незаживающая старая рана. Думаю, что она ему не прощала, вернее, не могла простить равнодушия к своим стихам. Я ни разу от нее не слыхал ни слова об этом. Но твердо уверен в том, что больше всего ее волновало отношение Пастернака к ее стихам, особенно к новым. Ведь она знала его автобиографию («Вступительный очерк» к Собранию стихов), где так много говорится о значении а его жизни поэзии Цветаевой, а Ахматовой уделено несколько строк, почти вскользь, да еще как-то странно смещены названия ее книг (речь идет, по-видимому, о «Вечере» или о «Четках», а назван «Подорожник»)[362]. Она не могла, конечно, не помнить прекрасного стихотворения «Анне Ахматовой» 1928 года, но почему-то никогда о нем теперь не говорила. Не потому ли, что пастернаковский набросок ее облика (бессонная швея в призрачном свете белой ночи) был скорее изящным, чем вещим, а определение ее лирики («…где крепли прозы пристальной крупицы») исходило из самых ранних ее признаков и как будто ими ограничивалось? <…> Позднее, в откликах Пастернака на «Поэму без героя», Анна Андреевна помнила и ценила каждое слово. Но помнила она и другое: прежде всего его стихи, многие – наизусть. Они в ней жили какой-то особой своей жизнью, как будто таились до времени и вдруг выплывали на поверхность цитат, эпиграфов, писем.
(Виленкин В.Я. В сто первом зеркале. С. 31–33)
– Я вам рассказывал, что поссорился с Ливановым?
Я кивнула.
– Зинаида Николаевна позвонила ему и сказала, что он может приехать. Но он поссорился с женой и приехал без нее и уже пьяный. Мало этого, он привез целую ораву, наверно, похвастался соседнему столику в «Национале», что может им меня показать. Прямо как у Достоевского, вы помните, у него все знакомства начинаются с того, что кто-то приезжает не один, а буйной компанией. И начались такие преувеличенные восхваления и славословия, что мне не по себе стало. Я не нуждаюсь в преувеличениях, у меня есть своя реальная судьба. Все это лето я чувствовал себя хорошо, здоровым, нормально спал. А тут у меня такой неприятный осадок остался, что я принял снотворное, и оно не помогло, потом принял еще раз. Я решил написать ему письмо с тем, чтобы прекратить отношения. Ну, и я не так сегодня встал и неважно себя чувствую.
(Масленикова З.А. Борис Пастернак: Встречи. С. 209)
Дорогой Борис,
тогда, когда поговорили мы с тобой по поводу Погодина и Анны Никандровны, у нас не было разрыва[363], а теперь он есть и будет.
Около года я не мог нахвалиться на здоровье и забыл, что такое бессонница, а вчера после того, что ты побывал у нас, я места себе не находил от отвращения к жизни и самому себе, и двойная порция снотворной отравы не дала мне сна.
И дело не в вине и твоих отступлениях от правил приличия, а в том, что я давно оторвался и ушел от серого, постыдного, занудливого прошлого, и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощенное напоминание.
Я давно просил тебя не произносить мне здравиц. Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу твоих величаний. Я не люблю, когда ты меня производишь от тонкости, от совести, от моего отца, от Пушкина, от Левитана. Тому, что безусловно, не надо родословной. И не надо мне твоей влиятельной поддержки в целях увековечения. Как-нибудь проживу без твоего покровительства. Ты в собственной жизни, может быть, привык к преувеличениям, а я не лягушка, не надо меня раздувать в вола. Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть, чем разделить дым и обман, которым дышишь ты.
Я часто бывал свидетелем того, как ты языком отплачивал тем, кто порывали с тобою, Ивановым, Погодиным, Капицам, прочим. Да поможет тебе Бог. Ничего не случилось. Ты кругом прав передо мной.
Наоборот, я несправедлив к тебе, я не верю в тебя. И ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной, без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил и говорил бы впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А конечно охотнее всего я всех бы вас перевешал.
(Б.Л. Пастернак – Б.Н. Ливанову, 14 сентября 1959 г.)
Дорогие Боря и Женя, завтра я рано утром попытаюсь зайти к вам. У меня будет очень много дел в городе и, если я вас застану вставшими, это будет только на минуту, чтобы успеть сказать то, что я оставлю здесь в записке, если вы еще будете спать. Если можно перешагнуть через то письмо и забыть его, сделайте нам радость, приезжайте к Зине на именины в 3 часа в воскресенье двадцать пятого. Если это еще невозможно, переждем некоторое время и попытаемся восстановить все спустя более продолжительный промежуток. Я ни на минуту не переставал любить вас.
Боря
(Б.Л. Пастернак – Б.Н. Ливанову, 22 октября 1959 г.)
Пастернак появился у нас в доме ранним утром на следующий день после получения родителями его письма. Умолял простить его и забыть письмо. Но отец уперся. Сказал, что не может простить предательства их многолетней мужской дружбы, что ему отвратителен выбранный для разрыва «бабий» способ писания оскорбительных писем.
– После этого не удивлюсь, если ты сейчас начнешь здесь рыдать и падать на колени.
Пастернак действительно заплакал и встал на колени. Он просил отца вернуть письмо, говоря, что, если это письмо останется у нас в доме, отцу захочется его перечитать…
– Не захочется!
– …а тогда ты меня никогда не простишь…
Вся эта сцена разыгрывалась в прихожей. Отец попросил маму вернуть Пастернаку письмо, повернулся и вышел. Маму, когда она отдавала письмо, Борис Леонидович уверял, что «ему необходимо самому перечитать это письмо, что он его плохо помнит, так как писал в «невменяемом состоянии», и что письмо это он обязательно уничтожит.
– Бедный Боря, – повторяла мама с Зининой интонацией.
(Ливанов В.Б. Невыдуманный Борис Пастернак. Воспоминания и впечатления. М., 2002. С. 92–93)
Тридцатого сентября 1959 г., во время воскресного обеда на «Большой даче» Ливанов снова начал что-то говорить о «Докторе Живаго», Боря не выдержал и попросил его замолчать.
– Ты хотел играть Гамлета, с какими средствами ты хотел его играть? <…>
Не знаю, что было дальше, но в понедельник утром Боря пришел ко мне и тут же написал короткое стихотворение:
- Друзья, родные – милый хлам,
- Вы времени пришлись по вкусу.
- О, как я вас еще предам,
- Когда-нибудь, лжецы и трусы.
- Ведь в этом видно Божий перст
- И нету вам другой дороги,
- Как по приемным министерств
- Упорно обивать пороги…
Третья строфа не сохранилась в моей памяти. Тогда же он написал большое письмо Ливанову <…>. Конечно, сердиться долго он ни на кого не мог, вскоре сам позвонил Ливанову и пригласил на дачу: «Если, конечно, ты можешь перешагнуть через мое письмо».
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. С. 352–353)
Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы.
Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их куда они совсем не желали. Они не могли повернуть ее и в конце концов должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь удариться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрия Андреевича.
Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания! И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал.
(Пастернак Б.Л. Доктор Живаго)
Пастернак не пошел по пути пресмыкательства перед властью, как многие другие <…>. В чем они его упрекают? В том, что он против народа? Между тем Пастернак отказался эмигрировать, отказался даже ехать получать Нобелевскую премию, чтобы до конца разделить судьбу своего народа, с ним не расставаясь. В том, что он «внутренний эмигрант»? Между тем Пастернак никогда не смотрел назад, всегда вперед, хотя и он понимал прелесть всякого исторического прошлого. В том, что он «эгоцентрик»? Между тем он поставил всю свою жизнь и судьбу под удар, чтобы служить высшим надличностным ценностям. В том, что он пал морально? Между тем Пастернак всей силой своего таланта зовет к христианской любви, сам идет на Голгофу. В том, что он ведет политический подкоп под советскую власть? Между тем вся сила Пастернака в том, что он стоит на высотах, с которых политика кажется чем-то очень мелким.
(Облик Пастернака. Из материалов радиостанции «Свобода» // Флейшман Л.С. Встреча русской эмиграции с «Доктором Живаго»: Борис Пастернак и «холодная война». Stanford, 2009. С. 321)
Нобелевская премия
- Я пропал, как зверь в загоне.
- Где-то люди, воля, свет,
- А за мною шум погони,
- Мне наружу хода нет.
- Темный лес и берег пруда,
- Ели сваленной бревно.
- Путь отрезан отовсюду.
- Будь что будет, все равно.
- Что же сделал я за пакость,
- Я, убийца и злодей?
- Я весь мир заставил плакать
- Над красой земли моей.
- Но и так, почти у гроба,
- Верю я, придет пора —
- Силу подлости и злобы
- Одолеет дух добра.
Утром раздался звонок из ЦК:
– То, что сейчас выкинул Борис Леонидович, – возмущенным голосом говорил Поликарпов, – еще хуже истории с романом.
– Я ничего не знаю, – отвечала я, – я ночевала в Москве и еще днем рассталась с Борисом Леонидовичем.
– Вы поссорились? – спросил раздраженно Поликарпов. – Нашли время. Сейчас по всем волнам передается его стихотворение, которое он передал одному иностранцу. Все, что стихло, шумит вновь. Поезжайте, миритесь с ним, всеми силами удержите его от новых безумств…
Я начала одеваться, когда из переделкинской конторы позвонил Боря.
– Лелюша, не бросай трубку, – начал он, – я тебе все сейчас расскажу. Вчера, когда ты на меня справедливо разозлилась и уехала, я все в это не хотел поверить. Пошел на «Большую дачу» и написал стихотворение о Нобелевской премии. <…>
– Я написал это стихотворение, Лелюша, и пошел к тебе, – рассказывал мне Боря, – мне не верилось, что ты уехала. И тут мне встретился иностранный корреспондент. Шел за мною и спрашивал, не хочу ли я что-либо ему сказать? Я рассказал, что только что потерял любимого человека, и показал ему стихотворение, которое нес тебе…
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. С. 346–347)
Прокуратура СССР располагает материалами о том, что Вы, злоупотребив гуманным отношением, проявленным со стороны Советского правительства и несмотря на публичное заверение о своем патриотизме и осуждении своих ошибок и заблуждений, которое, как Вы сейчас утверждаете, было искренним, стали на путь обмана и двурушничества, тайно продолжали деятельность, сознательно и умышленно направленную во вред советскому обществу. Ответьте, передавали ли Вы после этих публичных заверений кому-либо из иностранных корреспондентов свои антисоветские сочинения?
ОТВЕТ: Действительно, в начале февраля этого года имел место случай неосторожной передачи нескольких стихотворений, в том числе стихотворения «Нобелевская премия», корреспонденту английской газеты «Дейли Мейл», который посетил меня на даче. Передавая эти стихотворения Брауну, я сказал, что не предназначаю их для опубликования, а даю их в качестве просимого автографа. <…>
На данной стадии расследования я должен предупредить Вас, что если эти действия, которые, как уже сказано выше, образуют состав преступления, не будут прекращены, то в соответствии с Законом Вы будете привлечены к уголовной ответственности.
(Из протокола допроса Б.Л. Пастернака Генеральным прокурором СССР Действительным Государственным Советником Юстиции Р.А. Руденко // «А за мною шум погони…». Борис Пастернак и власть: Документы, 1956–1972. С. 191)
Хотя опасность, которою мне пригрозили в самое последнее время, непреувеличенно смертельна, вещи бессмертного порядка, достигнутые наряду с ней, ее перерастают.
(Б.Л. Пастернак – С. Д’Анджело, 6 апреля 1959 г.)
Бессмертие
Смерть не по нашей части.
Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго
Второго мая во дворике нашей дачи появился взволнованный Кома Иванов. Он принес мне сверток от Б.Л. Это были записки карандашом, написанные его рукой. Кома сказал, что в лучшем случае у Б.Л. подозревают микроинфаркт и что лечению его мешает другое заболевание, которое проявляется в астматическом дыхании. Пришли тяжелые дни. Я ожидала посланных от Б.Л., и они каждый день приходили: это были Костя Богатырев, Кома Иванов – все, кто посещал Б.Л. и с кем он мне посылал свои записки. Когда обострилась болезнь? Пятница шестого мая казалась благополучной. Б.Л. встал, умылся, собрался даже выйти на обычную прогулку. Вдруг ему пришла блажь вымыть голову. Результат оказался трагическим: сразу стало плохо, вызвали «скорую помощь».
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. С. 369)
Мы с Алёнушкой[364] были у него 2 мая. Он рассказывал нам о переписанной части пьесы, которую хочет прочесть, если поправится. Его состояние не вызывало тогда особого беспокойства, к нему, как обычно, приходили знакомые, и врач Самсонов находил только отложение солей и велел больше двигаться. Но папа ясно предчувствовал свой скорый конец и сам поставил себе диагноз рака легких. Для убедительности он напомнил мне, как в Кремлевской больнице у его соседа были такие же боли в спине, и ему также говорили про отложение солей.
– Вчера приходила ко мне Катя Крашенинникова[365], – добавил н, – и я ей исповедался, она приготовила меня к смерти.
Через несколько лет Екатерина Александровна нам рассказала, что попала в Переделкино в тот день совершенно случайно, по делам прописки одного монаха. Неожиданно для себя решила зайти к папочке. Зинаида Николаевна встретила ее словами: «Борис Леонидович вас звал». Когда она вошла к папе в комнату, он ей сказал: «Катенька, я умираю».
(Пастернак Е.Б. Понятое и обретенное. С. 504)
В голове у него [Пастернака. – Прим. авт. – сост.] постоянно литературные образы, о которых он рассказывает. «Спорят между собой переводы Шекспира, Гёте и куда-то проваливаются, увлекая меня». Мы его останавливаем. Просим молчать. Борис Леонидович сердится: «О чем же мне говорить? Не о левой же лопатке, которая болит. К тому же она не разговаривает по-русски». Борис Леонидович не жалуется на страдания, не капризничает. Он либо лежит с закрытыми глазами, либо смотрит на нас (медицинскую сестру и меня) и тут же начинает извиняться за то, что вот он заболел, а нам приходится за ним ухаживать, говорит, что сам виноват в своей болезни. Очень давно появилась тяжесть и неприятное чувство, а временами и боль в левой лопатке. Но все казалось несерьезным, а временами настолько серьезным, что страшно было признаваться. «Я думал, что внутренним сопротивлением болезни можно одержать над ней победу. Я ошибся и сам себе все это наделал».
(Голодец А.Н[366]. Последние дни // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 750)
Боря никого не принимал и никого не хотел видеть. Как он сказал, что он всех любит, но его уже нет, а есть какая-то путаница в животе и легких, и эта путаница любить никого не может. Круглосуточно дежурили сменявшие друг друга сестры, но на всяческие процедуры он всегда звал меня. Я несколько раз спрашивала его, не хочет ли он повидать Ивинскую, и говорила ему: мне уже все равно, я могу пропустить к тебе ее и еще пятьдесят таких красавиц. Но он категорически отказывался, и я этого не могла понять. <…> Она часто подходила к калитке со слезами, но каждый раз к ней выходил Александр Леонидович, и Боря передавал через брата просьбу больше не приходить. Я же, несмотря на всю мою неприязнь к ней, готова была ее впустить. Как сказал мне Боря, он не хотел в больницу, потому что она приезжала бы туда к нему. Он говорил: «Прости меня за то, что я измучил тебя уходом за мной, но скоро я тебя освобожу и ты отдохнешь». Он не понимал, что в больницу я хотела его отправить, боясь взять на себя ответственность. Но с тех пор, как выяснился диагноз – рак легкого, и я знала точно, что он умрет, я совершенно оставила мысль о больнице. Он много раз говорил о своем желании умереть на моих руках.
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 388)
Еще рассказал Асмус, что Зинаида Николаевна не отходит от Бориса Леонидовича, очень умело за ним ухаживает, но, воспользовавшись тем, что он лежит внизу и верх свободен – затеяла там давно мечтаемый ремонт. Борис Леонидович, страдая от жары, просил не топить в доме; когда рабочие наверху случайно задели трубу, он подумал, что затопили – и очень разволновался. Казалось бы, инфаркт и ремонт – две вещи несовместные. Но нет. Хозяйственность прежде всего. После ужина Анна Андреевна пожелала съездить к Пастернаку, справиться о здоровье. <…> И вот я опять веду Анну Андреевну по тому же двору. Пусто. Мрачно. Анна Андреевна ступает с трудом, задыхаясь. Взошли на крыльцо – правое, кухонное. Нам навстречу Лёня и Нина Александровна Табидзе. Встретили сначала неприветливо: не узнали Ахматову. Потом подобрели. Нина Александровна, рассказывая, пошла нас проводить до ворот. Говорит, что сегодня Борису Леонидовичу лучше. Анна Андреевна с измученными глазами еле сделала шаг вверх: в машину, внутрь. Все труднее и труднее с каждым месяцем дается ей этот единственный шаг. В машине она сказала:
– Я так рада, что побывала здесь. Надеюсь, ему передадут. (В последнее время она была недовольна Борисом Леонидовичем, и, я думаю, сейчас это ее точит).
(Запись от 11 мая 1960 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 385–386)
Сейчас звонили, что Пастернаку очень плохо. Положение угрожающее, – боюсь, что меня готовят к его концу. Маруся сказала, что он плакал, когда ему сказали, что я приезжала узнать о его здоровии. Переделкино показалось мне очень мрачным и даже невзрачным, несмотря на великолепную весну, которая так поразила меня в Коломенском (там чуть не накануне божественно пахло травой и водой). А здесь, казалось, со всего был снят какой-то незримый покров и все стало плоским и низменным.
(Запись от 15 мая 1960 г. // Записные книжки Анны Ахматовой: 1958–1966. С. 83)
Вспоминала она [Ахматова. – Примеч. авт.-сост.] и их встречу в Боткинской больнице, куда она пришла его навестить весной 1952 года, особенно один какой-то их разговор на площадке лестницы, у окна, когда он ей сказал что-то самое важное о себе, почему он теперь не боится смерти. Она мне об этом рассказала ровно через восемь лет, в палате той же Боткинской больницы, когда я пришел к ней на другой день после смерти Бориса Леонидовича, чтобы подготовить ее к этому удару (самое сообщение взяла на себя пришедшая к ней вслед за мной М.С. Петровых). К своему рассказу Анна Андреевна прибавила, что недавно перед тем самым окном в больничном дворе «совершенно незаконно», раньше времени зацвела липа. Через несколько месяцев я записал под диктовку:
- Словно дочка слепого Эдипа,
- Муза к смерти провидца вела.
- И одна сумасшедшая липа
- В этом траурном мае цвела —
- Прямо против окна, где когда-то
- Он поведал мне, что перед ним
- Вьется путь золотой и крылатый,
- Где он вышнею волей храним.
Листок этот подписан: Анна Ахматова. 1960. Москва.
Незадолго до смерти Бориса Леонидовича Анна Андреевна была у него в Переделкине. Решила поехать, кажется, не без колебаний: они уже давно не виделись. Я не знал, что она туда поехала. Вдруг в час ночи звонок по телефону – голос Анны Андреевны, которая никогда мне так поздно не звонила. «Мне именно вам захотелось позвонить, – я была в Переделкине». У нее было, по ее словам, такое чувство, что они помирились, хотя ее к нему в комнату уже не могли пустить, только сказали ему, что она здесь, рядом. Запомнились ее слова: «Я так рада, что у него побывала. Плохо совсем. Мучается. Бедненький наш Борисик…»
«Борисик…» Это слово и прежде изредка мелькало среди разных разностей, которые она о нем говорила.
Давно уже знала она тяжесть невыплаканных слез, которые «внутри скипелись сами», давно научилась завидовать тем, «кто плачет, кто может плакать…». Она и в этом не побоялась признаться в своих стихах. Но когда ей сказали о смерти Бориса Леонидовича, ее глаза были полны слез, и, увидев это, невозможно было этого не запомнить <…>.
(Виленкин В.Я. В сто первом зеркале. С. 34–35)
На пастернаковской дороге (которая, смеху ради, называется «улицей Павленко») я встретила Веру Васильевну[367]. Пошли вместе.
Пустая дорога. Яркое солнце. Жара.
Ворота распахнуты настежь. Бездомье, ничейность, брошенность, осиротелость.
Пустыня двора залита солнцем.
Нас облаяли две собаки: одна маленькая, другая большая.
Мы вошли в дом через левое крыльцо, никого не встретив. Постояли в прихожей. Ни звука, ни голоса.
На полу ведро с водой, и в нем гладиолусы. Направо, в спокойной столовой, на столе, большая ваза с цветами.
Я толкнула дверь в комнату налево – в ту самую, где я говорила с ним в день исключения из Союза.
Оглядевшись, не сразу поняла: это он лежит на узкой раскладушке, слева у стены, укрытый простыней.
Вера Васильевна откинула простыню.
Лицо искажено. Уста запали. И глаза. Глубоко подо лбом темные, черные, округлые веки.
Я начала укладывать вдоль тела ветви. Но тут вошла Берта Яковлевна Сельвинская и очень громко сказала нам, что класть цветы сейчас нельзя и открывать лицо нельзя. Засунула мои веточки в ведро у двери.
Я передала ей письмо для Зинаиды Николаевны, и мы ушли.
Двор был по-прежнему пуст, но на дороге уже началось шевеление. Кто-то топтался у ворот, кто-то что-то фотографировал. Видела я только двоих, но спиною чувствовала – как тогда! – что и поле, и дорога простреливаются незримыми взглядами.
Вера Васильевна пересказала мне слух, которым мне противно марать свою тетрадку: будто из Союза к Зинаиде Николаевне приезжал Воронков, предлагал ей, что Союз возьмет похороны на себя, если она разрешит поставить гроб в ЦДЛ.
(«Союз Профессиональных Убийц» – так называл Союз писателей Булгаков.)
Зинаида Николаевна, к чести ее, отказалась.
(Запись от 31 мая 1960 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. C. 393–394)
Август
- Как обещало, не обманывая,
- Проникло солнце утром рано
- Косою полосой шафрановою
- От занавеси до дивана.
- Оно покрыло жаркой охрою
- Соседний лес, дома поселка,
- Мою постель, подушку мокрую
- И край стены за книжной полкой.
- Я вспомнил, по какому поводу
- Слегка увлажнена подушка.
- Мне снилось, что ко мне на проводы
- Шли по лесу вы друг за дружкой.
- Вы шли толпою, врозь и парами.
- Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
- Шестое августа по-старому,
- Преображение Господне.
- Обыкновенно свет без пламени
- Исходит в этот день с Фавора,
- И осень, ясная как знаменье,
- К себе приковывает взоры.
- И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
- Нагой, трепещущий ольшаник
- В имбирно-красный лес кладбищенский,
- Горевший, как печатный пряник.
- С притихшими его вершинами
- Соседствовало небо важно,
- И голосами петушиными
- Перекликалась даль протяжно.
- В лесу казенной землемершею
- Стояла смерть среди погоста,
- Смотря в лицо мое умершее,
- Чтоб вырыть яму мне по росту.
- Был всеми ощутим физически
- Спокойный голос чей-то рядом.
- То прежний голос мой провидческий
- Звучал, нетронутый распадом:
- «Прощай, лазурь преображенская
- И золото второго Спаса,
- Смягчи последней лаской женскою
- Мне горечь рокового часа.
- Прощайте, годы безвременщины!
- Простимся, бездне унижений
- Бросающая вызов женщина!
- Я – поле твоего сраженья.
- Прощай, размах крыла расправленный,
- Полета вольное упорство,
- И образ мира, в слове явленный,
- И творчество, и чудотворство».
Написав эти строки, разве можно было дальше жить? Через двор меня проводила и за ворота вышла вместе со мною Нина Александровна Табидзе. Я осведомилась, как Зинаида Николаевна.
– Да ведь она сдержанная, молодец, все сама, все на ногах. Он и сыновьям сказал: берегите мать. Перед смертью ее за все благодарил. Он всегда уважал ее. И никого, кроме своих, не пожелал видеть. Его спрашивали: скажи, может быть, хочешь кого-нибудь позвать? Нет, никого не надо.
Мы вышли за ворота. К нам присоединилась Зинаида Владимировна, сестра Тамары Владимировны Ивановой. Они обе проводили меня до шоссе.
– Он Ольгу, говорят, ни за что не хотел видеть, – сказала Зинаида Владимировна. – Очень ждал из Лондона сестру[368]. Но ей не дали визы. Пока не дали: завтра, может быть, она прилетит[369].
(Запись от 1 июня 1960 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 396)
Мы вошли в комнату. Борис Леонидович был как будто мраморное изваяние, совсем не такой, каким я запомнила его по консерватории. Он был необыкновенно торжественный, как будто святой. В этот момент я подумала: «Ну, если уж он умер, то я точно умру». Я хорошо разглядела его профиль. Прядь волос, нос с горбинкой, и цвет кожи не желтый, а белоснежный. Удивительно! Ведь он при жизни был смуглым. Когда я вернулась домой, то даже вылепила его из пластилина, никак не могла забыть этого лица. Возле гроба стояла красавица-жена Всеволода Иванова – Тамара Владимировна. Вообще людей в доме было немного, никакой суеты. Играла на рояле Юдина. Там, кажется, и Рихтер был, но я его не застала.
Во дворе я разговорилась с каким-то мужчиной. Он рассказал, что приезжал на кладбище за день или за два до этого посмотреть, где будет могила, и встретил одного местного жителя, который сказал ему так: «Да, умер Борис Леонидович. Какой был человек! Совсем не похож на писателя!» Я уже потом узнала, что беседовала с К.П. Богатыревым[370].
Когда вынесли гроб, то многие пошли за ним по дороге, а мы – через поле. Мы взобрались на гору и увидели К.Г. Паустовского, который стоял, опершись на ограду. Он был уже очень пожилым человеком, но на похороны Бориса Леонидовича приехал. Помню, еще в Москве мне сказал кто-то: «Все интеллигентные люди должны там быть». У могилы говорил В.Ф. Асмус, очень хорошо говорил. Еще был Евтушенко[371] и Лидия Корнеевна. <…> Я сейчас не могу припомнить всех, кто был там – мне было не до того. Кажется, никто не плакал. Хорошо запомнила Зинаиду Николаевну, она стояла в изголовье гроба. Почему-то совсем не помню Женю, а вот Лёню помню хорошо, хотя наверняка они вместе несли гроб. И наш Федя тоже. Когда гроб вынесли из дома, к нему подошла Ольга Всеволодовна. Но и она тоже не плакала. Это были очень спокойные, интеллигентные похороны.
(В орбите Пастернака: по воспоминаниям Р.Л. Сегал // Русская литература конца XIX – начала XX века в зеркале современной науки. М., 2008. С. 412)
Проходим в комнаты к телу Б.Л. Он лежит в черном костюме и белой манишке. Гроб полузасыпан цветами. Желто-бледное, очень исхудалое, красивое лицо. К стене рядом и к подножью гроба прислонены три больших венка. Ленты скомканы, но можно прочесть отдельные слова: «…другу… поэту…». Потом мне сказали, что это от В.В. Иванова, от К.И. Чуковского и третий – поменьше – от нашего родного Литфонда.
В соседней комнате громко звучит фортепьяно. Сменяя друг друга, непрерывно играют М.В. Юдина, Святослав Рихтер и Андрей Волконский. Медленно идем мимо гроба, не сводя глаз с прекрасного лица. Впервые не удивляюсь его моложавости, но это и не лицо старика. Я мало видел его поседевшим и не успел привыкнуть к седине, так контрастировавшей с его молодым лицом. Хорошо помню самые первые серебряные ниточки в этих волосах, еще почти незаметные и так его красившие. Уже в дверях замедляю шаги и оборачиваюсь. Проходим через сени и выходим из дома с противоположной стороны. Сад постепенно наполняется народом… <…>
В распахнутые ворота непрерывно входят все новые и новые люди. Хорошо знакомые писательские лица, музыканты, художники. И молодежь, много молодежи. В саду уже порядочно и иностранных корреспондентов, фоторепортеров и кинооператоров. <…> Сколько здесь? Тысяча человек? Две? Три? Четыре? Трудно сказать. Но, пожалуй, несколько тысяч (и вряд ли меньше трех). Когда мы ехали, я боялся, что все это будет малолюднее, жалче. И кто мог ожидать, что это будет так. Ведь сегодня сюда никто не пришел из внешнего приличия, из формального долга присутствовать, как это часто бывает. Для каждого здесь находящегося этот день – огромное личное событие, и то, что это так, – еще одна победа поэта.
Мне показывают Ольгу Ивинскую. Она сидит на скамейке у дома и, опустив голову, слушает что-то говорящего ей К.Г. Паустовского. <…> Проходят часы, а мы все стоим в этом празднично цветущем саду, и в ворота все идут и идут новые группы людей с цветами в руках. Так прошло несколько часов, не помню точно сколько. Все это время мы говорили только об одном – о Б.Л. Пастернаке. Но вот доступ к гробу закрыт на двадцать минут для всех, кроме самых близких. Ивинская осталась в саду. Потом она взбирается на скамейку и смотрит в окно. Газетчики в восторге. Сразу защелкал десяток камер. Окна раскрываются, и из них в толпу стали передавать охапки цветов с гроба. Цветов множество, и это продолжается довольно долго. Цветы плывут над головами и возвращаются в руки тех, кто их принес. Когда процессия тронулась, почти все снова шли с цветами. Из дверей передают венки, крышку гроба, и вот уже выносят сам гроб. Что-то подступило к горлу…
<…> Кладбище от дачи Пастернака метрах в 600–700, если идти по дороге, и гораздо ближе – напрямик через картофельное поле. Мы идем через поле и приходим минут за двадцать до траурного шествия. Для гроба была заранее приготовлена машина, но молодежь не дала ставить гроб на машину и понесла его на руках.
Место для могилы Б.Л. выбрано красивейшее – лучше невозможно – открытое со всех сторон, на пригорке под тремя соснами, в видимости от дома, где поэт прожил последнюю половину своей жизни. Здесь толпа кажется еще большей, чем в саду. Вот и процессия с гробом. Перед тем как опустить его на землю рядом с могилой, его почему-то поднимают над толпой, и я в последний раз вижу исхудалое, прекрасное лицо Бориса Леонидовича. Я стою шагах в 8–10 от могилы. <…> Начинается траурное собрание. Первым говорит профессор Асмус. У него нелегкая задача, но он превосходно справляется с ней. Я плохо запомнил его речь, но в ней ничто не показалось бестактным, ненужным, лишним… Чтец Голубенцев читает «О, если б знал, что так бывает…». И другой, незнакомый мне, совсем юный и искренний голос читает до сих пор не напечатанного, но широко известного «Гамлета»[372]. Трудно сделать лучше выбор. В ответ на последние строки «Гамлета» в толпе пробегает шум. Атмосфера мгновенно накаляется, но тот же голос, который объявил об открытии траурного митинга (я не вижу этого человека за головами впереди стоящих), поспешно его закрывает. Еще больший шум и голоса протестов. И сразу, еще на общем шуме и возгласах, какой-то сладкий голосок что-то говорит о росе, в которую скоро превратится поэт, и тому подобную приторную мистическую чушь. Он еще не кончил, как хриплый и едва ли трезвый голос выкрикивает, что он должен от имени рабочих Переделкина (какие же в Переделкине рабочие?) заявить, что «они» не понимают, почему Пастернака не печатали и что «он любил рабочих»… Начинает попахивать политической провокацией, но вездесущий Арий Давыдович[373] тихо распоряжается, и вот раздаются слова команды: «Раз-два, взяли…»
Это опускают в землю гроб.
Слышатся возгласы: «Прощай, самый великий!.. Прощайте, Борис Леонидович!..» «Прощайте…». И вдруг сразу наступает тишина, и вот уже стучат комья земли по крышке гроба Бориса Пастернака.