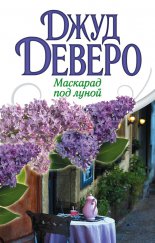Пастернак в жизни Сергеева-Клятис Анна
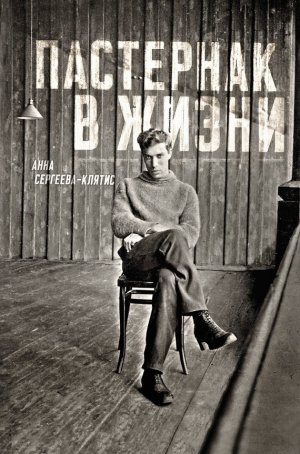
Душа моя, печальница
О всех в кругу моем…
Б.Л. Пастернак. Душа
К нам присоединяется изысканный Пастернак. Он невероятно привлекателен, взгляд, улыбка, все его существо дышат простодушием, непосредственностью наилучшего свойства[235].
(Жид А. Записные книжки путешествия по СССР // Диалог писателей: из истории русско-французских культурных связей XX века. 1920–1970. М., 2002. С. 363)
Предупредив источника[236], что тот должен сохранить в тайне все, что он будет говорить, Пастернак рассказал:
– У меня здесь на даче был А. Жид два раза. <…>
– Я полон сомнений, – сказал Андре Жид, – я увидел у вас в стране совсем не то, что ожидал. Здесь невероятен авторитет, здесь очень много равнодушия, косности, парадной шумихи. Ведь мне казалось во Франции, что здесь свобода личности, а на самом деле я ее не вижу. Меня это очень беспокоит, я хочу написать обо всем этом статью и приехал посоветоваться с вами по этому поводу.
– Что же мне вам сказать, – сказал Пастернак Жиду и Эрбару. – Написать такую статью, конечно, можно, но реальных результатов она не принесет. Ваше имя в нашей стране значит меньше, чем имена Горького и Роллана, но даже они не решались подавать советы. У нас уничтожена эксплуатация. Но мы лишь мечемся в поисках путей, никакой это не Ренессанс и не Эллада. А вообще я в таких делах не мастак. Лучше посоветуйтесь с Кольцовым.
В ответ на это Жид и Эрбар испуганно замахали руками и ответили, что Кольцов лицо официальное.
(Maximenkov L., Barnes Ch. J. Boris Pasternak in August 1936. An NKVD memorandum // Toronto Slavic Quarterly. Academic electronic Journal in Slavic Studies. Fall 2003. № 6)
С Пастернаком и Бабелем, равно как с Эренбургом, у А. Жида и других буржуазных писателей ряд лет имеются особые связи. А. Жид говорил, что только им он доверяется в информации о положении дел в СССР – «только они говорят правду, все прочие подкуплены». <…> Cвязь А. Жида с Пастернаком и Бабелем не прерывалась до приезда Жида в Москву в 1936 году. Уклоняясь от встреч с советскими писателями и отказываясь от получения информаций и справок о жизни СССР и советском строительстве, А. Жид в то же время выкраивал специальные дни для встреч с Пастернаком на даче, где разговаривал с ним многие часы с глазу на глаз, прося всех удалиться. Зная антисоветские настроения Пастернака, несомненно, что значительная часть клеветнических писаний А. Жида, особенно о культурной жизни СССР, была вдохновлена Пастернаком.
(Показания М.Е. Кольцова, данные на допросе в 1939 г. // Фрадкин В.А. Дело Кольцова. М., 2002. С. 91)
В своей критике поведения Пастернака Ставский указал на то, что в кулуарных разговорах Пастернак оправдывал А. Жида[237].
Б. Пастернак (рассказывая об этом кулуарном разговоре с критиком Тарасенковым): «…Это просто смешно. Подходит ко мне Тарасенков и спрашивает: “Не правда ли, мол, какой Жид негодяй”. А я говорю: “Что мы с вами будем говорить о Жиде. О нем есть официальное мнение «Правды». И потом, что это все прицепились к нему – он писал, что думал, и имел на это полное право, мы его не купили”. А Тарасенков набросился: “Ах так, а нас, значит, купили. Мы с вами купленные”. Я говорю: “Мы – другое дело, мы живем в стране, имеем перед ней обязательства”».
Всеволод Иванов: «Ставский, докладывая о съезде, в общем сделал такой гнетущий доклад, что все ушли с тяжелым чувством. Его доклад политически неправилен. Он ругал всех москвичей, а москвичи – это и есть советская литература. И хвалил каких-то неведомых провинциалов. Ставский остался один. Писатели от него отворачиваются. То, что на собрании демонстративно отсутствовали все крупные писатели, доказывает, как они относятся к Ставскому и к союзу. Это было также и ответом “Правде”. Выходка Пастернака не случайна. Она является выражением настроений большинства крупных писателей».
Пав. Антокольский: «Пастернак трижды прав. Он не хочет быть мелким лгуном. Жид увидел основное – что мы мелкие и трусливые твари. Мы должны гордиться, что имеем такого сильного товарища».
Ал. Гатов (поэт): «Пастернак сейчас возвысился до уровня вождя, он смел, неустрашим и не боится рисковать. И важно то, что это не Васильев, его в тюрьму не посадят. А в сущности, так и должны действовать настоящие поэты. Пусть его посмеют тронуть, вся Европа подымется. Все им восхищаются».
С. Буданцев: «Провозглашено внимание к человеку, а у писателя это должно выразиться в том, что он должен скрыть в человеке все человеческое. Десять лет тому назад было несравненно свободнее. Сейчас перед многими из нас стоит вопрос об уходе из жизни. Только сейчас становится особенно ясной трагедия Маяковского: он, по-видимому, видел дальше нас. Пастернак стал выразителем мнения всех честных писателей. Конечно, он будет мучеником – такова участь честных людей».
В свете характеризованных выше настроений писателей приобретает особый интерес ряд сообщений, указывающих на то, что Переделкино (подмосковный дачный поселок писателей), в котором живут Вс. Иванов, Б. Пильняк, Б. Пастернак, К. Федин, Л. Сейфуллина и др. видные писатели, становится центром особой писательской общественности, пытающимся быть независимым от Союза советских писателей.
(Спецсправка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР о настроениях среди писателей // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б) – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917–1953 гг. М., 1999. С. 520)
Еще осенью или в начале зимы 1936 года разыгралась история с отказом Пастернака подписать протест против книги А. Жида «Возвращение из СССР». Пастернак сослался на то, что он не читал книги, и это было чистейшей правдой, но ее не читало также и девять десятых писателей, давших свои подписи. Нравственная щепетильность Пастернака казалась позой вызова, чем она вовсе не была. Помню, как искренно негодовал литератор В.[238], подписавший протест. «Ну и что же, что не читал? – говорил он. – Я тоже не читал. Можно подумать, что все остальные читали! И чего ему, больше всех надо? Ведь “Правда” написала, что книжка – вранье…»
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 56–57)
К своим скупым рассказам он добавлял только то, что по понятным причинам не могло тогда попасть ни в его книги, ни в «Дневник». Он боялся рассказывать о своей огромной симпатии к Пастернаку, которая – он это подчеркивал – пробудилась у него молниеносно, чуть ли не при первой встрече. Он говорил, что Пастернак открыл ему глаза на происходящее вокруг, предостерегал его от увлечения теми «потемкинскими деревнями» или «образцовыми колхозами», которые ему показывали. Конечно, встречи с Пастернаком, а тем более длительные беседы сорганизовать было нелегко, постоянно тут же оказывались какие-то незваные собеседники. <…> Кстати, именно Пастернак – первый, были потом и другие, – отсоветовал Андре Жиду лететь обратно в Париж на самолете «Аэрофлота», потому что стало уже довольно широко известно, что его визит не дал ожидавшихся результатов и пышные банкеты его отнюдь не соблазнили.
(Бахрах А.В. По памяти, по записям: Андре Жид // Континент. 1976. № 8. С. 364)
Был Andre Gide. Очень приятное впечатление. Тонок, умен – и вдруг: <…> в восторге от Пастернака…
(Бунин И.А. Запись в дневнике, август 1941 г. // Бунин И.А., Бунина В.Н. Устами Буниных: дневники: в 3 т. Франкфурт-на-Майне, 1977–1982. Т. 3. С. 109)
Почему Пастернак молчит? Почему, когда он выходит, – начинает мычать нечленораздельно? Почему, когда мы обсуждаем творческий отчет Пильняка, а после этого следовало бы признать правильность мнения нашей общественности, почему Пастернак на этом заседании Президиума ничего у себя не нашел, кроме издевательства над Пильняком – что говорил я тебе, не советовал сюда ходить, а ты получил по зубам и все[239]. А сегодня как он пишет? Вот «Из летних записок» Пастернака, опубликованных, по-моему, по недосмотру редакции, в 10-й книге «Нового мира»:
- Счастлив, кто целиком,
- Без тени чужеродья,
- Всем детством – с бедняком,
- Всей кровию – в народе.
- Я в ряд их не попал,
- Но и не ради форса
- С шеренгой прихлебал
- В родню чужую втерся.
- Отчизна с малых лет
- Влекла к такому гимну,
- Что небу дела нет —
- Была ль любовь взаимна.
- Народ, как дом без кром,
- И мы не замечаем,
- Что этот свод шатром,
- Как воздух нескончаем.
- Он – чащи глубина,
- Где кем-то в детстве раннем
- Давались имена
- Событьям и созданьям.
- Ты без него ничто.
- Он, как свое изделье,
- Кладет под долото
- Твои мечты и цели.
Когда я это читаю и сравниваю с «Чем больше будет счастья на земле, тем легче быть художником» это черт знает что, без возмущения нельзя об этом говорить. Я не буду приводить другие строчки этого поэта, которого некоторые люди провозглашали чуть ли не вершиной социалистической поэзии, я имею в виду доклад Бухарина на съезде. Что тут поэтического? Ничего общего с поэзией это дело не имеет. А почему мы молчим? И дальше мы обязаны подумать, почему мы об этом факте говорили, но ответа писательская общественность не получила от Пастернака. Почему он сдал в издатльство перевод своей поэмы Генриха фон Клейста, в которой славословится военщина немецкая, разве он не знает, что фон Клейста канонизируют фашисты? И дальше, был у нас Андрэ Жид, который здесь кое с кем из литераторов встречался, и разговаривал о том, что делается, и, с их слов, очевидно, кое-что написал о Советском Союзе. А дальше мы имеем такие факты, как заявление Пастернака, в то время как вся писательская общественность возмущена этим двурушничеством в угоду фашистам, – находится Пастернак, который говорит, что книжка Андрэ Жида правильная. В этом доме и не так давно. В то время как здесь провозглашали здоровье Сталина и праздновали праздник Конституции, нашелся этот человек – который выступил с таким заявлением.
(Голос: Позор.)
(Ставский В.П. Доклад на общемосковском собрании писателей, 16 декабря 1936 г. // Поливанов К. М. Заметки и материалы к «политической» биографии Бориса Пастернака. De Visu. 1993. № 4. С. 74–75)
Теперь нужно сказать о тех товарищах, которые до сих пор думают, что мнение нашей общественности для них, корифеев, не обязательно. Они стоят в нашей действительности «особнячком», позволяют себе то, с чем нельзя примириться. <…> А что пишет Б. Пастернак сегодня, что он публикует, по явному недосмотру редакции, в десятой книге «Нового мира»? Он печатает стихи, в которых клевещет на советский народ, заявляя: «Он, как свое изделье, кладет под долото твои мечты и цели». Нельзя без возмущения читать эти строчки и говорить о них. Не буду приводить других строчек этого поэта, которого некоторые люди, в частности Бухарин на съезде советских писателей, провозглашали чуть ли не вершиной социалистической поэзии. Но что тут поэтического? И почему мы молчим? Борис Пастернак в своих кулуарных разговорах доходит до того, что выражает солидарность свою даже с явной клеветой из-за рубежа на нашу общественную жизнь.
(Ставский В.П. Доклад на общемосковском собрании писателей, 16 декабря 1936 г. [о Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов на общем собрании членов ССП] // Литературная газета. 1936. 20 декабря. № 71(634). С. 1)
Другу
- Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
- Вовек не вышла б к свету темнота,
- И я – урод, и счастье сотен тысяч
- Не ближе мне пустого счастья ста?
- И разве я не мерюсь пятилеткой,
- Не падаю, не подымаюсь с ней?
- Но как мне быть с моей грудною клеткой
- И с тем, что всякой косности косней?
- Напрасно в дни великого совета,
- Где высшей страсти отданы места,
- Оставлена вакансия поэта:
- Она опасна, если не пуста.
Конституция <…> перемещает задачу самосознанья из рук будущего в наши собственные. Это-то и называется свободой. <…> Никогда (и в этом корень слепого обвиненья меня и ряда художников в аполитизме), никогда не понимал я свободы как увольненья от долга, как диспенсации, как поблажки. Никогда не представлял ее себе как вещь, которую можно добыть или выпросить у другого, требовательно или плаксиво. Нет на свете силы, которая могла бы мне дать свободу, если я не располагаю уже ею в зачатке и если я не возьму ее сам, не у бога или начальника, а из воздуха и у будущего, из земли и из самого себя, в виде доброты, и мужества, и полновесной производительности, в виде независимости, независимости от слабостей и посторонних расчетов. Так представляю я себе и социалистическую свободу[240].
(Пастернак Б.Л. Новое совершеннолетье // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 5. С. 237)
Когда я писал о радости моего открытия – «творческое прозрение», я имел в виду также и это – легкость походки и громадную внутреннюю свободу от всего, что стесняет или мешает. Теперь я уже совершенно понимаю Пастернака, когда он великолепно говорит о своей независимости от того, что создают ему люди, о своем умении находить объекты работы здесь, на пустой даче, в вагоне дачного поезда или в камере одиночки, где все-таки будет, как он говорит, кровать и табуретка, и он останется, наконец, один, без забот и волнений, со всеми своими мыслями об искусстве и его образах. Я понял, что это у него не фраза, не желание показать себя философом, это действительно достигнутая ступень внутреннего освобождения…
(Афиногенов А.Н. Из дневника 1937 года // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 1. С. 720)
Сталиным была запущена истребительная машина, известная под именем ежовщины. Во главе политической полиции стоял Ежов, имевший стоячие гомеровские эпитеты «железный нарком» и «соратник Сталина». Начались ужасные политические процессы, аресты и ссылки. Неизгладимое впечатление произвел процесс Бухарина. Кровавыми руками палача Вышинского Сталин отрубал у советского народа голову – его революционную интеллигенцию. По вечерам, после радиопередач о кровавом, грязно состряпанном процессе, запускалась пластинка с «Камаринской» или гопаком. Куранты, которые били полночь, с тех пор травмировали мою душу своим медленным тюремным звоном. У нас не было радио, но оно кричало от соседей и ударяло в мой мозг, в мои кости. Особенно зловеще била полночь после страшных слов «приговор приведен в исполнение».
(Фрейденберг О.М. [Воспоминания] // Пастернак Б.Л. Пожизненная привязанность: переписка с О.М. Фрейденберг. С. 212)
Затем наступили события, связанные с процессом троцкистов (Каменев – Зиновьев). По сведениям Ставского, Б.Л. вначале отказался подписать обращение Союза писателей с требованием о расстреле этих бандитов. Затем, под давлением, согласился не вычеркивать свою подпись из уже напечатанного списка. Выступая на активе «Знамени» 31 августа 1936 года, я резко критиковал Б.Л. за этот <отказ от подписи>. Очевидно, ему передал это присутствовавший на собрании Асмус. Когда после этого я приехал к Б.Л., холод в наших взаимоотношениях усилился.
(Тарасенков А.К. Пастернак. Черновые записи. 1934–1939 // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 178)
Н<иколай> И<ванович>[241], если хотел и мог, должен был вам объяснить много из того, что за необозримостью не поддается описанью. Он замечательный, исторически незаурядный человек с… несправедливо сложившейся судьбою. Я его очень люблю. На него в последнее время нападали люди, не стоящие его мизинца…[242] Но всего этого не объяснить. Ваше знакомство с ним было для меня совершенной неожиданностью. Весь день я сегодня о нем думал.
(Б.Л. Пастернак – родителям, 6 марта 1936 г.)
Мой отец [Вс. Иванов. – Примеч. авт. – сост.] застал как-то Бухарина и Горького за оживленным разговором. Горький с воодушевлением объяснил ему, что они обсуждали план беспартийной газеты, которую будут издавать. Хотя этот план и не был реализован, в качестве редактора «Известий» Бухарин сделал много, чтобы к нему приблизиться: в газете среди других печатались Пастернак, молодой Заболоцкий.
(Иванов Вяч. Вс. Почему Сталин убил Горького? // Вопросы литературы. 1993. № 1. С. 110)
29/I 37
Лахути и я[243]. – Беседа в 4 ч. 15 м.
Я изложил кратко обстановку, процесс, отклики писателей, их внутренний долг… Народ, читательская масса ждет от писателей их слова; значение его…
Пастернак: Мои особенности, я мягок, что ли… Я не могу так, как все: все кричат, клянутся одинаково – и эти, пойманные, в том числе так же клялись… Дело, следовательно, не в формулах. В «Лит. газете» все одно и то же пишут о процессе: псы, к стенке и пр… Дело глубже, что ли…
У меня были беседы, встречи с Бухариным, Радеком. У гроба Маяковского Бухарин как-то близко, хорошо подошел ко мне…[244] Я не хочу говорить: если Бухарин сказал «2 2 = 4», – я не могу спешно отрекаться: 2 2 = 5. Но я не дружил, не бывал у него… – А Радеку я как-то сказал перед его высылкой (1928): «Я преклонялся перед революционерами, их ореол… А вот перед вами, – как-то нет, не чувствую…»
(Довольно активно)… В жизни я в общем тверд, но я не человек действия, быстрой реакции… Я все продумываю… Вот говорил о процессе с женой, сыном… Эти люди (Пятаков и др.) нас обманули, ощущение лжи, околпаченности…
– У нас есть органы, которые ведают всеми делами и осведомлением, – и их дело разбирать все конкретно… (Намек, что ССП не может вникать в личн<ые> полит<итические> дела Пастернака.)
(Я сильно, активно возражал Пастернаку: дело не в индивидуальных свойствах и т. п., – а в необходимости граждански выступить, ясно.)
Пастернак уступал… Говорил о трагизме времени, – о своих личных чувствах к Сталину (письмо после смерти Алиллуевой[245]), о его исторической роли, моральной ответственности за людей… «Мы горим как факел, и если даже сгорим, – на века осветим путь человечеству…»[246]
– Я пишу прозу. Болел, было трудно, сейчас вникать в ужас процесса страшно, я на год опять буду выбит из работы[247]. – Мне рассказывали о процессе, о Президиуме ССП (25.I) – Сельвинский, Пильняк, – но все скользило мимо как-то… – Я какой был, такой и останусь – и это скажу везде…
– Мои впечатления – Пастернак вновь и вновь упорствует, уходит в сторону, недоговаривает… Легко берет назад ряд своих слов… В письме писал: (27. I)[248]: «братоубийственная борьба…» «Ну, не братоубийственная…».
(Вишневский Вс. О беседе с Пастернаком [по поручению партийной группы ССП] // Пастернаковский сборник. Вып. 1. С. 456–457)
15 ноября 1937 г. Пастернаку тяжело – у него постоянные ссоры с женой. Жена гонит его на собрания, она говорит, что Пастернак не думает о детях, о том, что такое его замкнутое поведение вызывает подозрения, что его непременно арестуют, если он и дальше будет отсиживаться. Он слушает ее, обыкновенно очень кротко, потом начинает говорить: он говорит, что самое трудное в аресте его для него – это они, оставшиеся здесь. Ибо им ничего не известно и они находятся среди нормальных граждан, а он будет среди таких же арестованных, значит, как равный, и он будет все о себе знать… Но он, даже несмотря на это, не может ходить на собрания только затем, чтобы сидеть на них. Он не может изображать из себя общественника, это было бы фальшиво…
(Афиногенов А.Н. Из дневника 1937 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 268)
29 августа 1936 г. 25 августа состоялось заседание президиума ССП, на котором обсуждался приговор Верховного Суда над троцкистско-зиновьевским центром. Из беспартийных на нем выступали В. Инбер, Леонов, Ромашов, Погодин, Луговской, Олеша и Тренев.
В. Инбер признала свое выступление на митинге плохим, сказала, что она является родственницей Троцкого и потому должна была особенно решительно выступить с требованием расстрела контрреволюционных убийц.
Остальные писатели единодушно выразили свое одобрение приговору Верховного Суда.
Следует, однако, отметить как плохое выступление Олеши; он защищал Пастернака, фактически не подписавшего требование о расстреле контрреволюционных террористов, говоря, что Пастернак является вполне советским человеком, но что подписать смертный приговор своей рукой он не может.
Зам. зав. отделом культпросветработы ЦК ВКП(б) А. Ангаров
Зав. сектором литературы В. Кирпотин
(Из докладной записки отдела культурно-просветительской работы ЦК ВКП(б) секретарям ЦК ВКП(б) об обсуждении писателями приговора по делу так называемого Троцкистко-зиновьевского центра // Власть и художественная интеллигенция. С. 318–321)
Мне трудно выступать. Что сказать? Можно сказать так, что потом опять начнется плохое. Меня будут ругать. Не поймут. И опять на такое долгое время я перестану работать. Жена упрекает меня в мягкотелости. Но что мне делать? Кому нужно мое слово, я бы мог рассказать о встрече с Пятаковым, Радеком, Сокольниковым у Луначарского. Они упрекали меня в мягкотелости, в нерешительности, в отсталости от жизни, в неумении перестроиться. Они слегка презирали меня. А я невзлюбил их за штампы в мыслях и разговоре.
(Афиногенов А.Н. Из дневника 1937 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 261)
Позже, во второй половине января 1937 г., когда снята была подпись Бухарина как ответственного редактора «Известий» и когда по ходу процесса Радека – Пятакова и других стало ясно, что дела Н.И. [Бухарина. – А.С.-К.] плохи, Борис Леонидович вновь прислал Н.И. коротенькое письмо, как ни странно – незадержанное. Он написал: «Никакие силы не заставят меня поверить в ваше предательство». Он также выражал недоумение по поводу происходящих в стране событий. Получив такое письмо, Н.И. был потрясен мужеством Б.Л. Пастернака, но чрезвычайно озабочен его дальнейшей судьбой.
(Ларина (Бухарина) А.М. Незабываемое. М., 2003. С. 360)
Вчера, вернувшись домой, нашел 1-й экземпляр [ «Второго рождения». – Примеч. авт. – сост.] из издательства и в ужас пришел. Открывающая сборник вещь «Волны» оказалась посвященной – Бухарину! Весной стали выходить «Известия» под его редакцией. Я в таком восхищеньи был от нового вида газеты, что все хотел это Бухарину выразить. В то время я «Вт. Рожд.» к изданью подписывал. Тогда я сгоряча надписал ему вещь, никакого отношенья к нему не имеющую, страшно личную!! И об этом забыл!!! Вот какие иногда делаешь глупости.
(Б.Л. Пастернак – Р.Н. Ломоносовой, 23 октября 1934 г.)
Как мы вскоре узнали, Бухарин находился под домашним арестом. Пока шло следствие, «Известия» цинично подписывались именем приговоренного к смерти[249].
(Фрейденберг О.М. [Воспоминания] // Пастернак Б.Л. Пожизненная привязанность: переписка с О.М. Фрейденберг. С. 208)
Вредительские попытки врага партии и народа, правого отщепенца Бухарина в его книге «Этюды» и на Первом всесоюзном съезде писателей принизить и зачеркнуть творчество Маяковского и выдвинуть за счет него творчество Пастернака и Сельвинского – биты. Советская поэзия развивалась и будет развиваться в русле большевистских политических идей, реалистического метода и широкой народной формы. Драться за этот ее путь со всеми явными и скрытыми врагами социалистического искусства – почетное право и первейшая обязанность советской литературной критики.
(Тарасенков А.К. Письмо в редакцию // Знамя. 1937. № 6. С. 285)
Достраивались эти писательские дачи, которые доставались отнюдь не даром: надо было решить, брать ли ее, ездить следить за ее достройкой, изворачваться, доставать деньги. В те же месяцы денежно и принципиально решался вопрос о новой городской квартире, подходило к концу возведенье дома, начиналось распределение квартир.
Все эти перспективы так очевидно выходят из рамок моего бюджета и настолько (раза в три) превышают мои потребности, что во всякое время я бы отказался от всего или, по крайней мере, от половины и сберег бы время, силы и душевный покой, не говоря о деньгах. Но на этот раз, по-видимому, серьезно собираются возвращаться наши. Папе обещают квартиру, но из этого обещанья ничего не выходит и не выйдет. Надо их иметь в виду в планировке собственных возможностей.
Я страшно хочу жить с ними, как хотел бы, чтобы ты приехала ко мне, т. е. хочу этого для себя, как радости, но совсем не знаю, лучшее ли бы это было из того, что они могли бы сделать, для них самих[250].
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 1 октября 1936 г.)
Ваше существованье придало бы смысл целому ряду материальных облегчений, которые предвидятся у меня и пока осмыслены недостаточно. По-видимому, я с этого лета получу под Москвой отдельную дачу в писательском поселке, а осенью (в обмен на Волхонку) – и квартиру. Я об этом раньше не заговаривал потому, что все последние четыре года провел в обещаньях такого рода и ни во что не верю. Но именно в согласии с этой душевной тенденцией я и твержу все время: переезжайте. А там увидим, вместе увидим.
(Б.Л. Пастернак – родителям, 1 мая 1936 г.)
Тетя, напишите папе и маме. Как поймут они меня, если я, сын, стану их отговаривать. Ни разу я в этом отношеньи им ничего не рекомендовал. Вот границы, в которых, не расходясь с правдою, я звал их и продолжаю звать в последнее время: я пишу им, что их приезд был бы счастьем для меня и что я всегда готов разделить с ними ту жизнь, в какой они меня застанут, и большей радости для себя не знаю. В глубине души я не верю в их приезд.
(Б.Л. Пастернак – А.О. Фрейденберг, 7 октября 1936 г.)
Около полутора месяцев у меня лежит папино письмо из Лондона (от 14-го X), рядом с ним – два неоконченных ответа. Главное, что требовало в нем ответа и что я мог сообщить и тогда уже, касается новой квартиры. Деньги я за нее внес, и она вам обеспечена.
Однако этот факт, как он ни приятен, лишен для вас какой бы то ни было обязательности. Он ни в какой мере не должен влиять на ваши решенья. Эти разговоры тянутся так долго, что за это время у вас могло измениться настроенье. Не считайте себя связанными ни мною, ни кем бы то ни было еще.
Что из меняющегося и изменившегося за эти месяцы остается неизменным? Что для меня высшей радостью был бы ваш приезд ко мне. Но ни это желанье мое быть с вами, ни имеющаяся про запас квартира, ничто, ничто такое не должно направлять твоих, папа, планов. Ты можешь всем этим воспользоваться, если твое решенье готово, решать же ты должен из тех соображений, что ты ничем никому не обязывался и слишком много, честно и превосходно поработал на своем веку на светлом и почетном поприще, чтобы иметь право на вполне человеческий и ничем не омраченный покой, там, где ты его найдешь, и такой, какого ты пожелаешь<…>. Ах, великая штука история. Читаю я тут 20-томный труд Ж. Мишле, Histoire de France[251]. Сейчас занят шестым томом, падающим на страшную эпоху Карла VI и VII, с Жанной д’Арк и ее осужденьем и сожженьем. Мишле страницы за страницами приводит из первоисточников, из «Chronique de Charles VI», современника и деятеля эпохи, prevt des marchands Juvenal des Ursins[252]. Где теперь этот Juvenal, кто скажет, а вот я читаю его хронику, которой полтысячи лет, и волосы подымаются дыбом от ужаса. Славен[253] современник, запечатлевший пережитое, пусть и насидевшийся в тюрьме Tour de Nesle и потому могущий показаться всяким циникам наивным Митрофанушкой. Нет и римского Ювенала – что это привязался я к ним[254].
(Б.Л. Пастернак – родителям, 24–25 ноября 1936 г.)
Дорогой Борис Леонидович, когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват – для благодарности не найдешь слов.
Я хочу, чтобы Ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, рвалась дальше к миру, к народу, к детям…
Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это «все» – еще «не все».
(О.Э. Мандельштам – Б.Л. Пастернаку, 2 января 1937 г. // Мандельштам О.Э. Собрание сочинений. Т. 4. С. 174)
29-е я всегда помню, потому что это (29/I) день смерти Пушкина. А в нынешнем году это, кроме того, и столетняя годовщина его смерти. По этому случаю у нас тут большие и очень шумные торжества. Стыдно, что я в них не принимаю участия. Но в последнее время у меня было несколько недоразумений, т. е. меня не всегда понимают так, как я говорю и думаю. Общих мест я не терплю физически, а говорить что-нибудь свое можно лишь в спокойное время. И если бы не Пушкин, меня возможности превратных толкований не остановили б. Но на фоне этого имени всякая шероховатость или обмолвка показались бы мне нестерпимыми по отношенью к его памяти пошлостью и неприличьем.
(Б.Л. Пастернак – родителям, 12–22 февраля 1937 г.)
26 июня 1937 г. Пастернак. На Пушкинском пленуме меня все время раздражало сравнение наших поэтов с Пушкиным… Этот стоит ближе к Пушкину, этот дальше… Это как если бы мы начали сравнивать рост нормального человека с километром и говорить: в нем одна пятисотая километра… Так не делают, так не надо сравнивать нас с Пушкиным, явлением необычайным и несравнимым.
(Афиногенов А.Н. Из дневника 1937 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 262)
Сейчас, когда в смертельной схватке с врагами, с диверсантами и шпионами, агентами фашизма, советский народ строит невиданное в истории социалистическое общество, <…> ему нужно слово, вдохновляющее его на подвиг, ему нужно слово, согревающее его, ему нужно слово, подобно пуле настигающее врага и разящее его в самое сердце. И в это время ему подсовывают Б. Пастернака, который ничего не хочет знать, ничем не хочет интересоваться, который прожил немалую жизнь, пройдя мимо величайших событий как равнодушный наблюдатель, брезгливо отряхивая их пыль со своих ног <…>. Не будем юродствующему поэту объяснять, что только при социализме поэзия становится подлинным достоянием миллионных масс, понятной и любимой миллионами. Пастернак говорит, что вакансия поэта при социализме становится слишком опасной. Да, совершенно верно, его вакансия, вакансия реставратора буржуазного декаданса, в нашем советском искусстве становится опасной, потому что советский народ уже дорос до понимания, кто друг, кто враг, даже в такой тонкой области, как поэзия.
(Алтаузен Дж. Не отставать от жизни: из речи на IV (Пушкинском) Пленуме правления Союза писателей // Литературная газета. 1937. 26 февраля. № 11(647). С. 5)
Пусть мне не говорят о сумбурности стихов Пастернака. Это – шифр, адресованный кому-то с совершенно недвусмысленной апелляцией. Это – двурушничество. Таким же двурушничеством богаты за последнее время и общественные поступки Пастернака. Никакой даровитостью не оправдать его антигражданских поступков (я еще не решаюсь сказать сильнее). Дело не в сложности форм, а в том, что Пастернакрешил использовать эту сложность для чуждых и враждебных нам целей.
(Петровский Дм. Из речи на IV (Пушкинском) Пленуме правления Союза писателей // Правда. 1937. 25 февраля. № 55(7021). С. 6)
24 февраля 1937 г. Вчера днем был на «пушкинском» пленуме. Джек Альтаузен произнес гнусную речь о Пастернаке, связывая его политически с Бухариным. Еще отвратительней выступил хороший поэт Дмитрий Петровский (Альтаузен – никакой поэт). Он назвал Пастернака двурушником, «сознательно пишущим шифрованные стихи, обращенные к врагам».
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 250)
Как раз ввиду того, что за последнее время, – я в этом сам виноват, некоторые мои слова вели к неясности, – я воздержался от участия в пушкинских торжествах. Мне казалось кощунством в отношении этого имени, этой темы подвергать ее в моих устах какой-либо превратности выражения. Это было бы пошлостью, это было бы неприличьем, от которого бы я никогда не отмылся. <…> Если в этом имеется какое-то сомнение и если это нуждается в каком-то оглашении, то я должен вам заявить или напомнить, что я весь, всеми помыслами, всем разумением с вами, т. е. со страной и c партией, – и это только по той автоматической очевидности, по которой чем больше человек любит жизнь, тем больше любит родину, и не только по внушениям долга, который даже при малейшем нравственном уровне каждому человеку доступен, а это так еще и по вольному выбору, если бы он еще требовался тут, если бы он был необходим <…>…Не только намеренных двусмысленностей, но и таких провалов последнего сорта, которые бы давали повод для двусмысленного понимания и в неумышленном плане, – я за собой не помню. Вообще двусмысленности при настоящей любви к искусству немыслимы. Если в других областях возможно какое-то вредительство, то здесь это изуверское самокалечение и самовредительство. Как можно собственную мысль, о которой заботишься как о ребенке, калечить, скрывать, вуалировать? Если нужно что-нибудь скрывать, тогда человек не пишет, не говорит, а если он пишет и говорит – он высказывает какую-то мысль. <…> Важно, чтобы у самого художника не было разлада со своим делом, чтобы он мог без стыда смотреть в глаза настоящей преемственности, о которой мы говорили, не преемственности формальной, но преемственности исторической, преемственности большого жизненного примера…
(Пастернак Б.Л. Выступление на IV (Пушкинском) Пленуме правления Союза писателей 26 февраля 1937 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 5. С. 240–244)
24 сентября 1937 г. Пастернак… Полная отрешенность от материальных забот. Желание жить только искусством и в его пульсе. Может говорить об искусстве без конца. Сегодня пришел к нему поздно – вся дача в огнях, никто не откликается, – оказывается, к нему пришел молодой поэт и они говорили о стихах – сидя за пустым столом, ни чая, ни вина, – и свет он забыл погасить в других комнатах, где засыпали дети, – он сидел, как всегда, улыбающийся, штаны были продраны на коленке – все равно ему, лишь бы мысли были целы и собранны. Но днем – идя купаться, он убежал от нас в кусты и оттуда показывал на стаи журавлей в небе, желая отвлечь внимание от дырки на коленке, – как будто с такого расстояния можно было что-либо заметить…
Он ненавидит поездки в город, ему бы поскорее к письменному столу, за лист бумаги, сесть и писать, писать и думать и разговаривать с собой – и зачем думать о деньгах на следующий месяц, когда они есть на сегодня, – значит, можно не думать о них и только о любимой своей работе.
Эта отрешенность от всего остального – от газет, которых он никогда не читает, радио, зрелищ, ото всего – кроме своего мира работы – создает ему такую жизнь, которой не страшны никакие невзгоды…
(Афиногенов А.Н. Из дневника 1937 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 265)
Я никогда не была материалисткой. Опять сходная черта с Борей. Он всю жизнь помогал людям. Постоянно на его иждивении жили его первая жена с сыном, наравне с ней – Н.А. Табидзе, Ахматова, дочь Марины Цветаевой Ариадна и сестра Марины – Ася, Стасик. Я никогда не осмеливалась протестовать. Боря пользовался в этих делах полной свободой и всегда меня благодарил за нее. <…> Знакомые и друзья <…> осуждали меня за недостаточную заботу о внешнем виде Бори. На самом деле мне удавалось купить для него новые вещи лишь тогда, когда он бывал в больнице или отъезде. Я выбрасывала все его рваные костюмы и покупала новые заочно, но, возвращаясь, он не только не благодарил меня, а скорее упрекал.
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 404)
20 марта 1937 г. Позавчера поехал в Переделкино. Разыскал участок Бори. Застал дома. Очень славно провел время. Много и подробно Борис рассказывал о пленуме[255], о разговорах со Ставским, о многочисленных советчиках перед выступлением, о <поведении> Яшвили[256], о заключительных встречах с Алтаузеном и Петровским. К счастью, Боря чувствует себя очень здоровым. Даже Зина удивляется – ничто его не берет. Видимо, сказывается жизнь за городом, работа над прозой[257]. Прозу эту он мне читал вечером, после обеда и отдыха. Проза отличная – интересная и сюжетно и тем, что здесь Боря очень правильно регулирует свои изобразительные возможности. Вовремя умеет сдержать их, убрать и дать там, где они выступают на первый план, [1сл. нрзбр] их потрясающ<ий>. В общем, это большая и, видимо, имеющая все основания закончиться, выполниться во весь рост вещь. Боря сам очень горячо, уверенно к ней относится. Ему самому и нравится и хочется над ней работать. Читал он у себя в комнате – огромной, застекленной, с близко подошедшими к окнам соснами, за маленьким столиком с керосиновой лампой. Я сидел на дачном соломенном кресле. Давно не получал я такого художественного удовлетворения.
(Из дневника С.Д. Спасского (1933–1941) // Пастернаковский сборник. Вып. 1. С. 427–428)
Люди почти все оказались не теми. Один Пастернак развернулся передо мной во всей детской простоте человеческого своего величия и кристальной какой-то прозрачности. Он искренен до предела – не только с самим собой, но со всеми, и это – его главное оружие. Около таких людей учишься самому главному – умению жить в любых обстоятельствах самому по себе[258].
(Афиногенов А.Н. Из дневника 1937 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 264–265)
Конечно, Пастернак не может отвечать за то, что о нем думает Бухарин, как и за то, что мечтал увидеть в нем Андре Жид. Поэт далеко не всегда таков, каким его видит исследователь и критик, особенно изолгавшийся, лицемерный, коварный враг, как Бухарин. Тяготение Бухарина к Пастернаку не означает тяготения Пастернака к Бухарину, идейной близости, связи. Нет, Пастернак не имеет родни. Он одинок, хотя не по-лермонтовски, как ему самому кажется. Его одиночество печально и тягостно. Он стоит на юру нашей литературы.
(Изгоев Н. Борис Пастернак // 1937. Октябрь. № 5. С. 251–252)
Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь, и воображал, что больше недостоин глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп[259].
(Пастернак Б.Л. Люди и положения)
Когда мне сказали это в первый раз, я не поверил. 17-го в городе мне это подтвердили. Оттенки и полутона отпали. Известие схватило меня за горло, я поступил в его распоряжение и до сих пор принадлежу ему. Не все, что я испытал под властью этого страшного факта, безысходно и смертоубийственно, – не все. Когда вновь и вновь я устанавливаю, что никогда больше не увижу этого поразительного лица с высоким одухотворенным лбом и смеющимися глазами и никогда не услышу голоса от переполнения мыслями обаятельного в самом звучании, я плачу, мечусь в тоске и не нахожу себе места. С тысячею заученных подробностей память показывает мне его во всех превращениях совместно пережитой обстановки: на улицах нескольких городов, в выездах в горы и на море, дома у Вас и дома у меня, в наших позднейших поездках, в президиумах съездов и на трибунах. Воспоминание ранит, доводит боль лишения до сумасшествия, бунтует упреком: за какую вину наказан я вечностью этой разлуки? Но случилось в первый же день, 17-го, что ее неотменимость очистила меня и свела к неоспоримейшим элементарностям, как в детстве, когда наплачешься до отупения и от усталости вдруг захочется есть или спать. Силой этого удара меня отшвырнуло далеко в сторону ото всего городского, не по праву громкого, без надобности усложненного, взвинченно равнодушного, красноречиво пустого. «Что за вздор», – вновь и вновь спрашивал я себя. Паоло? Этот Паоло, которого я так знал, что даже не разбирал, как его люблю, Паоло, имя моего наслаждения, и все то, что с серьезным видом может сообщить средний человек А. или средний человек В., через минуту забываемый. А, это для будущего, подумал я. Умереть все равно каждому надо, и притом в какой-нибудь определенной обстановке. Вот и скажут: эта потомством сохраненная жизнь кончилась летом 37-го года…
(Б.Л. Пастернак – Т.Г. Яшвили, 28 августа 1937 г.)
Пастернака я знаю много лет… Когда однажды приехали к нему за подписью под письмом от Союза писателей с требованием расстрела Тухачевского и компании, Пастернак прятался, чтобы не подписать этого письма, и говорил мне: «Это насилие над душами», – и тут же спрашивал, не пойду ли я к жене Эйдемана выразить ей свое сочувствие.
(Тюремные показания Б. Пильняка // Шенталинский В.А. Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. М., 1995. С. 202)
В 1937 году я забеременела. Мне очень хотелось ребенка от Бори, и нужно было иметь большую силу воли, чтобы в эти страшные времена сохранить здоровье и благополучно сохранить беременность до конца. Всех этих ужасов оказалось мало. Как-то днем приехала машина. Из нее вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным «преступникам» – Тухачевскому, Якиру и Эйдеману. Первый раз я увидела Борю рассвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват, и кричал: «Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнью людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!» Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. На это он мне сказал: «Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет».
Тогда я удивилась его жестокости, но пришлось, как всегда в таких случаях, ему подчиниться. Он снова вышел к этому человеку и сказал: «Пусть мне грозит та же участь, я готов погибнуть в общей массе», – и с этими словами спустил его с лестницы.
Слухи об этом происшествии распространились. Борю вызвал тогдашний председатель Союза писателей Ставский. Что говорил ему Ставский – я не знаю, но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко и у него как гора с плеч свалилась. Несколько раз к нему приходил Павленко, он убеждал Борю, называл его христосиком, просил опомниться и подписать. Боря отвечал, что дать подпись – значит самому у себя отнять жизнь, поэтому он предпочитает погибнуть от чужой руки. Что касается меня, то я просто устала укладывать его вещи в чемодан, зная, чем все это должно кончиться…
Ночь прошла благополучно. На другое утро, открыв газету, мы увидели его подпись среди других писателей! Возмущению Бори не было предела. Он тут же оделся и отправился в Союз писателей. Я не хотела отпускать его одного, предчувствуя большой скандал, но он уговорил меня остаться… Приехав из Москвы в Переделкино, он рассказал мне о разговоре со Ставским. Боря заявил ему, что ожидал всего, но таких подлогов он в жизни не видел, его просто убили, поставив его подпись.
На самом деле его этим спасли. Ставский сказал ему, что это редакционная ошибка. Боря стал требовать опровержения, но его, конечно, не напечатали.
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 295–296)
Я еще раз обращался к Сталину. В тридцать седьмом году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли и ко мне. Я отказался дать подпись. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец. Он испугался, что его обвинят в том, что он недосмотрел, что Союз – гнездо оппортунизма, и что расплачиваться придется ему. Меня начали уламывать, я стоял на своем. Тогда руководство Союза приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел домой.
Дома меня ждала тяжелая сцена. З.Н. была в то время беременна Лёней, на сносях, она валялась у меня в ногах, умоляя не губить ее и ребенка. Но меня нельзя было уговорить. Как потом оказалось, под окнами в кустах сидел агент и весь разговор этот слышал…
В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Давно я не спал так крепко и безмятежно. Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг.
Друзья и близкие уговаривали меня написать Сталину. Как будто у нас с ним переписка, и мы по праздникам открытками обмениваемся! Все-таки я послал письмо. Я писал, что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя я считаю не вправе быть судьей в жизни и смерти других людей. Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали.
(Запись от 7 сентября 1958 г. // Масленикова З.А. Борис Пастернак: Встречи. С. 75)
В Переделкине Фадеев иногда, напившись, являлся ко мне [Пастернаку. – Примеч. авт. – сост.] и начинал откровенничать. Меня смущало и обижало, что он позволял себе это именно со мной… Фадеев лично ко мне хорошо относится, но, если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует, хотя и потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком. Есть выражение «человек с двойной душой». У нас таких много. Про Фадеева я сказал бы иначе. У него душа разделена на множество непроницаемых отсеков, как подводная лодка. Только алкоголь все смешивает, все переборки поднимаются…
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 109)
Когда пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно, он кричал: «Когда кончится это толстовское уродство?»
(Б.Л. Пастернак – К.И. Чуковскому, 12 марта 1942 г.)
Распространялись слухи (об одном из них Б.Л. рассказал той же Люсе Поповой), будто при докладе документов, обосновывающих арест Б.Л., Сталин сказал: «Не трогайте этого небожителя…»
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. М., 1922. С. 159)
Одно хорошо – это зима в природе. Какой источник здоровья и покоя! Опять вернулся к прозе, опять хочу написать роман и постепенно его пишу[260]. Но в стихах я всегда хозяин положенья и приблизительно знаю, что выйдет и когда оно выйдет. А тут ничего не могу предвидеть и за прозою никогда не верю в хороший ее исход. Она проклятие мое, и тем сильней всегда меня к ней тянет. А больше всего люблю я ветки рубить с елей для плиты и собирать хворост. Вот еще бы только окончательно бросить куренье, хотя теперь я курю не больше шести папирос в день. Может быть, когда я напишу роман, это развяжет мне руки. Может быть, тогда практическая воля проснется во мне, а с нею планы и удача. А пока я как заговоренный, точно сам себя заколдовал. Жизнь своих на Тверском я разбил, что же с таким чувством и сознаньем сказать о своей собственной? И в общественных делах мне не все так ясно, как раньше, то есть я бездеятельнее, потому что не так в себе уверен. Вообще посмотришь, а здорового во мне или близ меня только одно: природа и работа. Та и другая пока поглощают меня всего, и неужели эта преданность им такой грех и преступленье, что меня за этим подкараулит какое-нибудь несчастье, и я не увижу ни вас, ни изменившейся Жениной жизни, ничего, ничего из того, что тревожит и поторапливает меня? Однако никакого выбора нет, и я живу верой и грустью; верой и страхом; верой и работой. Не это ли называется надеждой?
(Б.Л. Пастернак – родителям, 12 февраля 1937 г.)
19 октября 1937 г. Вчера ездил в Переделкино. Борю застал за работой. Он выглядит бодро и крепко. Накануне еще купался в реке. Увлекается холодными обтираниями, почти не курит. Рассказывал, что проза движется, хотя и очень медленно. Движется и вперед, и за счет расширения уже написанного. – Я счастлив, что я демобилизован и могу писать, что хочу. – Трезвый, окрепший, на него приятно смотреть. Рассказ о подписи[261]. Вспоминал и о делах материальных, но очень спокойно. – Все устроится. В город ехать не хочет. От дачи в восторге. – Тишина. Разговоры о текущих делах, о Паоло в частности. После обеда поспали часок. Затем чай и опять разговоры вдвоем.
(Из дневника С.Д. Спасского (1933–1941) // Пастернаковский сборник. Вып. 1. С. 428)
Я мог бы зарабатывать больше, я более деятельно мог бы хотеть, чтобы огромный и пустой мой дом в Переделкине так же походил на уютное и располагающее к себе человеческое жилище, как крохотная двухкомнатная Женина квартирка, изящная, чистая и просящаяся на полотно как interieur. Я мог бы меньше дичать, меньше отрываться от города, меньше времени тратить на лес и на реку, на чтенье многотомных историй, я мог бы вместо романа, который я пишу медленно и как можно лучше, отписываться более прибыльными пустяками и т. д. и т. д. Но очевидно во всем этом нет ничего рокового. Так, в настоящее время выбрал я, и если не сладка и незавидна Зинина участь по той трудности, которая падает на ее плечи… то меня эта ответственность не пугает, со мной должно быть трудно и не может быть легко. А если бы я меньше занимался заготовкой хвороста на зиму, меньше отдавал бы времени воздуху и природе (октябрь, по утрам заморозки, а я все еще купаюсь) и меньше читал бы Мишле и Маколея, я, может быть, не мог бы работать.
(Б.Л. Пастернак – родителям, 1 октября 1937 г.)
3 ноября 1937 г. Пастернак все еще ходит и купается. Это как символ, он каждый день очищает тело и душу вместе с ним, он сидит и мечтает, он читает на ходу своего Маколея, он – живой образец такого вот жизненного стоицизма… Но не аскетизма. Нет.
(Афиногенов А.Н. Из дневника 1937 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 267)
Когда вы утешаете Женю в отношении моих чувств, вы недалеки от истины. Часто вечерами, когда я заработаюсь, выйду на прогулку и потом в рассеянности возвращаюсь домой, мне кажется неестественным и странным, что я попадаю не к ним и слышу в доме не их голоса.
От этого ощущенья я не избавлюсь никогда, и так же как вы, то есть в той же расплывчатости и безо всякой определенности, надеюсь, что это когда-нибудь переменится. Я не могу представить себе это определенней, потому что для этого я должен был бы ненавидеть Зину или осуждать ее, а ни к тому ни к этому эта женщина, с животом на 7-м месяце с утра до вечера без работницы бьющаяся над самою черной работой, измученная всей предшествующей жизнью, а также и мною, мне поводов не дает. Напротив, в том значенье, какое, после всего, всем поколеньем везде пережитого, здесь, у меня, на пятом моем десятке, может еще иметь слово «любовь», я, конечно, люблю ее, не так легко, и гладко, и первично, как это может быть в нераздвоенной семье, не надсеченной страданьем и вечною оглядкой на тех, других, первых, несравненно более правых, считающих себя оставленными.
(Б.Л. Пастернак – родителям, 1 октября 1937 г.)
…Мальчик родился, милый, здоровый и, кажется, славный. Он умудрился появиться на свет в новогоднюю ночь с последним, двенадцатым ударом часов, почему по статистике родильного дома и попал сразу в печать как «первый мальчик 1938 года, родившийся в 0 часов 1 января». Я назвал его в твою честь Леонидом.
(Б.Л. Пастернак – родителям, 6 января 1938 г.)
Прошлой зимой, живя на даче, я медленно и понемногу писал роман. Его скука меня не отпугивала, а работа над ним доставляла удовольствие. С переездом в город на новую квартиру, рожденьем ребенка и множеством других перемен его пришлось оставить ради мелкой и быстрее окупающейся работы. Я об этом не жалею, потому что иногда полезно бывает забыться, оглушая себя чем-нибудь упорным, быстро чередующимся и почти ремесленным.
Я сейчас много перевожу, кого и что придется. Тут и какой-нибудь грузинский поэт или кто-нибудь из революционных немцев, и Верлен, и французские символисты, и Ганс Сакс XVI века, и кто-нибудь еще. Между прочим займусь и англичанами для одной антологии, еще не знаю кем, вероятно, Китсом, Байроном, может быть, Блеком, может быть, даже Спенсером.
(Б.Л. Пастернак – Р.Н. Ломоносовой, 14 апреля 1938 г.)
Я всегда думал, что люблю Тициана[262], но я не знал, какое место, безотчетно и помимо моей воли, принадлежит ему в моей жизни. Я считал это чувством и не знал, что это сказочный факт.
Сколько раз пировали мы, давали клятвы верности (тут присутствует, конечно, и бедный П<аоло>, думаете ли Вы, что я его когда-нибудь забуду!), становились на ходули, преувеличивали! Сколько оснований бывало всегда бояться, что из сказанного ничего не окажется правдой. И вдруг насколько все оказалось горячей, кровнее!
Как слабо все было названо! Как необычайна действительная сила этой неотступной, сосуще сумасшедшей связи!
Я вас часто вижу во сне, то Вас, то нас всех, то виденные вместе места в осложненном переплетенье с моими родными. Прошлой зимой, когда это было связано только с ужасом страданьем, я иногда просыпался в слезах и думал, что мне больно не моей собственной болью, а что я стал куском Вашего потрясенья и частью Вас самой, и оттого это так сильно.
(Б.Л. Пастернак – Н.А. Табидзе, начало ноября 1938 г.)
Зачем посланы были мне эти два человека?[263] Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.
(Пастернак Б.Л. Люди и положения)
Было 7 часов вечера, за окнами бушевала метель. Пастернак вошел в кабинет к Всеволоду Эмильевичу и долго не находил слов, чтобы выразить ему свое сочувствие[264].
– Все наладится, Всеволод Эмильевич, я уверен, что все наладится. Самое главное – это как-то пережить ближайшее время. У вас есть деньги, есть на что жить.
(Снежницкий Л.Д. Последний год // Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. М., 1967. С. 565)
В начале января 1938 года, на второй или на третий день после опубликования постановления о закрытии Театра им. Мейерхольда, я обедал у В.Э. и просидел до позднего вечера. Всеволод Эмильевич старался быть спокойным <…>. Когда звонил (не часто) телефон, то В.Э. бросался к нему так стремительно, словно чего-то ждал. Около семи вечера раздался звонок в передней, и через две двери я услышал громкий, баритональный, гудящий голос Пастернака. Он просидел недолго, но важно было, что он пришел. В.Э. почти по-детски обрадовался ему и сразу достал свои любимые зеленоватые хрустальные фужеры и бутылку настоящего «Шато-лароз». <…> Зашел разговор о том, что у В.Э. нет никаких сбережений и придется, наверно, продавать машину. На это Б.Л. почему-то весело сказал, что у него тоже нет и никогда не было сбережений. Коснулись откликов печати на закрытие театра, и я запомнил фразу Б.Л. о «заразительности безумия». После его ухода В.Э. оживился. Он назвал Пастернака настоящим другом и противопоставил его некоторым постоянным завсегдатаям дома, сразу исчезнувшим в эти дни с горизонта <…>.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 57–58)
Так вам нравится Лёнечка?[265] Коклюш у него стал было проходить и вдруг усилился. Надо бы его на дачу, но мы свою в Переделкине уступили другим и взамен (там же) взяли меньшую, а ее ремонтируют, сбивают полы и красят, вот и препятствия к переезду. Ведь ту, громадную, я взял в расчете на ваш приезд и потом, забывая о первопричине, все удивлялся, к чему такой манеж, непосильный и обширный. Теперь будет вдвое меньше, и не в лесу, а у поля, на солнце, для огорода будет лучше.
(Б.Л. Пастернак – родителям, 29 апреля 1939 г.)
Это – первое письмо, что я – по разным причинам, – в состояньи написать вам после смерти мамочки[266]. Она перевернула, опустошила и обесценила мою жизнь и разом, точно потянув за собой, приблизила к могиле. Сейчас я не могу рассказать о горьких странностях, которые стали твориться со мной и вокруг меня вслед за этим ударом[267].
Он меня в час состарил. Налет недоброты и хаотичности лег на все мое существованье, меня не оставляет рассеянная пришибленность и одуренье от горя, удивленья, усталости и обиды. Это мой траур, которого у нас не носят, и мои извещенья, которых у нас не дают. Все валится у меня из рук, и я ловлю себя на том, что, забываясь, кажусь себе папочкой, вскрикиваю и плачу, и чувством этого мнимого сходства притупляю остроту нашего непосильного нестерпимого разъединенья.
Дай Бог мира и счастья вам всем, вашим детям, домам и домашним. Не знаю, как благодарить тебя, – руки тебе целую за твою память, дорогая драгоценная Лида, чудная сестра моя, – я знаю, чего должно было тебе стоить в те часы вспомнить нас и написать сквозь это море слез.
Когда-нибудь, когда мы увидимся – (но что я говорю? нет мамы, которая была и есть все вы, все мы)…
Ну, прощайте. Живите, поддерживайте друг во друге жизнь, берегите папу, – милый, родной, мой замечательный отец, гордость моя и зависть навсегда, через годы и годы этой дикой бездонной разлуки, вечный пример мой, творческий, упоенный, несокрушимый…
(Б.Л. Пастернак – Л.Л. Слейтер, 10 октября 1939 г.)
Вчера мы ее хоронили (крематорий) – Боже мой, как это можно быть в состоянии писать это – бедные, родные мои вы тоже – но мы тут, где каждый предмет и каждая минута дня пропитана ею насквозь – бедный, бедный папочка!
(Л.Л. Слейтер – Б.Л. Пастернаку, 25 августа 1939 г. // Пастернак Б.Л. Письма к родителям и сестрам. С. 731)
Сегодня ровно два месяца, как мамочка скончалась… Душа все время плачет…
…Напряженное ожидание было – проснется, быть может, сейчас.
…Внезапная смерть, у меня на руках – мгновенно бросила меня в другой мир, и все прежнее сразу потеряло свой смысл и интерес, превратилось в одно ничто, – хотел вызвать к жизни – я звал, кричал. – Странное, непонятное, неизмеримое что-то, что мозг не в силах охватить. Уже это не была она…
(Л.О. Пастернак – Б.Л. Пастернаку, 23–29 октября 1939 г. // Пастернак Л.О. Записки об искусстве. Переписка. С. 788)
Ты нашел очень верные, подходящие для всех нас выражения нашей безмерной скорби в постигшей нас утрате дорогой мамы. Когда я писал тебе ответ и, между прочим, совет взять себя все же в руки, ибо у тебя еще малые дети, перед которыми у тебя долг взрастить их и поставить на ноги – получилось второе твое письмо с карточкой дорогого Лёнички, как бы подсказанное для моего успокоения, в котором сказано, что Лёничка напомнил тебе (единственный он) о святости и благородстве жизни.
(Л.О. Пастернак – Б.Л. Пастернаку, 18 ноября 1939 г. // Пастернак Л.О. Записки об искусстве. Переписка. С. 790)
«Гамлет»
«Гамлет» – не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения.
Б.Л. Пастернак
«Гамлет», перевод которого я вчерне закончил в августе и теперь переписываю набело – дикое по силе, бездонное и неиссякаемое утешенье. Это как если бы при нынешнем моем осиротеньи, в мою комнату перенесли большой консерваторский орган, и с утра до вечера я бы жил одним Бахом.
Кажется, перевод удался мне. О внешних его судьбах говорить рано и неинтересно. Разумеется, он не пропадет. Возиться же с Шекспиром – счастье ни с чем не соизмеримое.
(Б.Л. Пастернак – Л.Л. Слейтер и Л.О. Пастернаку, 4 ноября 1939 г.)
Ты получишь журнал с Гамлетом[268], если Зина исполнила мою просьбу и была на почте. Если у тебя будет время прочесть его, сделай это, не осложняя этого мыслью, всегда неприятной, что потом тебе придется писать о нем. Мне страшно бы хотелось, чтобы он понравился тебе и маме, и хотя я знаю, чем он вам не понравится, и хотя именно эти резкости или странности сглажены в редакции, предназначенной для Гослитиздатского изданья (но не для МХАТа!), и я мог бы дождаться его выхода, я послал тебе именно этот первоначально вылившийся и, по мнению некоторых, рискованный (я этого, конечно, не сознаю, это естественно) и даже неудачный варьянт. Кое-что из доделанного его, конечно, улучшает, – меня к концу торопили.
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 4 февраля 1941 г.)
По давнишнему убеждению критики, «Гамлет» – трагедия воли. Это правильное определение. Однако в каком смысле понимать его? Безволие было неизвестно в шекспировское время. Этим не интересовались. Облик Гамлета, обрисованный Шекспиром так подробно, очевиден и не вяжется с представлением о слабонервности <…>. В совокупности черт, которыми его наделил автор, нет места дряблости, они ее исключают. Скорее напротив: зрителю предоставляется судить, как велика жертва Гамлета, если при таких видах на будущее он поступается своими выгодами ради высшей цели.
(Пастернак Б.Л. Замечания к переводам из Шекспира // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 5. С. 75)
Он [Пастернак. – Примеч. авт. – сост.] возвращается к своей работе над Шекспиром:
– Я устал от переводов и, должно быть, несправедлив по отношению к тому, что мне дала эта работа. Материально она просто-напросто меня спасла, а когда-нибудь я пойму и то, чему я научился у этого гиганта… Самое удивительное в нем то, что он как поэт обладал непостижимой для нас внутренней свободой, хотя она и уживалась со множеством предрассудков и суеверий. Он верил в ведьм, но больше всего дорожил этой свободой, а мы не верим в ведьм, рассматриваем в микроскоп клетку, но не свободны ни в чем. Неправдивость нуждается в обиняках, а правда, естественно, немногословна. Самые короткие слова на свете: «да» и «нет». Я мечтаю о пьесе, ритм которой был бы так же естествен, как люди, говорящие «да» и «нет», а не «видите ли» или «знаете ли»…
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 158)
Когда я весной надеялся увидеться, повод был следующий: я должен был перевести Гамлета для Александринки, ты, наверное, догадываешься, по чьей просьбе[269]. Два или три раза я должен был поехать с ним посмотреть у вас его Маскарад, и все откладывал. Потом с ним случилось несчастье, а его жену зарезали[270]. Все это неописуемо, все это близко коснулось меня. Последние месяцы меня преследовал страх, как бы какая-нибудь случайность не помешала мне довести перевод до конца. <…> На днях я сдал перевод. Ставить его на правах первой постановки будут в Художественном театре. Я до последнего дня не верил, что театру это разрешат. Ставить будет Немирович-Данченко, 84-летний viveur[271] в гетрах со стриженой бородой, без единой морщинки. Перевод не заслуга, даже если он хорош. «C’est pas grand-chose»[272]. Но каким счастьем и спасеньем была работа над ним!
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 14 февраля 1940 г.)
В Пастернака Владимир Иванович [Немирович-Данченко. – Примеч. авт. – сост.] после первой же встречи просто влюбился. Помню, как в разговорах о нем он с какой-то несвойственной ему нежностью пытался имитировать характерную пастернаковскую интонацию, его манеру иногда отвечать собеседнику с какой-то уж слишком поспешной готовностью: «Да-да-да-да-да!..» – «А сам в это время уже совсем о другом думает, я же вижу. Прелестный!»
(Виленкин В.Я. Воспоминания с комментарием. М., 1991. С. 78)
Сегодня Пастернак читал три акта тем же и Немировичу-Данченко. Впечатление еще больше. И от него самого – тоже. Немирович сказал: «Великолепный перевод». Но тут же стал говорить о «мелочах», то есть о мешающем. Кажется, уже озабочен, как быть с Радловой[273] <…>. Пастернак к концу так устал, что уже как будто сам не понимал, что читает. Тогда прервали – в конце третьего акта. Очень был мил и всем понравился.
(Запись от 18 ноября 1939 г. // Виленкин В.Я. Воспоминания с комментарием. С. 77)
Я получил Ваше письмо на следующий день после моего знакомства с переводом Б.Л. Пастернака. Перевод этот исключительный по поэтическим качествам, это, несомненно, событие в литературе. И Художественный театр, работающий свои спектакли на многие годы, не мог пройти мимо такого выдающегося перевода «Гамлета» <…>. Ваш перевод я продолжаю считать хорошим, но раз появился перевод исключительный, МХАТ должен принять его.
(В.И. Немирович-Данченко – А.Д. Радловой // Немирович-Данченко В.И. Избранные письма: в 2 т. М., 1979. Т. 2. С. 672)
Я помню, что после чтения перевода «Гамлета» у Треневых мои родители говорили, что не нужно было бы давать этот перевод играть актерам – настолько хорошо его исполнил сам Пастернак, которому, по словам моего отца, так подходила роль Гамлета.
(Иванов Вяч. Вс. Перевернутое небо. Записи о Пастернаке // Звезда. 2009. № 8. С. 124)
Играть вы будете в данном случае поэта Пастернака. Шекспир останется в композиции драмы, в ее философских и психологических глубинах, в становлении страстей и т. д. Но жить актер словесно будет Пастернаком, а не Шекспиром. Если бы вы были англичане, вы жили бы словом Шекспира, здесь вы будете жить словом Пастернака.
(Немирович-Данченко В.И. Незавершенные режиссерские работы: «Борис Годунов» и «Гамлет». М., 1984. С. 153)
…Его [Немировича-Данченко. – Примеч. авт. – сост.] смущало у Пастернака, кое-где даже в самых драматических местах, подчеркнутое снижение стиля, почти разговорное просторечие. А что-то казалось ему, наоборот, чрезмерно изысканным или уж очень сложным, что-то слишком «русопятым». Пастернак охотно, даже как-то слишком легко, мне казалось, с ним соглашался и был с самого начала явно готов к дополнительной работе. Я был выбран в качестве некоего посредника между ним и театром и потому, что представлял в «шекспировском штабе» Литературную часть, и еще, конечно, потому, что Владимир Иванович отлично знал мою любовь к Пастернаку, был уверен, что я просто не смогу нанести ему какую бы то ни было травму. И вот зимой 1940 года наступило для меня то блаженное время, когда я встречался с ним, со своим кумиром, почти регулярно, через день. Он приезжал из Переделкина рано утром, и я бежал в театр к этому необычному часу, каждый раз как на счастливое свидание <…>. Однако положение мое бывало иногда очень трудным. К продуманным и в большинстве случаев вполне обоснованным возражениям Владимира Ивановича вскоре стали прибавляться многочисленные «рекламации» уже репетировавших «Гамлета» актеров, которые В.Г. Сахновский[274] принимал иногда с излишней широтой, да и сам он далеко не всегда бывал прав в своих требованиях. Перевод Пастернака вообще воспринимался актерами с трудом, а у некоторых даже вызывал протест – один Ливанов[275] был его безоговорочным, горячим энтузиастом. Конечно, я все проверял по оригиналу, отсеивал в критических замечаниях случайное, непродуманное, преходящее, но все-таки мучился тем, что мне приходится передавать Пастернаку и такие возражения, с которыми я сам согласиться не мог. Но он принимал это все необыкновенно кротко. Разве что в ответ на какую-нибудь уже совершеннейшую чепуху вдруг застонет: «Господи, какие дураки!..» – или еще что-нибудь бросит ироническое. Но иногда он мог и вскинуться, не на меня, конечно, он мое положение понимал прекрасно, а вообще на «отсутствие уха у театральных». Большинство же поправок он вносил с полной готовностью…
(Виленкин В.Я. Воспоминания с комментарием. С. 79–80)
Свой день рожденья (в смысле примет) я провел необычайно и вне дома[276]. Я удрал из дому в Камергерский[277] с рукописями и весь день провел в директорском кабинете, дописав, наконец, к вечеру, что мне было нужно, тут же в театре, а вечером пошел на Шопеновский вечер пианиста Софроницкого, женатого на той Ляле Скрябиной[278] (дочери Веры Ивановны), которая была одной из крошек на даче в Оболенском…
(Б.Л. Пастернак – Л.О. Пастернаку, 14 февраля 1940 г.)
Владимир Иванович. [Немирович-Данченко. – Примеч. авт. – сост.] Должен сказать, что у меня нет уверенности в том, что то, что я говорил в первой беседе по поводу текста, проводится как следует… Боюсь, что это было только прослушано с большим вниманием, и убежден, что как было, так и прошло.
В.Г. Сахновский. Нет, все время идет работа в этом направлении.
В.Я. Виленкин. На протяжении нескольких месяцев была проделана большая работа, в результате которой Пастернак внес массу поправок не только в сценический экземпляр, но и в книгу. Я чувствовал преграды, через которые я пробиваюсь. Были случаи, когда Б.Л. деликатно, но твердо говорил: «Тогда не меня надо было приглашать…»
Владимир Иванович. Он говорит: «Офелия – отрада». Почему?
В.Я. Виленкин. Пастернак говорит, что Шекспиру нужно, чтобы Гамлет выразился здесь необычно. Я не вижу намерения или желания у Пастернака подмять под себя Шекспира.
Владимир Иванович. Вы несправедливо его защищаете. У него Гамлет даже говорит Офелии какую-то русскую поговорку: «час от часу не легче». Вероятно, ему здесь была нужна какая-то грибоедовская интонация, но зачем?..
(Стенограмма беседы с В.И. Немировичем-Данченко, 27 февраля 1943 г. // Виленкин В.Я. Воспоминания с комментарием. С. 80–81)
Как-то раз его [Б.Н. Ливанова. – Примеч. авт. – сост.] пригласили на один из обычных банкетов в Кремле, где должен был присутствовать сам Сталин. Во время банкета Сталин имел обыкновение выходить из-за стола и обходить всех гостей, приветствуя их и чокаясь бокалами. Когда он приблизился к столу, за которым сидел Ливанов, актeр спросил его: «Иосиф Виссарионович, как нужно играть Гамлета?» Он хотел, чтобы Сталин сказал хоть что-нибудь, пусть даже самое незначительное, чтобы это можно было унести с собой под мышкой и козырять этим повсюду. Как выразился Пастернак, если бы Сталин сказал «Сыграйте его лилово», Ливанов бы потом говорил актерам, что их игра недостаточно лиловая, что Вождь дал насчет этого совершенно ясные указания – надо играть лилово. Лишь он один, Ливанов, был бы в состоянии понять, что имел в виду Вождь, так что режиссеру и всем остальным останется лишь повиноваться. Сталин остановился и сказал: «Вы артист? Артист МХАТа? Тогда обратитесь с вашим вопросом к художественному руководителю театра. Я не специалист по театральным делам». Затем, помолчав, добавил: «Однако, поскольку вы обратились с этим вопросом ко мне, я отвечу вам: “Гамлет” – упадочная пьеса, и ее не следует ставить вообще». На следующий же день репетиции были прерваны.
(Берлин И. Встречи с русскими писателями // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 504–505)
Уже тогда глухо поговаривали, что это было сделано[279] по личному указанию Сталина, т. е. не то чтобы Сталин прямо приказал не ставить – он просто выразил недоумение: зачем нужно играть во МХАТе «Гамлета»? Разумеется, этого было достаточно, чтобы репетиции немедленно остановились. Сталин был против «Гамлета», вероятно, потому же, почему он был против постановки «Макбета» и «Бориса Годунова», – изображение образа властителя, запятнавшего себя на пути к власти преступлением, было ему не по душе.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 146)
Мне вспоминается какой-то уже мимоходом упомянутый разговор по поводу «Гамлета» зимой у нас в Москве, когда за столом сидели мой отец, Ливанов и Борис Леонидович. Но Ливанов все время, не закрывая рта, говорил об Оскаре Уайльде, с процессом которого он только что познакомился, и у меня осталось впечатление, что Борис Леонидович за весь вечер почти ничего не успел вставить в ливановское словоизвержение.
(Иванов Вяч. Вс. Перевернутое небо. Записи о Пастернаке // Звезда. 2009. № 11. С. 116)
Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже. Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших Ливановых. Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля, из-за кладбища, пестрая как петух, бочком проглядывает церковь – кого бы клюнуть? Дрожит воздух над полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания. <…> Наконец опаздывающие являются. Она – оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что трудно было достать цветы. Он – огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глазищи: премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакий рубаха-барин. Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что сейчас вошли в моду. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. «Гамлет» шел в конце. Читая, он всматривался во что-то над нашими головами, видное только ему. Лицо вытягивалось, худело. <…> Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончивость ответа. Ливанов называл «Гамлета». Несыгранный «Гамлет» был его трагедией, боль эту он заглушал гаерством и куражами буффона.
- Гул затих. Я вышел на подмостки.
- Прислонясь к дверному косяку…
Ливанов сморкался. Еще более обозначались его набрякшие подглазья. Но через минуту он уже похохатывал, потому что всех приглашали вниз, к застолью. Спускались. Попадали в окружение, в голубой фейерверк испаряющихся натурщиц кисти его отца, едва ли не единственного российского художника-импрессиониста. О эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало. Стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в упоении грузинского ритуала. Хозяин он был радушный. Вгонял в смущение уходящего гостя, всем сам подавал пальто.
(Вознесенский А.А. Мне четырнадцать лет // Вознесенский А.А. Прорабы духа. М., 1984. С. 10–11)
Зимой 1940–1941 года папа часто брал меня с собой в театр. Он жил тогда в Переделкине и регулярно ездил во МХАТ на репетиции «Гамлета». Один раз мы смотрели «Шторм» в Театре Революции, ходили во МХАТ, где видели «Мертвые души» с Ливановым в роли Ноздрева. С мамой мы были на «Ромео и Джульетте» с Улановой во время гастролей Мариинского театра. Для папочки была огромным событием постановка «Гамлета» в Новосибирском театре «Красный факел». Право первой постановки по договору принадлежало МХАТу, но там дело затягивалось, время шло, и пьеса оставалась неизвестной публике. Поэтому интерес, который проявил к «Гамлету» Серафим Иловайский[280] в Новосибирске, очень радовал и поддерживал отца. У них завязалась переписка, В. Редлих был режиссером спектакля, а Иловайский играл Гамлета. Чтобы поделиться своей радостью, папа принес к нам на Тверской бульвар афишу, газету с отчетом о спектакле, фотографии и письма Иловайского.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания]// Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 417)
От перевода слов и метафор я обратился к переводу мыслей и сцен. Работу надо судить как русское оригинальное драматическое произведение, потому что, помимо точности, равнострочности с подлинником и прочего, в ней больше всего той намеренной свободы, без которой не бывает приближения к большим вещам.
(Пастернак Б.Л. Гамлет, принц Датский. От переводчика // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 5. С. 43–44)
Такое признание сразу же настраивает читателя на тревожный лад. Он хочет знать вполне точно границы той «намеренной свободы», которую позволил себе переводчик, «помимо» точности, «эквилинеарности», «эквиритмии» и прочих, по правде сказать, зачастую даже чрезмерных едва ли выполнимых требований, которые ставили себе взыскательные советские переводчики Шекспира. Конечно, все дело в том, как понимать эту «намеренную свободу», ибо если без нее «не бывает приближения к большим вещам», то в прошлое время у переводчиков Шекспира не бывало такого приближения и вместе с нею, и особенно благодаря ей.
(Алексеев М.П. «Гамлет» Бориса Пастернака // Искусство и жизнь. 1940. № 8. С. 14–16)
В № 5–6 1940 г. журнала «Молодая гвардия» напечатан «Гамлет» в переводе Бориса Пастернака. И в Москве, и на периферии страстные любители Шекспира (а таких у нас множество) с жадностью читали и перечитывали этот текст. И многие (мы это знаем из личных бесед) вынесли какое-то сбивчивое впечатление. Перевод сначала увлекал, радовал, заставлял по-новому поверить в жизненную правду великого произведения. Затем наступало разочарование: отдельные слова и обороты вызывали недоумение и досаду, порой даже раздражали. Только тем читателям, которые продолжали вчитываться в перевод, удавалось отделить ядро от шелухи, живую сущность от многочисленных отдельных изъянов и промахов. И тогда все крепче становилась уверенность, что перед нами замечательное произведение, но еще недоделанное, что текст, напечатанный в журнале «Молодая гвардия», – только первый вариант «Гамлета» в переводе Бориса Пастернака.
(Морозов М.М. «Гамлет» в переводе Бориса Пастернака // Театр. 1941. № 2. С. 144)
Новый перевод Бориса Пастернака тем и замечателен, что он органически вырастает из недр русского языка. Русский язык здесь как бы пробужден переводчиком для того, чтобы он повторил тот же гераклов труд, который некогда выполнил английский язык, подчинившись творческой воле Шекспира.
(Вильмонт Н.Н. «Гамлет» в переводе Бориса Пастернака // Интернациональная литература. 1940. № 7–8. С. 289)
Есть еще одна поучительная сторона в срывах Пастернака-переводчика. Из того же предисловия мы узнаем, что перевод первоначально был сделан «наедине с текстом и словарем», без привлечения уже имеющихся переводов. Что же оказалось? Рукопись «пестрела сходствами и совпадениями» с другими переводами. И автор забраковал свою работу, ввиду ее «малой оригинальности», обратившись (в погоне за большей оригинальностью, приходится уточнить) от перевода в точном смысле к «переводу мыслей и сцен». Какой искусственный и… спорный мотив вызвал, оказывается, к жизни вторую, окончательную редакцию перевода! Мастер слова отбрасывает свою уже сделанную большую работу на том основании, что в ней оказались (а разве могли не оказаться?) «совпадения» с работой других переводчиков (в течение сотни лет!). Можно ли сомневаться, что целый ряд ошибок нового перевода не был бы допущен, если бы не боязнь «малой оригинальности»? Этому примеру не должны следовать советские переводчики.
(Резцов Л. Принц Датский в новом освещении // Литературное обозрение. 1940. № 20. С. 55)
Пастернаку удалась также и лирически напряженная патетика – она передана с настоящим темпераментом, с большим размахом, превосходно оттеняющим характернейшие особенности оригинала; так переведен монолог Гамлета о Пирре[281]. Это – подлинная, исполненная предельного напряжения, неподдельной страсти патетика, и в этом монологе Гамлет говорит таким свободным, сильным, выразительным языком, что и здесь совершенно утрачивается ощущение, что перед нами всего только перевод, а не самобытное произведение большой поэтической значимости.
(Соловьев Б. В поисках «Гамлета» // Литературный современник. Л., 1940. № 12. С. 141–142)
Весной 1940 года Б.Л. читал «Гамлета» в клубе МГУ на улице Герцена. Это был открытый, афишный вечер. Вместе с Всеволодом Лободой, молодым поэтом, погибшим вскоре на войне, мы купили билеты. Приятно было после сравнительно большого перерыва услышать милое носовое гудение Б.Л. и его чтение с такими неожиданными ударениями. Он показался моложавым и бодрым. Но еще больше понравилась мне реакция переполненного зала – восторженная, чуткая, умная, интеллигентная. В большинстве это были студенты МГУ и ИФЛИ начала сороковых годов, чудо-поколение, неожиданно возросшее на лжи и крови конца тридцатых: поколение Кульчицкого, Майорова, Гудзенко, Слуцкого. Помню, как, придя домой, я записал в дневнике о своем удивлении перед чудесной аудиторией, разумеется, не предвидя исторической судьбы этого поколения, почти уничтоженного вскоре двумя войнами.
Лобода, мечтавший познакомиться с Пастернаком, уговорил меня зайти к нему в помещение за сценой. Б.Л. стоял посредине большой комнаты, окруженный девушками, и громко, увлеченно говорил им о Гёте, Гердере, Шекспире, а они, улыбаясь, смотрели на него (на Б.Л., когда он увлекался, трудно было смотреть без улыбки, так он всегда был непосредствен и чист в своем предположении, что остальным это так же интересно, как и ему). Он нас не заметил, и мы вышли на улицу. Только что кончилась первая летняя гроза. Вдали еще погромыхивало, а воздух был полон озоном, запахом молодых майских лип и гудением пастернаковских строчек.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 58–60)
Сегодня получил текст «Гамлета» Пастернака и изучаю его. Вернувшись, сделаю о нем доклад в Секции переводчиков и, может быть, где-нибудь напишу, ибо должен дать выход нахлынувшим чувствам. Странное произведение! С одной стороны, есть прекрасные места, вообще красивый стих, много поэзии и глубокого чувства, а с другой стороны – такая кустарщина, что становится стыдно. Перевод переполнен смысловыми ошибками и стилистическими дикостями. Временами начинает казаться, что П.<астернак> плохо знает русский язык или, по крайней мере, лишен чутья законов русского языка.
(А.А. Смирнов – Т.Л. Щепкиной-Куперник, 20 июля 1940 г. // Вопросы литературы, март – апрель 2013. № 2. С. 23–24)
В «свете» у нас Шекспиру моему не повезло <…>. В частности, особенно острый и продолжительный отпор оказан ему в Вашем лице, что, по совести говоря, мне совершенно непонятно. Легко предвидеть, что у Вас явится потребность разуверить меня в этом и Вы заговорите о недоразумениях и пр., но неужели я так прост и беден, чтобы нуждаться в такого рода беспоследственных любезностях? И расточая мне свои лестные выражения о «поэтической прелести», «праве большого поэта» и пр., Вы должны были подумать, как я невосприимчив к этим словам, даже в случае их горячей состоятельности, а тем более когда они ни к чему не обязывают и ничего не значат. Но я не в обиде на Вас, потому что по глупости преувеличиваю степень своего эгоцентрического счастья и не умею чувствовать ничего неприятного.
(Б.Л. Пастернак – А.А. Смирнову, 1 июля 1947 г.)
…У меня был с Пастернаком потрясающий обмен письмами, в результате которого возможность его участия в однотомнике решительно отпала. Когда-нибудь при свидании расскажу Вам, писать об этом неудобно, но скажу только, что все произошло во внешне очень вежливых формах. Думаю, что его звонок к Вам был искренним <…>, ибо он человек благородный и тонкий, только, к сожалению, немножко полоумный.
(А.А. Смирнов – Т.Л. Щепкиной-Куперник, 29 октября 1947 г. // Вопросы литературы. 2013. Март – апрель. № 2. С. 36–37)
Я думаю, что мы добьемся своего и увидим Тициана. Что касается моих собственных шагов для его разыскания, у меня план такой. Вы сами видели, как систематически меня отговаривали от вмешательства. Но не это останавливает меня. Я думаю, мне надо выждать некоторый промежуток времени после Ваших летних попыток, чтобы мои усилия не казались их продолжением и чтобы нам не утверждаться в неудачах. Если бы что-нибудь в общественном смысле изменилось в моей судьбе и на меня почему-либо обратили внимание, я, разумеется, немедленно этим воспользуюсь для близкой всем нам троим (с Зиной) цели, и первое мое слово будет о Тициане.
(Б.Л. Пастернак – Н.А. Табидзе, 16 сентября 1940 г.)
Нина, если нам суждено это счастье и Т. выпустят здесь, как Киру[282], у меня большая и горячая просьба к Вам. Приезжайте тогда сюда за ним и побудьте с ним немного у нас в Москве или здесь в Переделкине, с Зиною или со мной, и там и тут у Вас будет отдельная комната, сделайте это ради меня и Зины. Как я ни суеверен, Бога мы должны и можем поблагодарить, а значит, мне можно и поздравить Вас и крепко обнять Вас и Ниту. Но смиримся снова и вооружимся терпеньем.
(Б.Л. Пастернак – Н.А. Табидзе, 20 октября 1940 г.)
…Мой отец и сестры с семьями в Оксфорде, и Вы представите себе мое состоянье, когда в ответ на телеграфный запрос я больше месяца не получал от них ответа. Я мысленно похоронил их в том виде, какой может подсказать воображенью воздушный бомбардировщик[283], и вдруг узнал, что они живы и здоровы. Так же и Нина Т<абидзе> уехала в Тифлис без малейшей надежды узнать когда-нибудь что-нибудь о муже, а мне намекали даже, что нет уверенности, чтобы он был в живых, а теперь она написала мне, что он содержится в Москве и это установлено[284].
(Б.Л. Пастернак – А.А. Ахматовой, 1 ноября 1940 г.)
Мы с Зиной (инициатива ее) развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Лёничкой зимую на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе. Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепленье. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дом охолодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Зазеваешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живо и может умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов. А поездки в город, с пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным, ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду[285]! Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья (странным образом постигшего нас в последние месяцы), как еще рано сдаваться, как хочется жить.
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 15 ноября 1940 г.)
На ранних поездах
- Я под Москвою эту зиму,
- Но в стужу, снег и буревал
- Всегда, когда необходимо,
- По делу в городе бывал.
- Я выходил в такое время,
- Когда на улице ни зги,
- И рассыпал лесною темью
- Свои скрипучие шаги.
- Навстречу мне на переезде
- Вставали ветлы пустыря.
- Надмирно высились созвездья
- В холодной яме января.
- Обыкновенно у задворок
- Меня старался перегнать
- Почтовый или номер сорок,
- А я шел на шесть двадцать пять.
- Вдруг света хитрые морщины
- Сбирались щупальцами в круг.
- Прожектор несся всей махиной
- На оглушенный виадук.
- В горячей духоте вагона
- Я отдавался целиком
- Порыву слабости врожденной
- И всосанному с молоком.
- Сквозь прошлого перипетии
- И годы войн и нищеты
- Я молча узнавал России
- Неповторимые черты.
- Превозмогая обожанье,
- Я наблюдал, боготворя.
- Здесь были бабы, слобожане,
- Учащиеся, слесаря.
- В них не было следов холопства,
- Которые кладет нужда,
- И новости и неудобства
- Они несли как господа.
- Рассевшись кучей, как в повозке,
- Во всем разнообразьи поз,
- Читали дети и подростки,
- Как заведенные, взасос.
- Москва встречала нас во мраке,
- Переходившем в серебро,
- И, покидая свет двоякий,
- Мы выходили из метро.
- Потомство тискалось к перилам
- И обдавало на ходу
- Черемуховым свежим мылом
- И пряниками на меду.
Пастернак вышел из дома вместе со мной. По дороге он говорил, что на него очень действует весна. Всюду жизнь, парочки военных вместе с девицами. «Хочется достать часы и посмотреть – сколько еще осталось жить».
(Горнунг Л.В. Встреча за встречей: по дневниковым записям // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 88–89)
Я это пишу Вам, так как знаю, что это счастье когда-нибудь разделю с Вами и с Т<ицианом>, что мы как-нибудь вчетвером, с гостями еще когда-нибудь пообедаем всем пережитым, вкусно, в течение целой летней ночи или нескольких, и будем друг у друга гостить, счастливо, утомленно, отдохновенно!
Тициан жив и где-то совсем недалеко, и ждать остается все меньше и меньше. Т<ициан> – лицо коренное моего существованья, он бог моей жизни, в греческом и мифологическом смысле. Мне кажется, я не мог бы быть таким счастливым, так любить Вас, занимать такое место во времени и ждать еще так многого для себя впереди, если бы Т<ициан> еще не предстоял мне.
(Б.Л. Пастернак – Н.А. Табидзе, 27 декабря 1940 г.)
Ты говоришь, что я молодец, а между тем и я стал приходить в отчаянье. Как ты знаешь, атмосфера опять сгустилась. Благодетелю нашему кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны, и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью неподходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое, – Грозный, опричнина, жестокость[286]. На эти темы пишутся новые оперы, драмы и сценарии. Не шутя. Меня последнее время преследуют неудачи, и если бы не остаток какого-то уваженья в неофициальной части общества, в официальной меня уморили бы голодом. Ты сказала Ахматовой, будто я занят прозой. Куда там! Я насилу добился, чтобы несамостоятельный труд, который мне только и остался, можно было посвятить чему-нибудь стоящему, вроде «Ромео и Джульетты», а то мне предлагали переводить второстепенных драматургов из нацреспублик.
Жить, даже в лучшем случае, все-таки осталось так недолго. Я что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею. И все это остается невыраженным.
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 4 февраля 1941 г.)
23 мая 1941. Вчера был у Ахматовой. Занес книгу. Она выглядит хорошо. – Чувствую себя лучше, чем можно было бы ожидать. Разговор о поездке, о Москве[287]. О Боре. – Он произвел на меня очень горькое впечатление. Будто выбился из своего ритма. Бодрые фразы и совсем замученные глаза. Есть ли у него друзья в Москве? – Я говорил, что, по-моему, сейчас близких нет. Она – это, очевидно, в связи с семейными делами. О том, что зимой совсем было разошлись, а потом Зина испугалась, «приняла меры». Стихов он ей не читал. Сказал – мало. Вот будет потом много. А откуда он знает, что будет много? Я вот накануне ничего не могу сказать. – Потом опять вернулись к этой теме. – Он мне напомнил время, когда приехал из Парижа на грани помешательства и пришел ко мне сказать, что в Москву не хочет ехать. Не хочет видеть ни Женю, ни Зину. Хочет остаться здесь со мной. И теперь то же самое. «Я приеду в Ленинград, поселюсь рядом. Будем вместе, будем тихо весело работать». Когда он так говорит, это очень плохой признак. Значит, очень уж невмоготу дома. Поэму я читала у Фединых. Борис очень хорошо говорил: раньше ваша поэзия была оборонительная, а теперь плывет на читателя. Каждое слово хватает читателя. Каждое слово плавает в соке искусства. Очень по-пастернаковски сказал.
(Из дневника С.Д. Спасского (1933–1941) // Пастернаковский сборник. Вып. 1. С. 436)
…Впервые я увидел Пастернака мельком, перед самой войной, на лестнице Гослитиздата, помещавшегося тогда в Большом Черкасском переулке. Узнал я его мгновенно. Эренбург поделился с читателями своим впечатлением: когда в Париже Андре Жид впервые увидел Пастернака, то у Жида было такое выражение лица, как будто ему навстречу шла сама Поэзия. Разумеется, я не знаю, какое у меня в тот момент было выражение лица, но что я воспринял приближение Пастернака именно как приближение самой Поэзии – это я помню отлично. А ведь у Пастернака не было ничего от небожителя: и походка-то у него была косолапая, и гудел-то он, как майский жук, проводя звук через нос, произнося «с» с легким присвистом и вдруг срываясь на почти визгливые ноты, и смеялся-то он, обнажая редкие, но крупные лошадиные зубы, и держался-то с полнейшей непринужденностью, хотя и без малейшей развязности, без малейшего амикошонства даже с самыми близкими своими друзьями, но всегда и везде – как у себя дома.
(Любимов Н.М. Борис Пастернак: Из книги «Неувядаемый цвет» // Пастернак Б.Л. ППС. Т. 11. С. 609–610)
В годы войны
В чертогах смерти, видно, пир горой,
Что столько жертв она, не разбирая,
Нагромоздила.
У. Шекспир. Гамлет(Перевод Б.Л. Пастернака)
Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления… Ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы.
(Пастернак Б.Л. Доктор Живаго)
Я скучаю по тебе и всему разрушенному нашему до сумасшествия, и так как это одиночество посвящено тебе и вам, то я внутри ревниво вспыхиваю, когда мне его нарушают. Я мог бы, наверное, писать что-нибудь очень свое, и жалко, что недостаточно смел, чтобы на все плюнуть и приняться за это (ты не думай: с войною и всем нынешним, но сильно и правдиво, как мне подсказывают глаза и совесть). Тебя огорчит, что у меня пока всё неудачи. Но деньги некоторое время еще будут. Когда тебе не пишут, ты бушуешь, что тебя забыли, а когда тебе говорят, что ты Любушка и Ляля и что без тебя жить нельзя, ты досадуешь, что это только чувства, а не гонорар за несколько газетных фельетонов. Я страшно скучаю по тебе и почти плачу, когда пишу это. Сейчас я попал в такое же ложное и дурацкое положенье, как когда все получили ордена, а я нет, и ты была за меня в обиде и хотела писать Фадееву. Я знаю, что ты трудишься не покладая рук, и мне не стыдно, что я не могу перед тобой похвастать, что я так же усердно вру и получаю деньги за печатные пошлости, как ты работаешь в столовой. Ты знаешь, что я с таким же упоеньем работал бы рядом с тобой за дворника и что я со страстью и удачей тружусь над высокими материями вроде «Гамлета», когда творчество так же бесхитростно в своей силе, как топка печей или уход за огородом.
(Б.Л. Пастернак – З.Н. Пастернак, 11 августа 1941 г.)
7 июля 1941 года Пастернак сказал мне в Переделкине:
– Завтра уезжает в эвакуацию Марина Цветаева, вы не хотите поехать со мной и проводить ее?
Что за вопрос! Конечно, хочу.
8 июля 1941 года из Переделкина в Москву ехали поездом, до Речного вокзала трамваем. Мы увидели ее на площади, у спуска к пристани. Стояла она одна в окружении саквояжей и сумок. Мы подошли. Пастернак представил меня. Я успел заметить – на Марине кожаное пальто темно-желтого цвета, синий берет, брови домиком. Когда человека охватывает чувство тоски и страданья, брови его встают именно так – «домиком». Люди лихорадочно грузили свои вещи, везли на пароход, толкались, мешали друг другу. Как затравленная птица в клетке, Марина поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, ее глаза еще больше страдали.
– Боря! – не вытерпела она. – Ничего же у вас не изменилось! Это же 1914 год! Первая мировая.
– Марина! – прервал Борис Леонидович. – Ты что-нибудь взяла в дорогу покушать?
Она удивилась вопросу:
– А разве на пароходе не будет буфета?
– С ума сошла! Какой буфет! – почти выпалил Пастернак.
Я знал, что тут, поблизости, есть гастроном. Пошли вместе с Борисом Леонидовичем. Сколько могли унести в руках, столько и купили бутербродов с колбасой и сыром.
(Боков В.Ф. Собеседник рощ // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 362)
Война оторвала меня от первых страниц «Ромео и Джульетты». Я забросил перевод и за проводами сына, отправлявшегося на оборонные работы, и другими волнениями забыл о Шекспире. Последовали недели, в течение которых волей или неволей все на свете приобщилось к войне. Я дежурил в ночи бомбардировок на крыше двенадцатиэтажного дома – свидетель двух фугасных попаданий в это здание в одно из моих дежурств, – рыл блиндаж у себя за городом и проходил курсы военного обучения, неожиданно обнаружившие во мне прирожденного стрелка. Семья моя была отправлена в глушь внутренней губернии. Я все время к ней стремился. В конце октября я уехал к жене и детям, и зима в провинциальном городе, отстоящем далеко от железной дороги, на замерзшей реке, служащей единственным средством сообщения, отрезала меня от внешнего мира и на три месяца засадила за прерванного «Ромео»…
(Пастернак Б.Л. О Шекспире // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 5. С. 44)
Мы встретились на чердаке. Встретились Всеволод Иванов, и Бехер, и Уткин, и Голодный, и Борис Пастернак со спокойными глазами и каменными щеками, и много других людей.
(Шкловский В.Б. Жили-были. С. 432)
А вот он на крыше нашего высокого дома в Лаврушинском переулке, против Третьяковской галереи, ночью, без шапки, без галстука, с расстегнутым воротником сорочки, озаренный зловещим заревом пылающего где-то невдалеке Зацепского рынка, подожженного немецкими авиабомбами, на фоне черного Замоскворечья, на фоне черного неба, перекрещенного фосфорическими трубами прожекторов противовоздушной обороны, среди бегающих красных звездочек зенитных снарядов, в грохоте фугасок и ноющем однообразии фашистских бомбардировщиков, ползущих где-то вверху над головой.
Мулат ходил по крыше, и под его ногами гремело кровельное железо, и каждую минуту он был готов засыпать песком шипящую немецкую зажигалку, брызгающую искрами, как елочный фейерверк.
Мы с ним были дежурными противовоздушной обороны. Потом он описал эту ночь в своей книге «На ранних поездах».
«Запомнится его обстрел. Сполна зачтется время, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век. Исчезнут очевидцы…»
Не знаю, настал ли в мире лучший век, но очевидцы исчезали один за другим. Исчез и мулат – великий очевидец эпохи. Но я помню, что среди ужасов этой ночи в мулате вдруг вспыхнула искра юмора. И он сказал мне, имея в виду свою квартиру в самом верхнем этаже дома, а также свою жену по имени Зинаида и зенитное орудие, установленное над самым его потолком: «Наверху зенитка, а под ней Зинаидка».
Для него любая жизненная ситуация, любой увиденный пейзаж, любая отвлеченная мысль немедленно и, как мне казалось, автоматически превращались в метафору или в стихотворную строчку. Он излучал поэзию, как нагретое физическое тело излучает инфракрасные лучи.
(Катаев В.П. Алмазный мой венец // Катаев В.П. Трава забвенья. С. 203)
Третью ночь бомбят Москву. 1-ю я был в Переделкине, так же как и последнюю, с 23-го на 24-е, а вчера, с 22-го на 23-е, был в Москве на крыше <…> нашего дома, вместе с Всеволодом Ивановым, Халтуриным и другими в пожарной охране. <…> Сколько раз в теченье прошлой ночи, когда через дом-два падали и рвались фугасы и зажигательные снаряды как по мановенью волшебного жезла в минуту воспламеняли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой <…>. А кругом была канонада и море пламени.
(Б.Л. Пастернак – З.Н. Пастернак, 23 июля 1941 г.)
Анна Ахматова сидела, кутаясь в шаль, среди нагромождения овощей, величественная, словно богиня плодородия <…>. Через некоторое время в квартире появился Б. Пастернак, очень возбужденный. Он пришел после занятий в тире, где обучался стрельбе из винтовки. Он гордо рассказывал, как хорошо стреляет: «Почти всегда в цель!» – повторял он. Когда Пастернак ушел, Анна Андреевна с улыбкой сказала ему вслед: «Всегда четыре с половиной года…».
(Желвакова И.А. Тогда… в Сивцевом. М., 2007. С. 149)
…Я не жалуюсь на свое существованье, потому что люблю трудную судьбу и не выношу безделья, – я не жалуюсь, говорю я, но я форменным образом разрываюсь между двумя пустыми квартирами и дачей, заботами о вас, дежурством по дому, заработками, военным обученьем… Весной, после «Гамлета», я написал лучшее изо всего мной когда-либо написанного[288]. Этот подъем продолжается и сейчас. Я делаю все, что делают другие, и ни от чего не отказываюсь: вошел в пожарную оборону, принимаю участие в обученьи строю и стрельбе; ты видела, что я писал в начале войны для газеты: такое же простое, здравое и содержательное и все остальное.
(Б.Л. Пастернак – З.Н. Пастернак, 1 сентября 1941 г.)
«Второе рождение» заканчивает первый период лирики. Очевидно, дальше пути не было. (К тому же «грудная клетка», дамская доля и т. д.) Наступает долгий (10 лет) и мучительный антракт, когда он действительно не может написать ни одной строчки. Это уже у меня на глазах. Так и слышу его растерянную интонацию: «Что это со мной?!» Появилась дача (Переделкино), сначала летняя, потом и зимняя. Он, в сущности, навсегда покидает город. Там, в Подмосковии, – встреча с Природой. Природа всю жизнь была его единственной полноправной Музой, его тайной собеседницей, его Невестой и Возлюбленной, его Женой и Вдовой – она была ему тем же, чем была Россия – Блоку. Он остался ей верен до конца, и она по-царски награждала его. Удушье кончилось. В июне 1941 г., когда я приехала в Москву, он сказал мне по телефону: «Я написал 9 стихотворений. Сейчас приду читать». И пришел. И сказал: «Это только начало – я распишусь».
(Запись от 11 февраля 1961 г. // Записные книжки Анны Ахматовой: 1958–1966. С. 128–129)
Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина[289]. Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай, пожалуйста, и напиши мне (телеграммы идут дольше писем). Если это правда, то какой же это ужас! Позаботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним[290]. Какая вина на мне, если это так! Вот и говори после этого о «посторонних» заботах! Это никогда не простится мне. Последний год я перестал интересоваться ею. Она была на очень высоком счету в интел<игентном> обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья – Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец, Асеев[291]. Так как стало очень лестно числиться ее лучшим другом и по многим другим причинам, я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно. Я всегда в глубине души знал, что живу тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил!