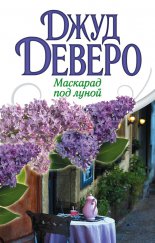Пастернак в жизни Сергеева-Клятис Анна
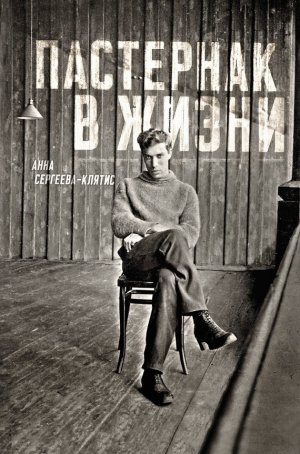
(М.И. Цветаева – Б.Л. Пастернаку, ок. 9 апреля 1926 г. // Цветаева М.И., Пастернак Б.Л. Души начинают видеть: письма 1926–1936 гг. С. 169)
Ты думаешь, что судьба свела твое имя с Мариной, я – что это ее воля, упорно к этому стремившаяся. Это была та давнишняя боль в Берлине, совпавшая с зарождением Жени и теперь решительная в последний раз. Я не условия тебе диктовала, я спрашивала только тебя, равна ли твоя судьба моей. Ты отвечаешь, что твоя жизнь больше и шире, – я тоже так думаю (совершенно серьезно). Теперь все ясно. Прощай. Другом тебе быть не могу, ты невнимательно прочел письмо, там об этом есть. Я приложу все усилия, чтобы с тобой не встретиться.
(Е.В. Пастернак – Б.Л. Пастернаку, 16 августа 1926 г.)
Как рассказать мне тебе, что моя дружба с Цветаевой – один мир, большой и необходимый; моя жизнь с тобой – другой, еще больший и необходимый уже только по величине своей, и я бы просто даже не поставил их рядом, если бы не третий, по близости которого у них появляется одно сходное качество – я говорю об этих мирах во мне самом и о том, что с ними во мне делается. Друг от друга этим двум мирам содрогаться не приходится <…>. О чем твержу я тебе все это время. Чтоб не верна была ты мне, а верила в меня и мне верила. Это одухотворяет, а первое мертвит. А ты от меня требуешь обратного. Начал я это письмо тебе почти что плача. Да ведь и доведет до слез ужасное сознанье того, что в твоем лице дано мне и что ты с лицом и дареньем делаешь. Точно вас две. Разве неправда?
(Б.Л. Пастернак – Е.В. Пастернак, 20–21 мая 1924 г.)
Большая квартира, полученная дедом от Училища живописи в 1911 году, после его отъезда с бабушкой и с дочерьми в 1921 году в Германию была уплотнена и превратилась в типичную коммунальную квартиру. <…> Папе досталась большая дедовская мастерская. Я помню себя уже в комнате, разделенной надвое дощатой переборкой не доверху, обшитой плохим серым картоном с выпуклыми включениями разного цвета и плотности, которые интересно было выковыривать ногтем. В проходной комнате за занавеской и спинкой буфета я спал. Комнату рядом, бывшую прежде гостиной, занимал дядя Шура, известный впоследствии архитектор. Однажды я проснулся солнечным утром от звонкого смеха мамы и, не спрашивая позволенья, побежал за перегородку к родителям. Мама лежала в постели и смеялась, а Боря стоял в большом тазу на сложенных на полу дедушкиных холстах и обливался из кувшина холодной водой. Пожалуй, это было первое и самое счастливое из того, что я помню. Так начиналось каждое утро. Родители с раннего детства приучили Борю к утреннему умыванию холодной водой для закалки. Он неукоснительно придерживался этого всю жизнь.
(Пастернак Е.Б. Понятое и обретенное. С. 346)
Архивами называются такие учрежденья, где становятся документами и достопримечательностями последние пустяки. Какой ни на есть хлам, на который бы ты и не взглянула, в архиве величается материалом, хранится под ключом и описывается в регистре. Таков уже и мой возраст. Это звучит невероятно глупо. Для других, объективно, я очень еще от него далек. Но у меня хорошее чутье, и я чувствую его издали. Вот в чем его отличие. Что все становится материалом. Что начинаешь видеть свои чувства, которые дают на себя глядеть, потому что почти не движутся и волнуют тебя разом и одной только своей стороной: своей удаленностью, своим стояньем в пространстве. Ты открываешь, что ониподвержены перспективе.
(Б.Л. Пастернак – Л.Л. Пастернак, 25 января 1925 г.)
Не осмеливаюсь после таких материальных предметов писать, как хотел бы, о той глубокой привязанности, которая давно уже привязывает меня к Вам как к автору, особенно «Сестры моей жизни»; книги столь бездонно содержательной, что, сходя в нее постоянно все глубже и глубже, я все еще не знаю, достиг ли я ее последнего круга и средоточия. Если бы я смел думать, что моя оценка может быть Вам интересна, я бы хотел Вам говорить также о том, что такого поэта, как Вы, у нас в России не было со времени золотого века, а в Европе сейчас может быть спор только между Вами и Т.С. Элиотом.
(Д.П. Святополк-Мирский – Б.Л. Пастернаку, 8 января 1927 г. // Флейшман Л.С. От Пушкина к Пастернаку: избранные работы по поэтике и истории русской литературы. М., 2006. С. 668–669)
Изо всех современников у меня к Вам одному такое большое личное чувство.
Я с большой радостью последнее время наблюдаю, как Вы незаметно и как бы тайно проникаете в поры современного читателя. А это я вижу вокруг себя и замечаю по тому, что слышу из Союза. Из самых неожиданных источников это ведет. Одна моя сверстница и старая приятельница, совсем далекая от новой поэзии (и вообще литературно не очень грамотная), поразила меня недавно знанием наизусть Сестры моей Жизни почти от начала и до конца. Такие случаи, по-моему, показательней и по существу ценнее, чем восторги литспецов.
(Д.П. Святополк-Мирский – Б.Л. Пастернаку, 5 сентября 1927 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 1. С. 290)
Меня больно кольнуло известие о Х<одасеви>че. Как мне избавить тебя от «стрел», направленных в меня? Может быть, написать ему? Вообще я его во врагах не числил. Я даже как-то переписывался с ним, и это смешило и обижало И<лью> Г<ригорьевича>. Я уважал его и его работу, его сухое пониманье и его позу, которую считал временным явленьем. Мне она казалась чем-то вроде затянутости за табльдотом: съест человек новизну признанья и успеха, развяжет салфетку, отвалит в естественность, и мы его увидим в партикулярном беспорядке роста. Вот именно, я иначе представлял себе его развитье. Я и сейчас не утратил бы дружеского чувства к нему, если бы не твои слова о гадостях, которые он тебе делает из неприязни ко мне. А этому свинству уже имени нет. Он знает, как меня звать и как меня хаять. Мог бы непосредственно. И адрес мой, во всех отношеньях, ему прекрасно известен. Был бы чересчур тонок и фантастичен домысел, что, желая поразить меня в сердце, он за мишень избрал как раз тебя. Этого он, вероятно, не знает, хотя уже и в Берлине я говорил с ним о тебе – горячей нельзя. Переписка наша оборвалась на его письме, написанном после смерти Брюсова. Оно мне решительно не понравилось. <…> По отношенью к Х. точно так же, как и в отношенье Брюсова, я всегда готов сдерживать всякий натиск ходячей фразы. Я не знаю, что его взвинтило против меня. <…> Но довольно о Х. Просто удивительно, что я так много о нем говорю. М. б., бессознательно я хочу тебя настроить на примиренье с ним. Помнится, он ко мне и к тебе хорошо относился.
(Б.Л. Пастернак – М.И. Цветаевой, 11 апреля 1926 г.)
Б<орис>, не взрывайся по пуст<якам>. Он (Х<одасевич>) тебя не любил, и не любит, и – главное – люб<ить> не может, любил бы – не тебя или – не он. «П<астерна>к – сильно-разд<утое> явл<ение>», вот что он говор<ит> о тебе напр<аво> и налево, а мне в спину – я тольк<о> чт<о> выш<ла> из комн<аты> – Сереже: «М<ежду> пр<очим>, М<арина> И<вановна> сильно преувелич<ивает> П<астерна>ка. Как все, впрочем».
Не огорч<айся>, что тебе дел<ать> с люб<овью> Х<одасеви>ча? Зачем она тебе? Ты большой и можешь люб<ить> (включ<ительно>) и Х<одасеви>ча. Он – тобой – разорвется, взорвется, на тебе сорв<ется>. Его нелюбовь к тебе – самозащита. Цену тебе (как мне) он знает.
(М.И. Цветаева – Б.Л. Пастернаку, 18 апреля 1926 г. // Цветаева М.И, Пастернак Б.Л. Души начинают видеть: Письма 1926–1936 гг. С. 183)
Вернемся к Пастернаку. Пастернак явно не довольствуется в поэзии пушкинскими горизонтами, которых хватает Ахматовой и которыми с удовольствием ограничил себя Ходасевич. Пастернаку, по-видимому, кажутся чуть-чуть олеографичными пушкиноообразные описания природы, чуть-чуть поверхностной – пушкинообразная отчетливость в анализе чувств, в ходе мыслей. Некоторая правда в этом ощущении, на мой взгляд, есть. Кажется, мир действительно сложнее и богаче, чем представлялось Пушкину. И, кажется, можно достигнуть пушкинского словесного совершенства при более углубленном, дальше и глубже проникающем взгляде на мир.
(Адамович Г.В. Литературные беседы // Звено. 1927. 3 апреля. № 218. С. 2)
Значит, по Адамовичу, как будто выходит даже так, что Пастернак видит и знает «уже» побольше и поглубже Пушкина, а потому и явно «не довольствуется в поэзии пушкинскими горизонтами», пушкинской поэтикой, слишком примитивной для такого титана мысли. Адамович только боится, что задача создать новую поэтику окажется Пастернаку не под силу.
Разумеется, я не буду всерьез «сравнивать» Пастернака с Пушкиным: это было бы дешевой демагогией и слишком легкой забавой. Уверен, что и сам Адамович не думает всерьез, будто Пастернак в «проникновении в мир» ушел дальше Пушкина. Недаром он дважды оговаривается: «кажется», «кажется». Если «кажется» – надо перекреститься. Покуда не перекрестимся, нам все будет казаться, что Пастернак что-то такое великое видит и знает…
- В поле бес нас водит, видно,
- Да кружит по сторонам.
<…> Сравнивать Пастернака, каков он есть, с Пушкиным – невозможно, смешно. Но эпохи позволительно сравнивать. Тысячи (буквально) нынешних Пастернаков, состоящих членами Всероссийского союза поэтов, во всей своей совокупности не равны Пушкину, хоть их помножить еще на квадриллионы. Не равны качественно. Но показательно для своей эпохи – равны. Вот природную их враждебность Пушкину, враждебность эпох и выразителей, Адамович ощутил ясно; но, к сожалению, не о ней он заговорил.
Петр и Екатерина были создателями великой России. <…> Пушкин еще продолжал дело, подобное петровскому и екатерининскому: дело закладывания основ, созидания, собирания. Как Петр, как Екатерина, как Державин, он был силою собирающей, устрояющей, центростремительной. И остался выразителем эпохи начал.
Ныне, с концом или перерывом петровского периода, до крайности истончился, почти прервался уже, пушкинский период русской литературы. Развалу, распаду, центробежным силам нынешней России соответствуют такие же силы и тенденции в ее литературе. Наряду с еще сопротивляющимися существуют (и слышны громче их) разворачивающие, ломающие: пастернаки. Великие мещане по духу, они в мещанском большевизме услышали его хулиганскую разудалость – и сумели стать «созвучны эпохе». Они разворачивают пушкинский язык и пушкинскую поэтику, потому что слышат грохот разваливающегося здания – и воспевают его разваливающимися стихами, вполне последовательно: именно «ухабистую дорогу современности» – ухабистыми стихами.
«Пастернак довольствуется удобрением поэтических полей для будущих поколений, чисткой авгиевых конюшен», – пишет Адамович. Опять неверные и кощунственные слова, которые станут верными, если их вывернуть наизнанку. И опять Адамович говорит то, чего, разумеется, не думает. Никак не допускаю, чтобы «до-пастернаковская» (да и не до-пастернаковская, а до-футуристическая) поэзия русская была для Адамовича авгиевыми конюшнями. И для Адамовича она не загаженная конюшня, а прекрасный и чистейший дом. Но прав Адамович: пастернаки (а не Пастернак) весьма возле дома сего хлопочут и трудятся (не без таланта, тоже согласен). Только труд их – не чистка, а загаживание, не стройка, а разваливание. Тоже работа геркулесовская по трудности, но не геркулесовская, не полу-божеская по цели. Не авгиевы конюшни чистят, а дом Пушкина громят. Что скажут на это «будущие поколения» – не знаю. Верю – кончится нынешнее, кончится и работа пастернаков. Им скажут: руки прочь! Сами опять начнут собирать и строить, разрубленные члены русского языка и русской поэзии вновь срастутся. Будущие поэты не будут писать «под Пушкина», но пушкинская поэтика воскреснет, когда воскреснет Россия.
(Ходасевич В.Ф. Бесы // Возрождение. 1927. 11 апреля. № 678. С. 3)
Порадуйся на своего protg Х<одасеви>ча. Отзыв труса. Ведь А<дамо>вич-то (статьи не читала, достану, пришлю) писал о тебе, а этот, минуя тебя, – о твоих ублюдках.
(М.И. Цветаева – Б.Л. Пастернаку, середина апреля 1927 г. // Цветаева М.И., Пастернак Б.Л. Души начинают видеть: письма 1922–1936 гг. С. 321)
Ходасевича получил и прочел. Странно, меня это не рассердило. Чепуха не без подлости в ответ на чью-то, может быть еще большую чепуху? В.Ф. меня знает. Странно.
(Б.Л. Пастернак – М.И. Цветаевой, 29 апреля 1927 г.)
Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься: слава Богу, что все это так темно. Если словесный туман Пастернака развеять – станет видно, что за туманом ничего или никого нет.
(Ходасевич В.Ф. После России // Возрождение. 1928. 19 июня. № 1113. С. 3)
Ходасевичево «но» в отношеньи меня разрослось в оговорку, ничего от меня не оставляющую. Этого романа не поправить.
(Б.Л. Пастернак – В.С. Познеру, ноябрь 1929 г.)
Исключительное внимание, окружающее имя Бориса Пастернака, обыкновенно удивляет людей, которые знают только то, что он пишет, и не знают его самого. <…> Мне вспоминается, что Сологуб долго хмурился и морщился на стихи Пастернака, а проведя в его обществе несколько часов и послушав его чтение, произнес потом слово «волшебно».
(Адамович Г.В. «Повесть» Пастернака // Последние новости. 1929. 26 сентября. № 3109. С. 2)
Больше года я работал над книгой «1905 год», которая будет состоять из отдельных эпических отрывков. Эта книга выйдет не раньше весны в ГИЗе. Я считаю, что эпос внушен временем, и потому в книге «1905 год» я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень трудно.
(Пастернак Б.Л. Писатели о себе // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 5. С. 215)
Из поэмы «Девятьсот пятый год»
- Это было при нас.
- Это с нами вошло в поговорку,
- И уйдет.
- И, однако,
- За быстрою сменою лет,
- Стерся след,
- Словно год
- Стал нулем меж девятки с пятеркой,
- Стерся след,
- Были нет,
- От нее не осталось примет.
- Еще ночь под ружьем,
- И заря не взялась за винтовку.
- И, однако,
- Вглядимся:
- На деле гораздо светлей.
- Этот мрак под ружьем
- Погружен
- В полусон
- Забастовкой.
- Эта ночь – Наше детство
- И молодость учителей.
Когда я писал «905-й год», то на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки с временем. <…> Мне хотелось дать в неразрывно-сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи. Мне хотелось связать то, что ославлено и осмеяно (и прирожденно дорого мне), с тем, что мне чуждо, для того чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден, того не замечая, принять и мои идеалы.
(Б.Л. Пастернак – К.А. Федину, 6 декабря 1928 г.)
Жизнь раскачала Пастернака. Он поворачивает сейчас под каким-то решительным углом. Смысл тончайших словесных построений Пастернака только сейчас начинает раскрываться. Его поэзия, оснащенная новой и революционной темой, начинает поступать в широкий общественный адрес. Воздержание кончается. Реальный внешний мир революции протиснулся в поэтическое сознание.
(Перцов В.О. Новый Пастернак // На литературном посту. 1927. № 2. С. 33)
Не успели поздороваться – глядь: по лестнице спускается критик Перцов, похожий на старого брыластого кобеля. Как на грех, он недавно в Институте мировой литературы бросил упрек Пастернаку, что тот и в переводы грузинских поэтов вносит свое ущербное декадентское мировоззрение, что он по своему образу и подобию творит из грузинских поэтов мистиков и пессимистов. Если перевести перцовскую идею на язык практический, это означало: «Отнимите у Пастернака и переводы» – этот последний кусок хлеба, который ему пока еще оставили. Выступление благородное, что и говорить. А ведь Перцов – бывший соратник Пастернака по Лефу:
- Все же бывший продармеец,
- Хороший знакомый!..
Завидев Пастернака, Перцов сделал стойку, впрочем – стойку нерешительную. Затем совладал с собой и, приятно осклабившись, двинулся навстречу Пастернаку и робко протянул ему лапу. После секундного колебания Пастернак слабо пожал ее, но тут же отдернул руку.
– Послушайте, – сказал он, – я подал вам руку, но только потому, что все это, – тут он сделал кругообразный жест рукой, показывавший, что он обводит ею не только Клуб писателей, а нечто гораздо более широкое, – ужасно похоже на сумасшедший дом.
Перцов, негаданно осмелев, тявкнул:
– Но ведь и вы находитесь здесь же.
– Нет, простите, я остался снаружи, – отрезал Пастернак.
(Любимов Н.М. Борис Пастернак: Из книги «Неувядаемый цвет» // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 628)
Книга – отличная; книга из тех, которые не сразу оценивают по достоинству, но которым суждена долгая жизнь. Не скрою от Вас: до этой книги я всегда читал Ваши стихи с некоторым напряжением, ибо слишком, чрезмерна их насыщенность образностью и не всегда образы эти ясны для меня: мое воображение затруднялось вместить капризную сложность и часто недоочерченность Ваших образов. Вы знаете сами, что Вы оригинальнейший творец образов, Вы знаете, вероятно, и то, что богатство их часто заставляет Вас говорить – рисовать – чересчур эскизно. В «905» Вы скупее и проще, Вы классичнее в этой книге, насыщенной пафосом, который меня, читателя, быстро, легко и мощно заражает. Нет, это, разумеется, отличная книга, это голос настоящего поэта и социального в лучшем и глубочайшем смысле понятия. Не стану отмечать отдельных глав, как, например, похороны Баумана, «Москва в декабре», и не отмечу множество отдельных строк и слов, действующих на сердце читателя горячими уколами.
(А.М. Горький – Б.Л. Пастернаку, 18 октября 1927 г. // М. Горький. Переписка с писателями. Литературное наследство. Т. 70. 1963. С. 301)
Книги совершенно непонятные. Никакой схожести с нашей песней нет. Читать совершеннонельзя.
(Малов Ф. Голос деревенского читателя // Читатель и писатель. 1928. 10 марта. № 10. С. 4)
Вслух читали и прорабатывали поэму Пастернака «Лейтенант Шмидт» (Б.Л. Пастернак, 1905 г., ГИЗ, 1927 г.). С большим трудом, споря с руководителем из-за каждой пяди поэмы, прочли три главы, с тем, чтобы возобновить чтение в следующий раз.
(Дневник литгруппы «Красное студенчество»: секция поэтов // Красное студенчество. 1927/1928. 5 апреля. № 14. С. 77)
Переход Пастернака на социально-политические темы разве не сделал его почти общепонятным? Объективная значимость темы, по-видимому, исключает вычурные излишества формальных изысков. И нам думается, что и при возврате к прежним интимно-лирическим темам Пастернак теперь уже не станет писать прежним языком, понятным лишь узенькому, высококвалифицированному читательскому кругу, и то не без труда. Тот, кто в своих творческих исканиях познал хоть отчасти радость и значительность простоты, вряд ли от них откажется.
(Хромов С. Писать ли проще? // Читатель и писатель. 1928. 5 мая. № 18. С. 1)
Что до стихов, то их много. На первом месте Пастернак с очень слабыми отрывками из поэмы «Лейтенант Шмидт». Обычное нагромождение устрашающих метафор, бессмыслие отдельных строф и бессмыслие вещи в целом, полная невозможность понять, о чем, о ком идет речь, где что происходит и т. д.
(Литературная хроника[154] // Возрождение. 1927. 31 марта. № 667, С. 3. – Рец. на журн. Новый мир. М., 1927. № 2)
Есть в России довольно даровитый поэт Пастернак. Стих у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких образов, звучных, но буквальных рифм, рокочущих размеров. Синтаксис у него какой-то развратный. Чем-то напоминает он Бенедиктова. Вот точно так же темно и пышно Бенедиктов писал о женском телосложенье, о чаше неба, об амазонке. Восхищаться Пастернаком мудрено: плоховато он знает русский язык, неумело выражает свою мысль, и вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов. Не одно его стихотворенье вызывает у читателя восклицанье: «Экая, ей-Богу, чепуха!» Такому поэту страшно подражать. Страшно, например, за Марину Цветаеву.
(В. Сирин [Набоков В.В.] // Руль. Берлин. 1927. 11 мая. № 1959. С. 4. – Рец. на кн.: Кобяков Д. Горечь. Птицелов. Париж, 1927; Кобяков Д.Керамика. Там же, 1925; Шах Е. Семя на камне. Париж, 1927)
Чем же щегольнул в «Верстах»[155] Пастернак? Да ничем особенно, его «достижения» известны: «Расторопный прибой сатанеет от прорвы работ» – и «свинеет от тины». <…> Далее, конечно, о «тухнувшей стерве, где кучится слизь, извиваясь от корч, – это черви…»[156]. Образы не молоденькие, но у новейших советских знаменитостей к ним особливое пристрастие: должно быть, старым считается буржуазно-помещичий соловей с розой, так лучше хватить подальше. И хватают: редкая страница выдается без стерв, язв, гноев и всего такого.
(Антон Крайний [Гиппиус З.Н.] О «Верстах» и о прочем // Последние новости. Париж. 1926. 14 августа. № 1970. С. 3)
«1905 год» не на глаз, а на слух ровно втрое короче «Лейтенанта Шмидта». Естественно, что при очень большом протяжении второй поэмы ее недостатки более ощутимы. Но и без каких бы то ни было сравнений эта вещь решительно неудачна, она вся – «в широких лысинах бессилья». За малыми исключениями, иногда блестящими, эти непомерно растянутые стихи утомительны и прозаичны. Даже обычного пастернаковского напора, которым он на худой конец умеет подменить свою настоящую музыку, здесь не чувствуешь. Обмелевшая поэзия автора «Тем и вариаций» не пленительна нисколько, но зато очень поучительна. Увидев «дно» этой поэзии, можно яснее понять, что именно мельчит и даже уничтожает ее.
(Оцуп Н.А. Борис Пастернак // Звено. 1928. № 5. С. 261–262)
О 1925 г. <…> Вокруг бушует первый слой революционной молодежи, «с законной гордостью» ожидающей великого поэта из своей среды. Гибнет Есенин, начинает гибнуть Маяковский, полузапрещен и обречен Мандельштам, пишет худшее из всего, что он сделал, (поэмы) Пастернак, уезжают Марина и Ходасевич. Так проходит десять лет.
(Запись от 15 марта 1963 г. // Записные книжки Анны Ахматовой: 1958–1966. С. 311.)
Стояла весна. Я открывала нежилые комнаты, открывала зимние рамы, одна убирала, одна передвигала мебель, подготовляла будущие комнаты по найму. Я мыла окна, и в доме стоял великий тарарам, когда вдруг приехал из Москвы Боря, влекомый нашими письмами и нашей близостью. Я восприняла его приезд как символ – в день моей свободы и дантовской vita nuova[157].
Но сразу почувствовалось, что он привез с собой свое старое чувство, и я не только не отвечала ему, но испытывала отталкиванье, как две капли воды похожее на отвращенье.
Мы ходили, гуляли. В это время у Бори начинался разлад с Женей. И он тянулся ко мне.
Я все просила Борю, чтоб он подарил мне свой «1905 год», только недавно вышедший. Боря обещал, отмалчивался. При отъезде, когда он раскрыл мне объятия, я сдержала руки и по-сестрински поцеловала его. Он заметил, отступил. Когда же он уехал и я подошла к своему столу, я нашла под бумагами засунутый томик «1905 года»; пораженная, вынула его и, прочтя на первом листе крупное «Любимой», поняла все. Ниже, более умеренным почерком, стояло мое имя. Я не могла не поддаться силе, с какой это большое и застенчивое сердце открылось мне. Только Боря мог говорить таким языком вещи и почерка. Мне трудно передать, каким ярким жестом сказала мне о любви его рука, спрятавшая признанье в глубину моих бумаг.
(Фрейденберг О.М. [Воспоминания] // Пастернак Б.Л. Пожизненная привязанность: переписка с О.М. Фрейденберг. С. 135)
Моя жена – порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой, и очень редко, в последнее время, когда у ней обострилось малокровье. В основе она – хороший характер. Когда-нибудь в иксовом поколении и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы бить ее врасплох, за то и пользуясь тем, что она застигнута не вовремя и без оружья. Поэтому в сценах громкая роль отдана ей, я уступаю, жертвую, – лицемерю (!!), как по-либреттному чувствует и говорит она.
(Б.Л. Пастернак – М.И. Цветаевой, 25 марта 1926 г.)
Отец много работал, боялся надолго отрываться и, если я шумел, настойчиво просил не мешать. Я не помню, чтобы он кричал на меня или как-то наказывал, но я знал, что дома громко разговаривать нельзя: папа работает. Единственным местом, где я мог играть, когда мама писала, был угол комнаты под отцовским письменным столом и за ним – он стоял углом к стене. Я то занимался строительством из кубиков, то воображал, что мы с папой куда-то едем, и тянул заунывное: Борис-Боря. Потом я узнал свою игру в «Докторе Живаго», когда маленький Шура играл под столом у Юрия Андреевича. Иногда папа останавливал мое нытье коротким «погоди» или вставал и в глубоком раздумье ходил по комнате. В то время он курил, к весне болел ангинами и воспалением десен, с которым справлялся, полоща рот шалфеем и подливая горячую воду из почти постоянно кипевшего на столе самовара. <…> Боря ставил самовар в коридоре, трубу выводили в дымоход печки, через специальное отверстие, которое закрывалось круглой латунной крышечкой. Когда самовар закипал, его вносили в комнату, старую лампу над столом поднимали на блоке с противовесом, чтобы она освещала всю комнату. Но чаще по вечерам допоздна горела лампа под зеленым стеклянным абажуром на Борином рабочем столе, он без конца подливал себе крепкий чай из слегка шумевшего самовара. Просыпаясь, я поглядывал из-за занавески на его склоненную фигуру за столом в голубом облаке папиросного дыма. Окликнуть его и позвать было совершенно немыслимо. Недаром на вопрос, как вы воспитываете своего сына, папа отвечал: «Учу не мешать взрослым».
(Пастернак Е.Б. Понятое и обретенное. С. 351–353)
Зимой стал снова собираться ЛЕФ[158]. <…> Была у меня какая-то смутная надежда, что М<аяковский> наконец что-то скажет, а я прокричу или даже изойду правдой, – и нас закроют или еще что-нибудь, не все ли равно. Вместо этого вышли брошюрки такого охолощенного убожества, такой охранительной низости, вперемешку с легализованным сквернословьем (т. е. с фрондой, апеллирующей против большинства… к начальству), что в сравнении с этим даже казенная жвачка, в которой терминология давно заменила всякий смысл (хотя бы и духовно чуждый мне), показалась более близкой и приемлемой и более благородной, нежели такое полуполицейское отщепенчество.
(Б.Л. Пастернак – М.И. Цветаевой, 3 мая 1927 г.)
Пастернак – вот козырь, – но какой же Пастернак футурист? Разве Пастернак одобрит то обличье балагана, которое придает себе «Новый ЛЕФ»? Не верится. В поэзии Пастернака, замечательной по своим формальным достоинствам и внутреннему напряжению, нет ничего от крикливых уличных задворков, от цирка и балагана. Враг шумихи и рекламы, скромнейший и сосредоточенный, один из тончайших мастеров нашего времени, Пастернак и в первые годы футуристических драк не был футуристом, не является им и теперь, когда от разлагающегося трупа футуризма начинает распространяться тлетворный дух.
(Полонский В.П. Заметки журналиста: ЛЕФ или блеф? // Известия. 1927. 27 февраля. № 48 (2982). С. 3)
Об этом можно судить хотя бы по распространенной дружелюбной, можно сказать, декларативно дружелюбной надписи Пастернаку на первом издании поэмы «Хорошо!» (т. е. не раньше октября): «Борису Вол с дружбой, нежностью, любовью, уважением, товариществом, привычкой, сочувствием, восхищением, и пр., и пр., и пр.»[159].
Эта надпись говорила о многом. Она как бы подытоживала отношения за полтора десятка лет, может быть для какого-то объяснения, за которым начнутся новые. Она говорила о готовности продолжать их, о наибольшем благоприятствовании, которое неизменно, о том, какими преимуществами авансом располагает высокая договаривающаяся сторона в предстоящих переговорах.
Но готов ли был Пастернак тем же встретить своего друга-противника?
Встреча эта была в первых числах апреля 1928 года. Видимо, о ней речь идет в той же автобиографии Бориса Леонидовича: «Однажды во время обострения наших разногласий у Асеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство: “Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я – в электрическом утюге”[160]» <…>. То, что предлагал Маяковский Пастернаку, мы знаем. Но что хотел Пастернак, противопоставляя себя обществу, которое окружало Маяковского и притягивалось им? Отвергнуть всех и не поссориться с одним Маяковским? Но, вероятно, он и сам понимал, что такого быть не может, что тем самым он отталкивается и от Маяковского и что так выбирать нельзя. Вспомним из «Охранной грамоты» первую встречу с Маяковским, вернее, встречу двух групп, к одной из которых принадлежал Пастернак, а к другой – Маяковский. Рассказывая, как поразила его тогда исключительность его собеседника, Пастернак говорит: «Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел?» Сегодня, выбирая между Маяковским и… Полонским[161], он сбалансировал в другую сторону.
(Катанян В.А. Распечатанная бутылка. С. 128–130)
Наш разговор не был обиден ни для Вас, ни для меня, но он удручающе бесплоден в жизни, которая нас не балует ни временем, ни безграничностью средств. Печально. Вы все время делаете одну ошибку (и ее за Вами повторяет Асеев), когда думаете, что мой выход – переход и я кого-то кому-то предпочел. Точно это я выбирал и выбираю. А Вы не выбрали? Разве Вы молча не сказали мне всем этим годом (но как Вы это поймете?!), что в отношении родства, близости, перекрестно-молчаливого знанья трудных, громадных, невеселых вещей, связанных с этим убийственно нелепым и редким нашим делом, Ваше общество, которое я покинул и знаю не хуже Вас, для Вас ближе, живее, нервно-убедительнее меня?
Может быть, я виноват перед Вами своими границами, нехваткой воли. Может быть, зная, кто Вы, как это знаю я, я должен был бы горячее и деятельнее любить Вас и освободить против Вашей воли от этой призрачной и полуобморочной роли вождя несуществующего отряда и приснившейся позиции.
Я сделал эту попытку заговорить с Вами потому, что все эти дни думал о Вас. <…> И потом, как Вам нравится толкованье, которое дается у Вас моему шагу? Выгода, соперничество, использование конъюнктуры и пр. И у Вас уши не вянут от этого вздора? Притом как похоже на меня, не правда ли? Ведь у Вас люди с общественной жилкой, бывают на собраньях, в театрах, в издательствах и на диспутах. Много ли они меня там видели? Покидая ЛЕФ, я расстался с последним из этих бесполезных объединений не затем, чтобы начать весь ряд сначала. И Вы пока стараетесь этого не понять.
(Б.Л. Пастернак – В.В. Маяковскому, 4 апреля 1928 г.)
Вы, наверное, имеете представленье о совершенно непроходимом лицемерии и раболепьи, ставшем основной и обязательной нотой нашей «общественности» и словесности, в той ее части, где кончается беллетристический вымысел и начинается мысль. Есть журнал «ЛЕФ», который бы не заслуживал упоминанья, если бы он не сгущал до физической нестерпимости эту раболепную ноту. <…>
С Маяковским и Асеевым меня связывает дружба. Лет уж пять как эта связь становится проблемой, дилеммой, задачей, временами непосильной. Ее безжизненность и двойственность не отпугивали нас и еще не делали врагами. Не безжизненно-двойственна ли и вся действительность кругом, не насквозь ли она условна в своих расчетах на какую-то отдаленную безусловность? Мне всегда казалось, что прирожденный талант Маяковского взорвет когда-нибудь, должен будет взорвать те слои химически чистой чепухи, по бессмыслице похожей на сон, которыми он добровольно затягивался и до неузнаваемости затянулся в это десятилетье. Я жил, в своих чувствах к ним, только этой надеждой.
Так было до сих пор, пока в своей фальши (объективной, конечно; субъективно они искренни, но истории это неинтересно) они тонули в общей, бытовой. И клочок из «Лейтенанта Шмидта» был дан Маяковскому (мне тяжко стало его упрашиванье). Я не представлял себе, что будет в журнале и каков будет журнал. Когда же я увидал, что они стали обостренными выразителями этой ноты, когда фальшь стала их преимущественным делом… – отношенья наши пришли в ясность. Маяковского нет сейчас тут, он за границей. Мне все еще кажется, что я их переубежду и они исправятся. Нам предстоит серьезный разговор, и, может быть, последний. Гораздо трудней будет выступить с печатной аргументацией разрыва. Здесь придется говорить о том, о чем говорить не принято.
(Б.Л. Пастернак – Р.Н. Ломоносовой, 17 мая 1927 г.)
В небольшом декларативном сочинении «Наша словесная работа» Маяковский и Брик характеризовали Пастернака в «ЛЕФе»: «Применение динамического синтаксиса к революционному заданию». С. Третьяков был более ироничен, говоря о «комнатном воздухоплавании на фок-рее синтаксиса».
Пастернак сотрудничал в «ЛЕФе» и «Новом ЛЕФе» до середины 1927 года. И вряд ли случайно, что «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт» относятся именно к этому времени. «На этой вещи учиться надо, – говорил Маяковский о “Шмидте”. – Это тоже завоевание ЛЕФа».
Помню, как в начале 1927 года на одном из лефовских собраний Борис Леонидович появился с пачкой книг, которые он отнес в каюту Осипа Максимовича.
– Вот!
У него был довольный вид, как у студента, который, закончив семестр, может подальше отодвинуть книги, те, что больше не понадобятся. Это были разные материалы о 1905 годе, начиная с писем П.П. Шмидта…
Вообще в 1926 году Борис Леонидович был частым гостем на Гендриковом. Помню его и на учредительном собрании «Нового ЛЕФа» в сентябре, и на менее многолюдных собраниях…
В середине 1927 года имя Пастернака перестало появляться в списке сотрудников «Нового ЛЕФа». Стереотипно повторявшееся объявление о подписке… под редакцией… при участии… впервые в № 6 вышло без Б.Л. Пастернака.
(Катанян В.А. Распечатанная бутылка. С. 122–123)
Разрыв этот для меня нелегок. Они не хотят понять меня, более того, хотят не понимать. Я останусь еще в большем одиночестве, чем раньше.
(Б.Л. Пастернак – В.П. Полонскому, 1 июня 1927 г.)
Сильнейшее мое убежденье, что из «ЛЕФа» первому следовало уйти Маяковскому, затем мне с Асеевым. Так как сейчас государство равно обществу, то он более, чем какое бы то ни было, нуждается в честной сопротивляемости своих частей, лишь в меру этой экспансивности и реальных.
«ЛЕФ» удручал и отталкивал меня своей избыточной советскостью, то есть угнетающим сервилизмом, то есть склонностью к буйствам с официальным мандатом на буйство в руках.
(Пастернак Б.Л. Анкета издания «Наши современники» // Пастернак Б.Л ПСС. Т. 5. С. 217–218)
- Вы заняты нашим балансом,
- Трагедией ВСНХ,
- Вы, певший Летучим голландцем
- Над краем любого стиха.
- Холщовая буря палаток
- Раздулась гудящей Двиной
- Движений, когда вы, крылатый,
- Возникли борт о борт со мной.
- И вы с прописями о нефти?
- Теряясь и оторопев,
- Я думаю о терапевте,
- Который вернул бы вам гнев.
- Я знаю, ваш путь неподделен,
- Но как вас могло занести
- Под своды таких богаделен
- На искреннем вашем пути?
(Пастернак Б.Л. Надпись В.В. Маяковскому на книге «Сестра моя жизнь», 1922)
Владимир Маяковский
Послание пролетарским поэтам
- А мне
- в действительности
- единственное надо —
- чтоб больше поэтов
- хороших
- и разных.
Я бы никогда не мог сказать «побольше поэтов хороших и разных», потому что многочисленность занимающихся искусством есть как раз отрицательная и бедственная предпосылка для того, чтобы кто-то один, неизвестно кто, наиболее совестливый и стыдливый, искупал их множество своей единственностью и общедоступность их легких наслаждений каторжной плодотворностью своего страдания.
(Б.Л. Пастернак – Вяч. Вс. Иванову, 1 июля 1958 г.)
Сколько кругом ложных карьер, ложных репутаций, ложных притязаний. И неужели я самое яркое в ряду этих явлений? Но я никогда ни на что не притязал. Как раз в устраненье этой видимости, совершенно невыносимой, я стал писать «Охранную грамоту». Я готов быть осужденным и вычеркнутым из поминанья за дело, на основаньи моей действительной наличности, но не иначе. Я никогда победителем себя не чувствовал и об этом не думал. Но и «литературой» не занимался. Отсюда усиленный автобиографизм моих последних вещей: я не любуюсь тут ничем, я отчитываюсь как бы в ответ на обвиненье, потому что давно себя чувствую двойственно и неловко. Поскорей бы довести до конца совокупность этих разъяснительных работ. И тогда я буду надолго свободен, я писательство брошу.
(Б.Л. Пастернак – П.Н. Медведеву, 30 декабря 1929 г. Москва)
«Есть люди, пишущие радостно, но не все же. Для Гоголя всякое писание было трагедией. Я пишу только от несчастья. И так было всегда. Я понимаю, что если смотреть с точки зрения современных требований абсолютно трезво и рассудочно, то все мои писания – бред. Ранние вещи более понятны». Пастернак сказал далее: «Я хотел бы ненадолго уйти от всего, если бы был обеспечен. Не стал бы печатать сейчас конец “Спекторского”, дал бы ему отлежаться и переделал бы его. При втором издании “Из двух книг”, перечитывая свои стихи в корректуре, я пришел от них в ужас. Футуризм отжил. Для меня живут только стихи, переделанные позднее. Маяковский и Асеев переменились, и я не могу оставаться самим собой. Впрочем, увидев свои стихи напечатанными, я успокоился. Я не живу сейчас. Дома, когда ко мне приходят, я в ужасе, так как сам не чувствую себя дома, все временно. Убрал со стен многие произведения отца. Спокойнее только в гостях…»
(Горнунг Л.В. Встреча за встречей: по дневниковым записям // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 83)
Был у Мейерхольдов. Так это получилось. В 7 часов позвонил он с настойчиво-проникновенной просьбой прийти к ним тотчас же и выслушать какое-то 14-летнее дарованье. Просил так, что я не нашелся, как отказать. Но через минуту очухался (перед тем я только-только от нафталина и шуб расселся работать) и позвонил ему, что не приду и что у него есть способность просить по-женски. Но он пристал с удесятеренным жаром, сказав, что на коленях у телефона стоит и все в таком роде. Шел страшно рассерженный с намереньем открыто это показать. Но у них оказалась изумительная квартира и несколько человек гостей, между прочим, Полонские, мальчик же оказался действительно феноменально одаренным…
(Б.Л. Пастернак – Е.В. Пастернак, 17 мая 1929 г.)
В январе 1930 года[162] он [Юра, сын С.А. Есенина от его первого брака с А.Р. Изрядновой. – Примеч. авт. – сост.] предложил мне пойти к Маяковскому почитать ему стихи. Юра знал, что Маяковский часто бывает в доме Мейерхольда в Брюсовском переулке. <…> Мы дежурили в подъезде, грея руки у батареи парового отопления. Появился Маяковский. Он посмотрел на нас с высоты своего казавшегося гигантским роста и, не дав нам слова промолвить, прогудел: «Пионеры со стихами! Понятно. Сейчас мы вас заслушаем». И повел нас к Мейерхольду. Первое, что мне бросилось в глаза и навсегда запомнилось, – большая стеклянная или хрустальная ваза, стоявшая на рояле. В ней были не цветы, а радужные металлические стружки, завивавшиеся спиралью. Маяковский, Вс. Мейерхольд, Зинаида Райх и высоко державший голову, застенчивый и вдохновенный человек, мне не известный, – все они внимательно нас рассматривали <…>. Маяковский, прослушав три стихотворения, буквально набросился на меня: «Что это за Ахматова в коротких штанах? Почему вы пишете о том, что вам абсолютно неизвестно и совершенно чуждо? Где стихи о партах и пионерском галстуке? Ведь вы новые люди, и таких еще на земле не было! А что пишете? Сумерки дворянства!» <…> А неизвестный мне гость Мейерхольда с продолговатым и несколько отрешенным лицом вдруг вступился за меня: «Володя, но он еще совсем мальчик!» Говорил он, растягивая слова и немного в нос. «Боря, – возразил Маяковский, и тут я догадался, что мой защитник – это Борис Пастернак, – если он мальчик, давайте побеседуем о трехколесных велосипедах, а если уж он взялся писать стихи, то пусть отвечает за каждое слово».
(Долматовский Е.А. Было. М., 1979. С. 14–15)
Я познакомился с Борисом Леонидовичем в конце зимы 1936 года в доме Мейерхольда. Всеволод Эмильевич пригласил меня на обед в обществе Пастернака с женой и Андре Мальро с братом. Обед затянулся до вечера. <…> И вот в этот день (5 марта) после обеда за кофе он рассказал нам о предложении товарища П.[163], подчеркнул, что все присутствующие его друзья, которым он полностью доверяет, и он просит дать ему совет, искать ли ему встречи со Сталиным, а в случае положительного ответа – какие вопросы перед ним поставить: просить что-то для театра или попытаться защитить Шостаковича и коснуться других тем[164]. <…> Я, разумеется, сказал, что нужно непременно добиваться этой встречи и что В.Э. должен беседовать со Сталиным не только о себе и ГОСТИМе, но и о всех насущных потребностях искусства. <…> Зинаида Николаевна поддержала меня. <…> Но Пастернак не согласился с нами обоими. Многословно и сложно, как всегда, со множеством всевозможных отступлений в длинных придаточных предложениях, но очень решительно тем не менее он советовал не искать встречи со Сталиным, потому что ничего хорошего из этого все равно получиться не может. <…> Он горячо и красноречиво доказывал Мейерхольду, что недостойно его, Мейерхольда, являться к Сталину просителем, а в ином положении он сейчас быть не может, что такие люди должны или говорить на равных, или совсем не встречаться, и так далее, и тому подобное… К моему удивлению, Мейерхольд согласился с Пастернаком; сказал, что он понял, что сейчас действительно не время добиваться этой встречи, и он просит всех забыть об этом разговоре.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 53–54)
Черняк был близким другом Пастернака, и, когда тот приходил к нему в гости, Яков Захарович звал меня к ним наверх. Пастернак читал свои новые стихи и свою новую, тогда впервые начатую прозу. Я слушал из его собственных уст еще не напечатанную «Охранную грамоту» и мог наблюдать за совершенно поразительными изменениями его лица. Иногда оно каким-то странным образом удлинялось, становилось некрасивым, даже уродливым, каким-то «лошадиным», но в следующую минуту он вдруг, встрепенувшись, словно очнувшись, превращался в какое-то воплощение Аполлона, с таким гармоничным и прекрасным лицом, какого я никогда ни у одного человека не видел. Это, конечно, следовало за каким-то движением его внутреннего мира, за его размышлениями, очевидно, за каким-то его душевным состоянием. Его странный голос, иногда с какими-то выкриками, иногда совсем глухой, действовал совершенно гипнотизирующе на слушателей.
Я должен сказать, что видел за свою жизнь множество замечательных людей. Людей выдающихся, иногда всемирно знаменитых. Но только три раза у меня было полное убеждение, что я нахожусь в присутствии гения, в присутствии даже, может быть, не полубога, а просто самого Бога. Так было с Феллини, так было с Марком Шагалом и так было с Пастернаком.
(Чегодаев А.Д. Моя жизнь и люди, которых я знал: Воспоминания: 1905–1995. М., 2006. С. 156–158)
Кризис. Начало 1930-х
…Чувство конца все чаще меня преследует.
Б.Л. Пастернак
Маяковский
Дорогая мамочка!… Я очень устал. Не от последних лет, не от житейских трудностей времени, но от всей своей жизни. Меня утомил не труд, не обстоятельства семейной жизни, не забота, не то, словом, как она у меня сложилась. Меня утомило то, что осталось бы без перемены, как бы ни сложилась она у меня. Вот то и грустно, и утомительно… что чуть ли не весь я всю жизнь оставался и останусь без приложения.
(Б.Л. Пастернак – Р.И. Пастернак, 6 марта 1930 г.)
…С почти месячным запозданьем, по причинам моего обихода, которого я и теперь не изменю, я узнал о расстреле В. Силлова[165], о расправе, перед которой бледнеет и меркнет все, бывшее доселе. Это случилось не рядом, а в моей собственной жизни. С действием этого событья я не расстанусь никогда. Из лефовских людей в их современном облике это был единственный честный, живой, укоряюще-благородный пример той нравственной новизны, за которой я никогда не гнался, по ее полной недостижимости и чуждости моему складу, но воплощению которой (безуспешному и лишь словесному) весь ЛЕФ служил ценой попрания где совести, где – дара. Был только один человек, на мгновенья придававший вероятность невозможному и принудительному мифу, и это был В. С<иллов>. Скажу точнее: в Москве я знал одно лишь место, посещение которого заставляло меня сомневаться в правоте моих представлений. Это была комната Силловых в пролеткультовском общежитье на Воздвиженке. Я не видел его больше года: отход мой от этой среды был так велик, что я утерял из виду даже и его.
Здесь я прерываю рассказ о нем, потому, что сказанного достаточно. Если же запрещено и это, т. е. если по утрате близких людей мы обязаны притворяться, будто они живы, и не можем вспомнить их и сказать, что их нет: если мое письмо может навлечь на Вас неприятности – умоляю Вас, не щадите меня и отсылайте ко мне как виновнику. Это же будет причиной моей полной подписи (обыкновенно я подписываюсь неразборчиво или одними инициалами).
(Б.Л. Пастернак – Н.К. Чуковскому, 17 марта 1930 г.)
Начало апреля застало Москву в белом остолбененьи вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положенья еще не все привыкли.
Узнав о несчастье, я вызвал на место происшествия Ольгу Силлову. Что-то подсказало мне, что это потрясенье даст выход ее собственному горю.
Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой событья. Ко мне подошли Я. Черняк и Ромадин, первыми известившие меня о несчастье. С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и спрудились у выхода, так что когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Гендриков переулок.
(Пастернак Б.Л. Охранная грамота)
Протягиваю руку к трубке. Узнаю голос Бориса Пастернака. Задыхаясь, он бросает в трубку: «Оля, сегодня утром застрелился Маяковский. Я жду вас у ворот дома в Лубянском проезде. Приезжайте!» Я срываюсь с места. Обо всем забываю, кроме этого ужаса. Мчусь туда, где случилось непоправимое. Не помню, как добрались до указанного места. Пастернак у ворот. Бледный. Ссутулившийся. Лицо в слезах; сказал: «Ждите меня на лестнице. Я пойду наверх, узнаю, где он будет». Я стояла на лестнице, вдавившись спиной в стену, когда мимо меня пронесли носилки, наглухо закрытые каким-то одеялом. Господи! Ведь это пронесли то, что еще сегодня утром было Володей Маяковским!.. Вслед за носилками шел понурый Пастернак. Подхватил меня, и мы выбежали из дома.
(Петровская (Силлова) О.Г. Воспоминания о Борисе Леонидовиче Пастернаке // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 105)
Володя все 15 лет говорил о самоубийстве. Причины у него не было никакой – был пустяшный повод, невероятное переутомление и всегдашний револьвер на столе.
(Л.Ю. Брик – Е.Ю. Каган, Москва, 29 апреля 1930 г. // Брик Л.Ю. Пристрастные рассказы. С. 249)
Смерть поэта
- Не верили, – считали, – бредни,
- Но узнавали: от двоих,
- Троих, от всех. Равнялись в строку
- Остановившегося срока
- Дома чиновниц и купчих,
- Дворы, деревья, и на них
- Грачи, в чаду от солнцепека
- Разгоряченно на грачих
- Кричавшие, чтоб дуры впредь не
- Совались в грех.
- И как намедни
- Был день. Как час назад. Как миг
- Назад. Соседний двор, соседний
- Забор, деревья, шум грачих.
- Лишь бы на лицах влажный сдвиг,
- Как в складках порванного бредня.
- Был день, безвредный день, безвредней
- Десятка прежних дней твоих.
- Толпились, выстроясь в передней,
- Как выстрел выстроил бы их.
- Как, сплющив, выплеснул из стока б
- Лещей и щуку минный вспых
- Шутих, заложенных в осоку.
- Как вздох пластов нехолостых.
- Ты спал, постлав постель на сплетне,
- Спал и, оттрепетав, был тих, —
- Красивый, двадцатидвухлетний,
- Как предсказал твой тетраптих.
- Ты спал, прижав к подушке щеку,
- Спал, – со всех ног, со всех лодыг
- Врезаясь вновь и вновь с наскоку
- В разряд преданий молодых.
- Ты в них врезался тем заметней,
- Что их одним прыжком достиг.
- Твой выстрел был подобен Этне
- В предгорье трусов и трусих.
- Друзья же изощрялись в спорах,
- Забыв, что рядом – жизнь и я.
- Ну что ж еще? Что ты припер их
- К стене, и стер с земли, и страх
- Твой порох выдает за прах?
- Но мрази только он и дорог.
- На то и рассуждений ворох,
- Чтоб не бежала за края
- Большого случая струя,
- Чрезмерно скорая для хворых.
- Так пошлость свертывает в творог
- Седые сливки бытия.
Маяковский останется в истории литературы большевистских лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь <…>. Маяковскому пошло на пользу даже его самоубийство: оно дало повод другому советскому поэту, Пастернаку, обратиться к его загробной тени с намеком на что-то даже очень возвышенное:
- Твой выстрел был подобен Этне
- В предгорье трусов и трусих!
Казалось бы, выстрел можно уподоблять не горе, а какому-нибудь ее действию – обвалу, извержению… Но поелику Пастернак считается в советской России, да многими и в эмиграции тоже, гениальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним гениальным поэтам <…>.
(Бунин И.А. Воспоминания: Маяковский // Бунин И.А. Полное собрание сочинений: в 13 т. М., 2006. Т. 9. С. 161–162)
Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта. Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству. Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг – конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланью защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить крестьянский журнал. Открывали выставку двадцатилетней работы, исхлопатывали заграничный паспорт. Но другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом. <…>
Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный мир? «Просят не курить». «Просят дела излагать кратко». Разве это не истины?
«Этот? Повесится? Будьте покойны». – «Любить? Этот? Ха-ха-ха! Он любит только себя».
Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рожденье? Так это смерть?
(Пастернак Б.Л. Охранная грамота)
Поводов для письма нет, кроме одного. Я боюсь, что, если не напишу сейчас, этого никогда больше не случится. Итак, я почти прощаюсь. Не пугайтесь, это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит из самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилен сдвинуть ее с мертвой точки: я не участвовал в созданье настоящего и живой любви у меня к нему нет. Что всякому человеку положены границы и всему наступает свой конец – отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив, я не знаю, что со мной будет.
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 1 июня 1930 г. // Пастернак Б.Л. Пожизненная привязанность: переписка с О.М. Фрейденберг. С. 167)
«Ты как будущность войдешь…»
…Ирина Сергеевна[166] радостно прибежала к нам и сообщила, что познакомилась с Пастернаком. Знакомство было оригинальным: узнав по портрету Пастернака, лицо которого было не совсем обычным, она подошла к нему на трамвайной остановке и представилась. Она сказала ему, что муж и она – горячие поклонники его поэзии, и тут же пригласила его к ним в гости. Он обещал прийти в один из ближайших дней. Ирина Сергеевна хотела, чтобы мы обязательно были у них. Я была уверена, что Пастернак не придет, попросила Генриха Густавовича[167] пойти без меня и осталась дома с детьми. Оказалось, что Пастернак все же пришел и просидел с ними всю ночь.
(Пастернак З.Н. Воспоминания // Пастернак Б.Л. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. М., 1993. С. 259–260)
– А вот и наш Гарик! – возвестила Ирина Сергеевна.
С шутливой польской грацией он calye renczki (целует ручки) хозяйке дома, своей жене Зинаиде Николаевне, а также Евгении Владимировне Пастернак и ласково пожимает руки сильному полу.
– Как я рад, что Ирочка придумала эту встречу, – говорит он Пастернаку с легким польским акцентом или, скорее, интонацией. <…>
Разговор начался с заявления Ирины Сергеевны, что она изо всех поэтов-современников больше всех любит Пастернака и Белого. Пастернак тут же произнес панегирик Андрею Белому – не без сделки с собственной критической совестью: он еще совсем недавно говорил мне об излишней склонности Белого к экспериментированию, что, как он утверждал, «противоречит природе искусства», которое всегда должно быть безусловным, «не пробою сил, а непреложным осуществлением». Не прерывая монолога, Борис Леонидович тут же заговорил о Скрябине <…>. Он говорил много, сбивчиво и вдохновенно. И вдруг перескочил на Шопена, заявив, что он учится у него реализму…
(Вильмонт Н.Н. О Борисе Пастернаке: воспоминания и мысли. С. 139–141)
…Единственная отрада нашего существования – это разнообразные выступления последнего моего друга (то есть друга последнего года) – Генр. Нейгауза, и у нас, нескольких его друзей, вошло в обычай после концерта остаток ночи проводить друг у друга. Устраиваются обильные возлияния с очень скромной закуской, которую по техническим условиям достать почти невозможно. Последний раз он играл с Кенеманом <…>. Потом до 6-ти часов утра пили, ели, играли, читали и танцевали фокстрот в Шуриной и Ирининой комнате; а Федичку[168] к Жене перенесли.
(Б.Л. Пастернак – Р.И. Пастернак, 6 марта 1930 г.)
Сразу припомнилось, как недавно, подходя со мною к дому, в партере которого проживали Асмусы, Пастернак с мальчишеской прытью подбежал к окну и потом с наигранной «мужской грубоватостью» воскликнул, умерив свой гулкий голос:
– А Нейгаузиха уже здесь!
И чтобы простонародно-южнорусское женское окончание фамилии не показалось мне принадлежностью одной лишь Зинаиды Николаевны, поспешил что-то сказать об Ирине Сергеевне, назвав и ее на этот раз Асмусихой. Это и тогда меня поразило, но как-то не укрепилось в сознании. Вспомнилось и другое. Как однажды, когда в комнате из сторонних остался только я, да и то листавший какую-то книгу, он вполголоса сказал Зинаиде Николаевне:
– Не старайтесь привыкать к моим стихам; они того не стоят. Я напишу другие, где все будет понятно.
(Вильмонт Н.Н. О Борисе Пастернаке: воспоминания и мысли. С. 147)
..Мне туго работалось последнее время, в особенности в эту зиму, когда город попал в положенье такой дикой и ничем не оправдываемой привилегии против того, что делалось в деревне, и горожане приглашались ездить к потерпевшим и поздравлять их с их потрясеньями и бедствиями[169]. До этой зимы у меня было положено, что, как бы ни тянуло меня на Запад, я никуда не двинусь, пока начатого не кончу. Я соблазнял себя этим, как обещанной наградой, и только тем и держался.
Но теперь я чувствую – обольщаться нечем. Ничего этого не будет, я переоценил свою выдержку, а может быть, и свои силы. Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и не знаю когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть, поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец. Я произвел кое-какие попытки и на первых же шагах убедился, что без Вашего заступничества разрешенья на выезд мне не получить. Помогите мне, пожалуйста, – вот моя просьба.
(Б.Л. Пастернак – А.М. Горькому, 31 мая 1929 г.)
…Просьбу Вашу я не исполню и очень советую Вам не ходатайствовать о выезде за границу – подождите! Дело в том, что недавно выехал сюда Анатолий Каменский и сейчас он пишет гнуснейшие статейки в «Руле», читает пошлейшие «доклады». Я уверен, что это его поведение – в связи с таким же поведением Вл. Азова – на некоторое время затруднит отпуски литераторов за рубеж. Всегда было так, что за поступки негодяев рассчитывались приличные люди, вот и для Вас наступила эта очередь. Желаю всего доброго!
(А.М. Горький – Б.Л. Пастернаку, июнь 1929 г. // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1986. № 3. С. 280–281)
Сейчас все живут под очень большим давлением, но пресс, под которым протекает жизнь горожан, просто привилегия в сравненье с тем, что делается в деревне. Там проводятся меры широчайшего и векового значенья, и надо быть слепым, чтобы не видеть, к каким небывалым государственным перспективам это приводит; но, по-моему, надо быть и мужиком, чтобы сметь рассуждать об этом, то есть надо самому кровью испытать эти хирургические преобразования; со стороны же петь на эту тему еще безнравственнее, чем петь в тылу о войне. Вот этим и полон воздух.
(Б.Л. Пастернак – Л.Л. Пастернак, 9 января 1930 г.)
…Инициативу летнего устройства взяла в свои руки Зинаида Николаевна Нейгауз. Она сняла нам и Шуре с Ириной дачи под Киевом, в Ирпене, куда они сами собирались вместе с Асмусами. Ехали с посудой, бельем и тюфяками в узлах. Обычно нас собирал папа, удивительным образом умея упаковывать кучи разнообразных предметов в небольшие объемы. На этот раз в сборах чувствовались неуверенность и, может быть, некоторые сомнения в целесообразности такой далекой поездки. Папа, как всегда, задерживался в Москве в ожидании получения денег для приведения в порядок комнаты после нашего отъезда и, главное, хлопот по поводу нашей поездки в Германию. <…> Папа обратился к Горькому за помощью в разрешении на поездку за границу. Он писал ему в Сорренто 31 мая, что, откладывая свидание с родителями с года на год в надежде закончить начатые работы, он переоценил свою выдержку и силы: «Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и не знаю когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть, поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец». Но Горький не поддержал его попыток и посоветовал отказаться от своего намерения. Недавно опубликована переписка Горького с Г.Г. Ягодой, где в одном из писем от начала июня 1930 года Горький сообщал своему адресату, что отказал в просьбе Пастернака, боясь, что тот в силу своего «безволия» поддастся влиянию эмигрантской печати <…>. Так разлетелись планы нашей совместной поездки с папой в Германию и, вероятно, его последняя возможность увидеться со своими родителями.
Мне смутно вспоминается наш переезд в Ирпень с пересадкой в Киеве как нечто ужасное. Вагоны брали с боя, втаскивая огромные тюки вещей. На станциях стояли толпы ожидающих. Такого я еще не видал.
Первые впечатления от Ирпеня, которыми делились мама и Ирина, тоже граничили с отчаянием, но папа надеялся, что на Украине будет легче с продовольствием, чем под Москвой.
(Пастернак Е.Б. Понятое и обретенное. С. 366–367)
Все просили меня, любительницу путешествовать, поехать снять всем дачи. Выбор остановился на Ирпене. Собрали деньги на задаток, и я отправилась в путь. Я сняла четыре дачи: для нас, Асмусов, Пастернака Бориса Леонидовича с женой Евгенией Владимировной и для его брата – Пастернака Александра Леонидовича с женой Ириной Николаевной <…> Как всегда, надо было искать в Киеве рояль для Генриха Густавовича и перевозить его на подводе в Ирпень. Дачи А.Л. и И.Н. Пастернаков и наша были рядом, а Б.Л. Пастернаку с женой и Асмусам я намеренно сняла подальше. Не помню уже точно, что побудило меня это сделать – вернее всего, ощущение опасности для меня частого с ними общения.
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 261)
Попав на дачу с ее «лесной капеллой», колодцем и темными вечерами, ничем не просветляемыми за недостатком керосина, я был оздоровлен в сутки не близостью прекрасного сада, а прежде и разительнее всего превосходством дачного комфорта по сравненью с квартирными условьями Москвы. Тут три комнаты с настоящими стенами, и в доме живут только две семьи: мы и хозяева. Вы себе не представляете, что это значит. Мысль о возвращеньи в город меня ужасает. Я хотел бы со всей полнотой воспользоваться не только рекой, лесом, солнцем и воздухом, но и настоящей квартирой, достойной званья человеческого жилища..
(Б.Л. Пастернак – родителям, 26 июля 1930 г.)
О Генрихе Нейгаузе (профессоре музыки, замечательном пианисте) и о его жене я Вам еще не раз сообщу, пока у меня останется счастливая возможность писать Вам, и если речь зайдет о самых, вероятно, существенных чувствах, которые я должен буду углубить и распутать будущей зимой, зимой, как предполагают, гибельной[170].
(Б.Л. Пастернак – Р. Роллану, 18 сентября 1930 г.)
А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался в весеннем письме к вам, – работа, вдруг как-то отошла на солнце, и мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно, мир совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества гамсуновского Голода, но мир здоровый и ровный.
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 20 октября 1930 г.)
Вихрь застиг ее с уже набранной водой в обоих ведрах, с коромыслом на левом плече. Она была наскоро повязана косынкой, чтобы не пылить волос, узлом на лоб «кукушкой», и зажимала коленями подол пузырившегося капота, чтобы ветер не подымал его. Она двинулась было с водою к дому, но остановилась, удержанная новым порывом ветра, который сорвал с ее головы платок, стал трепать ей волосы и понес платок к дальнему концу забора, ко все еще квохтавшим курам. Юрий Андреевич побежал за платком, поднял его и у колодца подал опешившей Антиповой. Постоянно верная своей естественности, она ни одним возгласом не выдала, как она изумлена и озадачена.
(Пастернак Б.Л. Доктор Живаго)
Я застал их у колодца. Вооруженная багром, Зинаида Николаевна безостановочно баламутила колодезную воду, неотрывно глядя на что-то горячо говорившего ей Бориса Леонидовича.
(Вильмонт Н.Н. О Борисе Пастернаке: воспоминания и мысли. С. 168)
Я была сконфужена, когда Пастернак тащил ко мне вязанки хвороста. Я уговаривала его бросить, и он спросил: «Вам стыдно?» Я ответила: «Да, пожалуй». Тут он мне прочел целую лекцию. Он говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть. По его наблюдениям, я это хорошо понимаю, так как могу от рояля перейти к кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат настоящей поэзией.
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 264)
Преступным образом я завел то, к чему у меня нет достаточных данных, и вовлек в эту попытку другую жизнь и вместе с ней дал начало третьей. Улыбка колобком округляла подбородок молодой художницы, заливая ей светом щеки и глаза… Когда разлитье улыбки доходило до прекрасного, открытого лба, все более колебля упругий облик между овалом и кругом, вспоминалось итальянское Возрождение. Освещенная извне улыбкой, она очень напоминала один из женских портретов Гирландайо. Тогда в ее лице хотелось купаться. И так как она всегда нуждалась в этом освещеньи, чтобы быть прекрасной, то ей требовалось счастье, чтобы нравиться. Скажут, что таковы все лица. Напрасно – я знаю другие. Я знаю лицо, которое равно разит и режет и в горе, и в радости и становится тем прекрасней, чем чаще застаешь его в положеньях, в которых потухла бы другая красота. Взвивается ли эта женщина вверх, летит ли вниз головою, ее пугающему обаянью ничего не делается, и ей нужно что бы то ни было на земле гораздо меньше, чем она сама нужна земле, потому что это сама женственность, грубым куском небьющейся гордости вынутая из каменоломен творенья…
(Пастернак Б.Л. Охранная грамота)
Ничего лучшего, а главное, более возвышенно точного нельзя было сказать о Зинаиде Николаевне. <…> Я не раз видел Зинаиду Николаевну в самых мучительных положениях и всегда вспоминал сказанные о ней пастернаковские строки. Я застал ее в Переделкине, постаревшую и изнуренную тяжкой болезнью. Она лежала в постели. Но на подушке высилась все та же гордая итальянская голова (урожденная Еремеева, дочь русского генерала инженерной службы, умершего еще до революции, она по матери – итальянка). На одеяле покоились ее обнаженные, все еще в меру полные руки, удивительно, по-античному изваянные природой. Все о ней сказанное поэтом оставалось в силе. Такова точность Искусства.
(Вильмонт Н.Н. О Борисе Пастернаке: воспоминания и мысли. С. 183)
Я хорошо помню, как на одном из концертов Нейгауза, когда Борис Леонидович уже ухаживал за Зинаидой Николаевной, я увидел их в комнате перед артистической в Консерватории. Зинаида Николаевна сидела, подняв лицо к Пастернаку, а он, наклонившись к ней, что-то говорил. Я никогда не забуду этого поворота головы, ее профиля. Так она была прекрасна.
(Фальк Р. [Воспоминания] // Воскресенская Ц. Что вспомнилось… // Чистопольские страницы. Казань, 1987. С. 145)
Женя большая первое время очень хорошо себя чувствовала тут, у нас был роман с ней и она работала не менее моего успешно. Сделала несколько карандашных портретов с большим сходством и технической свежестью, прекрасный масляный этюд дуба с солнечным передним планом и тенистою заглохшею глубиной заднего, очень хороший натюрморт и много другого.
(Б.Л. Пастернак – родителям, 11 сентября 1930 г.)
- Годами когда-нибудь в зале концертной
- Мне Брамса сыграют, – тоской изойду.
- Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,
- Прогулки, купанье и клумбу в саду.
- Художницы робкой, как сон, крутолобость,
- С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб,
- Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
- Художницы облик, улыбку и лоб.
- Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся,
- Я вспомню покупку припасов и круп,
- Ступеньки террасы и комнат убранство,
- И брата, и сына, и клумбу, и дуб.
- Художница пачкала красками трву,
- Роняла палитру, совала в халат
- Набор рисовальный и пачки отравы,
- Что «Басмой» зовутся и астму сулят.
- Мне Брамса сыграют, – я сдамся, я вспомню
- Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
- Балкон полутемный и комнат питомник,
- Улыбку, и облик, и брови, и рот.
- И сразу же буду слезами увлажен
- И вымокну раньше, чем выплачусь я.
- Горючая давность ударит из скважин,
- Околицы, лица, друзья и семья.
- И станут кружком на лужке интермеццо,
- Руками, как дерево, песнь охватив,
- Как тени, вертеться четыре семейства
- Под чистый, как детство, немецкий мотив.
…Он сказал мне всю правду: он не представляет себе, как все сложится дальше, но какие бы выводы я ни сделала, он оствляет свою жену, так как жить с ней больше не может ни одного дня. Я говорила ему, что он преувеличивает, что нам обоим нужно бороться с этим чувством, что я никогда не брошу Генриха Густавовича и своих детей. Но все, что я ни делала для того, чтобы его оттолкнуть, приводило к обратному.
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 268)
После объяснений с мамой в середине января 1931 года папа ушел из дома. Всю последующую жизнь мама страдала, вспоминая, что велела ему уйти, когда он откровенно сознался, что полюбил другую и не в силах разлюбить. Ей мучительно было думать, что она сама прогнала его, вместо того чтобы бороться за него и его отстоять.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминаня] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 324)
Ты помнишь зимний вечер, когда невозможность дальше жить вместе встала передо мною с такой тоской, что ясности насильственного конца, пережитого в воображеньи, и мысли, что с тобою, близкой и любимой, я успею проститься, а с Зиной, страшно любимой той недомашней, убийственно мгновенной любовью, какую можно проверить именно мигом прощанья со всею жизнью и со всею землей, проститься не успею, было достаточно, чтобы я разрыдался и все при этом обнаружилось.
(Б.Л. Пастернак – Е.В. Пастернак, начало декабря 1931 г.)
Я оставил семью, жил одно время у друзей[171] (и у них кончил «Охранную грамоту»), теперь у других (в квартире Пильняка), в его кабинете. Я ничего не могу сказать, потому что человек, которого я люблю, несвободен, и это жена друга, которого я никогда не смогу разлюбить. И все-таки это не драма, потому что радости здесь больше, чем вины и стыда.
(Б.Л. Пастернак – С. Спасскому, 15 февраля 1931 г.)
Разрыв
Родная моя, удивительная, бесподобная, большая, большая!
Сегодня тридцатое, сейчас утро. Мне хочется все это запомнить. Все ушли из дому, я один с Аидой в Борисовой квартире[172]. Вчера были гости, утром стол стоял еще раздвинутый на обе доски под длинной белой скатертью, весь солнечный, заставленный серебром и зеленым стеклом, с двумя горшками левкоев, дверь на балкон была открыта, там тоже были солнце, стекло и зелень.
Через час я пойду к Жене и проведу у нее часть дня, больше, чем бывал там эти месяцы, когда забегал к ней редко и лишь на минутку.
Этим начнется наше прощанье с ней. Я не знал, что оно будет так легко. Что оно будет ясною спокойной весной, среди стихов, вызванных чем-либо столь огромным, маловероятным, очевидным, как ты, со взглядом, открыто и просто вперенным в наше время, с такою верой в землю и ее смысл.
Я не знал, что перед разлукой с ней буду полон чем бы то ни было, подобным тебе, буду переполнен тобою, буду разливать тебя, упрощающую все до полного счастья – все, чего касается твое влияние, все, на что падает твоя волна. Я не знал, что буду избавлен при прощаньи от душевных подмен, от легкости нелюбви или прирожденного бесчувствия, – но что это будет ничем не омраченное светлое прощанье с дорогим: в мире, равном себе везде, везде живом и милостивом, равном себе без конца, верном и полном тобою.
Но я пишу отсюда ради места, откуда пишу. Скоро я отсюда уеду. Давай запомним утро, и обстановку, и тишину дома в отсутствие О.С. и Е.И.[173], которые наполняют его своей отлучкой в город так, точно наполняют его моими мыслями о них, моей благодарностью им и удивлением перед ними, перед этими замечательными женщинами, ставшими мне, если бы они даже этого не приняли, – матерью и сестрой.
И все это ты, все это ты, все это ты!
(Б.Л. Пастернак – З.Н. Пастернак, 30 апреля 1931 г.)
Дорогой мой друг Женичка!
Ты сегодня в пути, завтра к вечеру буду ждать телеграммы[174]. Разумеется, буду беспокоиться, и на этот раз еще больше обычного.
Все так устроено, что для того чтобы быть твердым, надо быть безжалостным. Но нет, нет и нет, я с этим порядком не мирюсь. Что-то глубоко искажено в нем, и – лучшее, что есть в жизни. Ты высоко и просветленно стоишь во мне в эти дни; мне грустно; я устал. И в то же время я хорошо и сильно люблю Зину, и это не только совместимо, но и неотделимо друг от друга: в моем сознаньи она и Г<енрих> Г<уставович> – люди, с которыми я всего родней могу говорить о тебе, они чтят тебя, они косвенно пережили тебя и все твое так, как никто, – исключая меня, разумеется.
На каждом шагу трогает порядок, заведенный тобой, следы твоей заботливости. Часто слышу твой и Женечкин голос: мерещится в не различимом издали шуме женских и детских голосов за стеной и в столовой. Так легко поддаться особой, каждому известной, болезненной и полусумасшедшей печали: она бесплодна, она не обогащает, не разрывается творчеством; убить нас во славу близких – вот все, к чему она ведет и на что способна. Но эти жертвоприношенья – от слабости. Не надо строить сердечную правду на них. Ты на меня сердишься? Ты недовольна? Но я хотел написать тебе; желанье было от ласковости мыслей о тебе; и я тебе пишу ласково, как думаю.
Жизнь должна тебе улыбнуться так же, как мне. Ты такая хорошая, ты так это заслужила! Ты вся истерзана сейчас, а чем богаче изболевшийся человек, тем он кажется себе беднее. Оттого ты и цепляешься за меня, т. е. уверила себя, что любишь меня больше всех возможных возможностей. Последние же придут со здоровьем.
(Б.Л. Пастернак – Е.В. Пастернак, 6 мая 1931 г.)
Я уехала из Москвы, я помнила твои слова: ты и Женичка моя семья, я не заведу себе другой, Зина не войдет в мою жизнь, эта радость – весна, с которой я не могу сейчас бороться, – и помнила, как ты ходил в последний день со мной по улице, как ты всем и каждому говорил: это моя жена, как будто жизнь наша начиналась вновь, ты надел кольцо в тот день. Ты незадолго до моего отъезда говорил мне, что возвращаешься домой, и на вопрос мой: «Потому ли что я уезжаю», – ответил, что нет, – это было в тот день, когда была Сарра Дмитриевна[175]. Я не писала тебе, я не хотела тебе мешать, я думала, что где-нибудь, на каком-нибудь углу ты найдешь нас снова и напишешь, что без нас тебе жить трудно, и очертя голову я брошусь к тебе навстречу. Я так глубоко верила (потому что любила тебя и нашу жизнь с Женичкой), что не может быть, чтоб ты не вернулся, так уже давным-давно при Шуре и Ирине я расставалась с тобой, веря, что ты от нас не уйдешь. Зачем ты сейчас говоришь, что наша жизнь для меня была пыткой, зачем сейчас уверяешь в этом других, было многое и разное, но связь наша, дружба и жизнь крепла. Ведь проще всего вспомнить последнее лето – все вначале были несчастны, я была спокойна, а когда ты приехал, счастлива, люди ворвались в нашу жизнь – ты ее не защитил.
(Е.В. Пастернак – Б.Л. Пастернаку, конец ноября 1931 г. Берлин // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 351–352)
Не бойтесь за Женю. Я не расхожусь с ней: в моем языке нет слова «навсегда». На то ли на свете человек, чтобы к роковым вещам, как смерть, болезнь и прочее, прибавлять фатальности своего изделья? Я всегда видел его призванье в посильном уменьшении рока, в освобожденьи того, что можно освободить. И это не взгляд мой, не убежденье. Это я сам. Так прожил я эти два месяца. Так сошелся когда-то с нею и любил, и думал устроить жизнь, и ничему не научил. Она любит меня не щадя себя, самоубийственно, деспотически и ревниво. На нее страшно глядеть, за эти два месяца она спала с лица и переживает все это, как в первый день. Любить меня так значит ничего не понимать во мне. Я ее не упрекаю – разве она исключенье?
(Б.Л. Пастернак – родителям, 8 марта 1931. Москва)
- Пока мы по Кавказу лазаем,
- И в задыхающейся раме
- Кура ползет атакой газовою
- К Арагве, сдавленной горами,
- И в августовский свод из мрамора,
- Как обезглавленных гортани,
- Заносят яблоки адамовы
- Казненных замков очертанья,
- Пока я голову заламываю,
- Следя, как шеи укреплений
- Плывут по синеве сиреневой
- И тонут в бездне поколений,
- Пока, сменяя рощи вязовые,
- Курчавится лесная мелочь,
- Что шепчешь ты, что мне подсказываешь, —
- Кавказ, Кавказ, о что мне делать?
- Объятье в тысячу охватов,
- Чем обеспечен твой успех?
- Здоровый глаз за веко спрятав,
- Над чем смеешься ты, Казбек?
- Когда от высей сердце ёкает
- И гор колышутся кадила,
- Ты думаешь, моя далекая,
- Что чем-то мне не угодила?
- И там, у Альп в дали Германии,
- Где так же чокаются скалы,
- Но отклики еще туманнее,
- Ты думаешь, – ты оплошала?
- Я брошен в жизнь, в потоке дней
- Катящую потоки рода,
- И мне кроить свою трудней,
- Чем резать ножницами воду.
- Не бойся снов, не мучься, брось.
- Люблю и думаю и знаю.
- Смотри: и рек не мыслит врозь
- Существованья ткань сквозная.
На протяжении десятилетий, протекших с напечатания «Охранной грамоты», я много раз думал, что, если бы пришлось переиздать ее, я приписал бы к ней главу о Кавказе и двух грузинских поэтах. Время шло, и надобности в других дополнениях не представлялось. Единственным пробелом оставалась эта недостающая глава. Сейчас я напишу ее.
Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женою Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.
Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.
Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианизма символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая. Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде настигающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Козлиное блеяние волынки и каких-то других инструментов. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен.
(Пастернак Б.Л. Люди и положения)
В августе мы переехали в Кобулеты на Черное море, где познакомились с Симоном Чиковани и Бесо Жгенти. Мы жили с ними в одной гостинице. Здесь Борис Леонидович написал «Волны» и читал их вслух. Меня удивило, что через три дня все грузинские поэты, несмотря на недостаточное знание русского языка, запомнили эти удивительные стихи наизусть. Они любили Пастернака больше всех современных поэтов, носили его на руках…
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 272)
Чудный солнечный день – и ни одной близкой души[176]. Ко мне тут очень хорошо относятся – но вдруг чувствую, что все чужое, чужое – о как печально и одиноко. Возьмите меня к себе. Мне близкой могла бы быть Жозефина – сестра Б.Л. Но она нервно больна, а я сплошное волнение. Я приняла 7 кило и думала, что больше не буду плакать, но вот уже два дня, как опять то и дело подступают рыданья, но иначе, чем раньше. В Москву я не вернусь.
(Е.В. Пастернак – Р.Н. Ломоносовой, 2 августа 1931 г. // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 331)
Когда десять раз на дню я поражаюсь тому, как хороша З.Н., как близка она мне работящим складом своего духа, работящего в музыке, в страсти, в гордости, в расходованьи времени, в мытье полов, в приеме друзей из Тифлиса, – как при большой красоте и удаче проста и непритязательна, и пр., и пр., я никогда не могу отдаться этому восхищенью совершенно неомраченно. Значит ли из того, что она так прекрасна, что Женя дурна? О никогда, никогда! – И как бы беспредельно был бы я счастлив, если бы большинство человеческих голов не было устроено, как учебники формальной логики, и для них всякое положенье не означало бы основанья для вывода, исключающего противоположное утвержденье.
Нет, нет, всякий раз, устрашаясь этого рассудочного духа, призраком витающего повсюду и сосущего силлогизмы изо всего живого, я в одиночестве, когда З.Н. на полдня уходит с сыном вниз, чтобы мне лучше работалось, и я всего удивленнее думаю о ее прелести, я всегда с тоской останавливаюсь у этой убийственной черты, обязательной для черствых дураков, и с виноватой нежностью думаю о Жене, и всю ее вновь с первого дня перепроверяю. Клянусь жизнью той же З<ины>, самого высокого и дорогого, что есть у меня на свете, – мне Женю не в чем упрекнуть. Я душевно люблю ее, она ни в чем не виновата. Но – положа руку на сердце, – не виноват и я, что жизни устроить мы не сумели. Другими словами – и не надо бояться этих слов, любить так, как надо, чтобы делить в нашем случае существованье, мы друг друга не любили. И наверное, в этом виноват я, но с другой стороны, зачем стал бы я заводить эту вину, если бы она не завелась естественно? Так или иначе, но мы любили друг друга как-то по-другому, и так, хочу я сказать, как это возможно только сейчас, существуя врозь, открыто и широко дружа и ничем не вызывая друг в друге ощущенья даром понесенной и другим не оцененной жертвы.
(Б.Л. Пастернак – Ж.Л. Пастернак, 30 июля 1931 г.)
Я не хочу шататься по миру, я хочу домой. Я за девять лет привыкла быть вместе, и это стало сильнее меня. Я хочу, чтобы ты восстановил семью. Я не могу одна растить Женю. Если вопреки всей правде ты не хочешь быть с нами вместе, возьми, но не в будущем, а сейчас, Женю. Учи его понимать мир и жизнь. Я не могу, у меня выдернут стержень, у меня все изболелось. Когда, просыпаясь утром, вдруг и как только он умеет попадать прямо в твой сон, с которым ты не успела еще расстаться, он говорит: «Мама, но мы не останемся здесь, мы вернемся домой в Москву», я реву и на целый день лишаюсь рассудка. Я хочу иметь дом, он подслушал мою тоску, мое одиночество.
(Е.В. Пастернак – Б.Л. Пастернаку, 1 ноября 1931 г. // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 344–345)
Дорогой Боря! Сколько тебе писать надо бы, и по разным вопросам, и ужасно то, что наперед знаешь, что это зря, ни к чему, ибо ты и вообще вы все делаете, не думая наперед о последствиях и безответственно и, конечно, тебя также очень жаль и особенно нам – до того ты, несчастный, сам запутался!! И вместо того чтобы по возможности распутывать и до возможных пределов уменьшать обоюдные страдания, ты еще больше запутываешь и ухудшаешь! Зачем ты Жене пишешь такие письма, которые она принимает не так, как ты хотел бы, а так, как ей хочется, то есть письма твои носят характер влюбленности настоящей, действительность же и факты говорят противное. Как ты себе представлял и представляешь – не говоря о Жене, но несчастного Жененка, который попадет не на Волхонку, а в какое-нибудь другое место и что она ему сможет на его умные и взрослые (он ведь удивительно тонко чувствует) вопросы ответить? И поэтому я и мама повторяем еще раз и убедительно просим тебя, как и З<инаиду> Н<иколаевну>, на эту просьбу и совет обратить сугубое внимание – эта просьба единственное, что может хоть временно облегчить общее несчастье. Вы обязательно должны сейчас же уехать оба в Ленинград, скажем, и освободить эту комнату. Если она – Женя с ребенком сможет с вокзала въехать в свой угол, то это уже будет некоторым душевным облегчением <…> Потом: имей мужество не быть двойственным перед нею. Это ее убивает.
(Л.О. Пастернак – Б.Л. Пастернаку, 18 декабря 1931 г. // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 361–362)
Папа твой тоже, видя, что я кое-как справляюсь, что деньги у меня пока есть, тоже мне сказал, что если я и правда о работе мечтаю, то место мне только в Париже. <…> Два месяца я ждала, когда получила визу, тоска по тебе была так велика, что я позвонила, и тут случилось, – как же мне было собираться в Париж, когда все тянуло домой, а ты говорил с Волхонки, ты все угадал, но я действительно пошла ко дну, начались ночи напролет с тобою, когда я просыпалась с диким страхом, понимая, что ты на Волхонке и не один, что я никогда никуда не доеду, потом начались боли под ложечкой, в затылке, потом сознание, что Женя все видит, понимает, что я ради него не могу себя победить. Я умоляла папу и маму взять нас на время к себе, что мне очень больно, очень страшно, они плакали, они трогательные и страшно хорошие, но они были очень напуганы тем, что со мною вдруг случилось. С трудом для себя взяли Женичку, а меня врач отправил в Sanatorium, где мне что-то впрыскивали, массировали, давали пилюли от страха. Через 10 дней оттуда уехала, я пришла немного в себя, там было очень дорого. <…> Подождали, пока я немного пришла в себя, теперь вчера дали мне письма. Как же я могу с тобой когда-нибудь увидеться, когда ты, как что-то очень счастливое, преподносишь – остаться с Зиной, взять Женичку, что Ирина с Шурой не понимали, как это ты хотел к нам вернуться. В состоянии тоски и отчаяния я писала тебе письма об осени, о том, что все возвращаются домой, – что ж ты, значит, решил, что наш дом с тобой уже не наш, что можно и без меня. Зачем же, зачем же мне тогда с тобою видеться, ведь ты уже решил, что у нас дома нет.
(Е.В. Пастернак – Б.Л. Пастернаку, конец ноября 1931 г. // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 354)
В ожидании нашего возвращения папа кинулся в Ленинград в поисках квартиры для себя с Зинаидой Николаевной. Ранее его поражали там более свободные и благополучные жилищные условия, сравнительно с московскими. Найти квартиру в Москве было абсолютно безнадежно; на Ленинград, куда его тянуло со времени Тайц[177], он еще возлагал некоторые надежды, оказавшиеся тщетными. Нам с мамой возвращаться было некуда.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 350)
Мы оба, я и Борис Леонидович, были в легкомысленном настроении и ничего не соображали, куда мы денемся в Москве. <…> Борис Леонидович уговаривал меня поехать на Волхонку, так как жена была еще за границей, и он не представляет себе, где нам еще жить. <…> На Волхонке мы прожили уже целый месяц, когда до жены Бориса Леонидовича, находившейся с сыном в Германии, дошли слухи, что он живет со мной уже как с женой, и она прислала телеграмму, извещающую о ее возвращении. Нам надо было немедленно освобождать квартиру. Пришлось переехать к Александру Леонидовичу на Гоголевский бульвар. <…> Там было тесно, и мы спали на полу. Как всегда, первым пришел на помощь Генрих Густавович, он взял Адика и Стасика к себе, и у меня началась трудная и в нравственном, и в физическом смысле жизнь. С утра я ходила в Трубниковский, одевала и кормила детей, гуляла с ними, а вечером оставляла на гувернантку. Мне было очень тяжело…
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 272–273)
Быстро темнело, это были самые короткие дни в году. На темном московском перроне стоял папочка с лицом, мокрым от слез, что я почувствовал, когда он поднял меня, чтобы поцеловать. Носильщик, такси. Вещи втащили в нашу квартиру на Волхонке. Было холодно и неуютно, из разбитых и заклеенных бумагой окон дуло. Ощущение чужого дома, никакой радостной встречи всей квартиры, как прошлый раз. На столе нас ждал остывший ужин: картошка с селедкой. Но страшнее всего был вид из окон, куда меня подвел папочка. В лунном и фонарном свете громоздились груды каменных глыб и битого кирпича от недавно взорванного храма Христа Спасителя. В соседней комнате я увидел две полузастеленные кроватки. Вскоре должна была прийти Зинаида Николаевна с детьми. Может быть, папа думал, что мы будем жить в освободившейся Шуриной[178] комнате, но это было совершенно нереально.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 363)
Целую зиму все по-разному рассовывались и перетасовывались. Зинаида Николаевна перевезла мальчиков в Трубниковский к Генриху Густавовичу и приходила к ним днем, чтобы за ними ухаживать и кормить. Вечером, уложив их спать, она возвращалась к Шуре, который приютил их с папой в своей новой квартире на Пречистенском бульваре, в которой еще шла внутренняя отделка. Они спали на полу в той же комнате, где Ирина и Шура. Мы переехали на Волхонку, но одну из наших перегороженных комнат занимала подруга Зинаиды Николаевны Вера Васильевна Смирнова с тяжелобольной дочерью Иришкой. Мама учила ее рисовать и присматривала за ней, когда Вера Васильевна уходила на службу. Первой не выдержала Зинаида Николаевна и вернулась к Нейгаузу.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 364)
Вид у него был ужасный! На лице было написано не только страдание и мучение, а нечто безумное. Он прошел прямо в детскую, закрыл дверь, и я услышала какое-то бульканье. Я вбежала туда и увидела, что он успел проглотить целый пузырек йоду. К счастью, напротив нашей квартиры, на той же площадке жил врач, еще не посмотрев на Бориса Леонидовича, он крикнул: «Молоко! Скорей поите холодным молоком!» Молоко было у меня всегда в запасе для детей, и я заставила его выпить все два литра, оказавшиеся на кухне. Все обошлось благополучно. <…> Генрих Густавович был потрясен случившимся и сказал Борису Леонидовичу, что уступает ему меня навсегда, но он должен придумать такую форму существования, при которой я смогу жить спокойно, ничего не опасаясь.
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 275)
…За всю жизнь я, наконец, узнал год совершенного счастья и здоровья и естественной рвущейся к людям сердечности, и папа взвесил, возмутился и восстановил справедливость, и этот год сорвался под отвес какой-то нервной горячки, подобной которой никогда ничего не знал и я. И если даже что-нибудь восстановимо, то я никогда не выйду из круга перекрестных страданий, которые были бы все равно, но были бы в миллион раз мягче для всех, если бы папа не был так справедлив, если бы он не ограничился своей правотою. – Мне отпер Г<енрих> Г<уставович>. «Der spt kommende Gast?[179]», – кажется, сказал он – я плохо расслышал. Я прошел к З<ине>. Она спросила меня, что нового, с чем я явился. Мне трудно было что-либо оформить. «Что же ты молчишь?» – сказала она и вышла запереть за Г.Г., он отправился на сборный концерт. Я увидал на аптечной полочке флакон с йодом и залпом выпил его. Мне обожгло глотку, у меня начались автоматические жевательные движенья. Вяжущие ощущенья в горловых связках вызывали их. – «Что ты жуешь? Отчего так пахнет йодом? – спросила Зина, воротясь. – Где йод?» – и закричала, и заплакала, и бросилась хлопотать. Меня спасло то, что она на войне была сестрой милосердия. Первую помощь подала она, потом побежала за доктором…
(Б.Л. Пастернак – Ж.Л. Пастернак, 11–27 февраля 1932 г.)
Я с Зиной. Она очень хороша, и я ее очень люблю. Но Женёнок все еще не успокоился, очень тоскует по мне и заметно чахнет. Это ужасно. Это убивает меня и ради одного него надо было бы все переделать. Но единственное разрешенье, в виде детской мечты исходящее и от него, – мое возвращенье – пока немыслимо, потому что я его не проведу, не осилю, оно мне не удастся, и это будет еще хуже. Во все это как-то вмешается судьба, это все разрешится не сейчас и как-то по-другому.
(Б.Л. Пастернак – Ж.Л. Пастернак, 10 апреля 1932 г.)
Папа часто бывал у нас, но это вызывало у мамы истерики. Желая защитить ее, я плакал и кричал: «Когда это кончится? Так нельзя, ты должен вернуться! Я просто тебя не выпущу». У меня было даже припрятано полено, на тот случай, чтобы он у меня не вырвался. Я всегда относился к отцу с обожанием. Я и тогда хорошо понимал, что прекраснее, умнее и добрее его человека не существует. Для меня весь мир делился на него и всех остальных людей. Несмотря на все, так же это было и для мамочки. После их расставания, хотя отцу казалось, что она легко найдет другую судьбу, она не нашла ему замены.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 364)
Женя временами делает усилья, овладевает собой, живет, ходит в гости. Потом вдруг все это срывается. Она страдает ужасно и говорит, что без меня не будет жить. Хуже всего, что в этом состояньи она ничем не может быть для Женички, т. е. тяготится не им, а своим бессильем совершенно разбитого человека в отношенье его и тем, что заражает его своим настроеньем. Она предлагает мне взять его, но в данную минуту мне взять его некуда, потому что я и Зина можем существовать фантасмагорически, везде и нигде, Женёнка же в эти условья нельзя ставить.
(Б.Л. Пастернак – Ж.Л. Пастернак, 11–27 февраля 1932 г.)
Второе рождение
Я мог быть сочтен
Вторично родившимся.
Б.Л. Пастернак. Марбург
Я совершенно счастлив с Зиною. Не говоря обо мне, думаю, что и для нее встреча со мной не случайна. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Вы плакали, особенно ты, Оля, когда мы уходили[180]. Эти слезы были к месту, потому что ничего веселого мои гаданья не заключали, но я не знаю, к кому они относились.
Она очень хороша, но страшно дурнеет в те дни, когда в торжественных случаях ходит в парикмахерскую и приходит оттуда вульгарно изуродованною на два-три дня, пока не разовьется завивка. Таким торжественным случаем было посещенье Вас, и она к Вам пришла прямо от парикмахера. Я не знаю, как Вы ее нашли и к ней относитесь. О полученном же ею впечатлении я Вам говорил. <…> Напиши, пожалуйста, ты, Оля, родная. Было бы очень мило, если бы у Вас нашлись слова для Зины, она бы оценила их. Она очень простой, горячо привязывающийся и страшно родной мне человек и чудесная, незаслуженно естественная, прирожденно сужденная мне – жена.
(Б. Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 1 июня 1932 г.)
Конечно, если бы З<ина> была некрасива, ничего бы не произошло. Но если бы она была только красива, все бы кончилось так же, как началось, и более или менее внезапно и скоро. Если бы, впрочем (и это позволительно), ты усомнился в скорой осуществимости разрывов, как они ни бывают иногда желательны, я скажу по-другому.
Если бы Зина была только красива и теперь, по прошествии первой горячки (уже теперь двухгодичной) я хотел с нею расстаться и, наперекор своей воле, почему-либо не мог, я бы чувствовал себя несчастным, скрытно раздраженным, и пр., и пр. Между тем я никогда не был так спокоен и счастлив, как самое последнее время, и с Зиной мне так хорошо, просто и естественно, точно я с детства с нею жил и вместе с нею рос и родился. У ней много общего со мной и даже какое-то сходство. Вся – созданье мелко-дворянского (военного) мещанства, она также опролетаризована дикостями своей жизни, музыкальностью и трудовой, работящей подоплекой своего сильного (но бесшумного и безмолвного) темперамента, как по другим причинам и с другими слагаемыми (мещанства и искусства) это имело место у тебя, у мамы и у меня. И потому многое, что у нас считалось специфически пастернаковским, а по существу гораздо распространеннее и социально объяснимо, я встретил и у ней, с той только разницей, что слова и настроенья играют почти ничтожную роль в ее складе и судьбе, замененные делами и реальными положеньями. Я с ней церемонюсь гораздо меньше, чем было с Женей, не только потому, что, может быть, люблю ее сильнее, чем любил Женю (мне не хочется допускать этой мысли), но и оттого, что к Жене всегда относился почти что как к дочери, и мне всегда было ее жалко. Между тем я не представляю себе положенья, в котором я мог бы пожалеть Зину – так равна она мне каким-то эмоциональным опытом, возрастом крови, что ли.
(Б.Л. Пастернак – родителям, 24 ноября 1932 г.)
- Красавица моя, вся стать,
- Вся суть твоя мне по сердцу,
- Вся рвется музыкою стать,
- И вся на рифмы просится.
- А в рифмах умирает рок,
- И правдой входит в наш мирок
- Миров разноголосица.
- И рифма – не вторенье строк,
- А гардеробный номерок,
- Талон на место у колонн
- В загробный гул корней и лон.
- И в рифмах дышит та любовь,
- Что тут с трудом выносится,
- Перед которой хмурят бровь
- И морщат переносицу.
- И рифма не вторенье строк,
- Но вход и пропуск за порог,
- Чтоб сдать, как плащ за бляшкою,
- Болезни тягость тяжкую,
- Боязнь огласки и греха
- За громкой бляшкою стиха.
- Красавица моя, вся суть,
- Вся стать твоя, красавица,
- Спирает грудь и тянет в путь,
- И тянет петь и – нравится.
- Тебе молился Поликлет.
- Твои законы изданы.
- Твои законы в далях лет.
- Ты мне знакома издавна.
…Роль красавицы была чужда Зинаиде Николаевне. <…> Она видела свое назначение в том, чтобы сначала Нейгаузу, а потом Пастернаку создать такой дом, в котором они могли бы работать, и оберегать эту работу. И все сделать для этого. Пастернак необычайно ценил это ее умение наладить и поддерживать обыкновенную повсдневную жизнь. Ее «грубая и жаркая работа» была ему близка. «Творчество так же бесхитростно в своей силе, как топка печей или уход за огородом», – писал он ей в 1941 году. <…> Она была очень правдивым человеком, необыкновенно прямым, не умевшим притворяться и скрывать свои чувства, и поэтому ее недостатки были так явно заметны окружающим. Но тем, кого она любила, она была предана навсегда.
(Фейнберг М. Об этой книге // Пастернак Б.Л. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. С. 7–8)
Не люблю я эту книгу[181], – сказала Анна Андреевна. – Множество пренеприятных стихотворений. «Твой обморок мира не внес»… В этой книге только отдельные строчки замечательные.
<…>
Быть может, книга эта мне неприятна потому, что в ней присутствует Зина… А может быть, знаете, почему? Помните, вы сказали мне однажды, что у Маяковского не любите стихов «Я ученый малый, милая», что здесь слышен голос холостяка, старого, опытного, самодовольного? Так вот, «Второе рождение» – это стихи жениховские. Их писал растерявшийся жених… А какие неприятные стихи к бывшей жене! «Мы не жизнь, не душевный союз, – обоюдный обман обрубаем». Перед одной извиняется, к другой бежит с бутоньеркой – ну как же не растерянный жених? Знаете, какие стихи я люблю у него? «Ирпень». «Откуда же эта печаль, Диотима?»
(Запись от 26 июня 1940 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 155)
…Стихи Бор. Пастернака последних лет резко отличны от предшествующих. Разбросанные по журналам, они уже обратили на себя внимание, отличаясь – независимо от отдельных удач и срывов – той особенною лиричностью, которая за стихом невольно вызывает образ поэта. Теперь, когда их перечитываешь подряд, вполне оправдываешь общее заглавие нового сборника «Второе рождение». Перед нами не только крупный поэт, бесспорно, самый значительный поэт среди нас живущий, но и единая «поэтическая личность». Новые стихи об этом говорят с большою определенностью.
(Бем А.Л. // Современные записки. 1933. Кн. 51. С. 454. – Рец. на кн. Пастернак Б. Второе рождение)
«Второе рождение» – такая книга, за которой не сразу появляются следующие, потому что путь пройден до конца и дальше начинается жизнь. Дальше в сознании, в жизни поэта должна случиться какая-то перестановка, какие-то события, чтобы было о чем сказать. В этом плане, в этом круге уже почти все сказано; и с этой стороны «Второе рождение» для Пастернака замыкает некий этап жизни и останавливается перед новым.
(Зелинский К.Л[182]. Лирическая тетрадь, год шестнадцатый. Альманах первый. М., 1933. С. 393)
«Второе рождение» может быть одним из очередных звеньев в творческой эволюции Пастернака. Но оно же может являться и последним, завершающим звеном, итогом предшествующего творчества. В таком случае вслед за «Волнами» мы узнаем нового Пастернака, который как художник впервые задумается над живыми образами социалистической действительности, чтобы перенести их в свою поэзию. И если так, то советскую поэзию ожидает большой праздник, а самого Пастернака – действительное второе рождение: приближение к социалистическому отношению к действительности, а значит, и зарождение новой темы вместо бесчисленных вариаций прежней темы – буржуазного индивидуализма, терпящего крушение в эпоху социалистической революции.
(Селивановский А.П. Поэт и революция. О творчестве Б.Л. Пастернака // Литературная газета. 1932. 5 декабря. № 55. С. 4)
В один из первых дней, когда он к нам заходил, он, как обычно, взял меня с собой погулять. Мы пошли по бульварам и разговаривали обо всем самом важном для нас обоих, о жизни в Кисловодске, о мамином состоянии, о его пребывании в Свердловске. Папа хотел показать мне свою новую квартиру на Тверском бульваре, меня радовала встреча с Адиком и Стасиком (тогда он звался Ляликом). <…> Когда я вернулся домой и с разбегу выпалил, как мне понравилось у папы, мама не сказала ни слова. Постепенно меня начали одолевать сомнения и что-то похожее на раскаяние. Я все время возвращался к этой теме. Вот как мама записала этот диалог много лет спустя:
– Мама! Я был с папой у Зинаиды Николаевны. Знаешь, что мы решили? Ты будешь работать, а я буду жить с ними, я буду приходить к тебе в гости, там мальчики, мне будет весело.
– Хорошо, сынок, тебе там правда показалось хорошо?
К вечеру: «Мамочка! Я буду без тебя скучать и часто к тебе приходить».
– Хорошо, сынок, успокойся, все будет хорошо.
Уже в кроватке: «Мамочка, это папа и Зинаида Николаевна так меня уговаривали – а мне не хочется, мне очень хорошо с тобой. Ты знаешь, – почти засыпая, – папа с Зинаидой Николаевной…»
В эти дни у меня росло ощущение, что я с кондачка сделал что-то недостойное, граничащее с предательством, и через некоторое время я очнулся в сознании того, что должен делить с мамой ее одиночество и быть ее защитником и, если смогу, душевной опорой. Я стал воспринимать как неизбежное папин уход и понял, что мне надо остаться с мамой. Я отказался впредь ходить к папе и Зинаиде Николаевне, и мы не встречались с ней вплоть до войны. Папочку это очень огорчало и сильно осложняло его и без того трудную жизнь.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 376–377)
Единственное, что меня продолжает озабочивать, так это судьба Женёнка. Хотя и его теперешнего состоянья не сравнить с ужасами прошлого года (он с матерью в уютной квартирке, и я всегда застаю его шаловливым и даже до тоски, чуть-чуть чрезмерно-дурашливым; кроме того, он в восторге от школы, в которую я его не без труда среди года определил). Но меня интересуют не одни настроенья его: он ребенок и мере имеющихся для него и только наполовину использованных ресурсов не судья. Для него можно было бы сделать гораздо больше, если бы, по простительным странностям самолюбья, этому не сопротивлялась Женя. Одного ее воспитанья для него будет мало. Исподволь ему надо было бы бывать со мной. Я часто бываю там, но там, как всегда и прежде, я слишком растворяюсь в атмосфере Женина требовательного и принципиального мира, которым Женёк дышит всегда и без того. Бывать со мной значило бы бывать у нас на Волхонке, потому что только тут я вполне я, естественен и реален. Я понимаю, с какою тяжелой сложностью в лице Зины как факта должен будет столкнуться ребенок, но именно с этою-то травмой было однажды благополучно покончено, когда в первую же встречу с ними я взял Женёнка к себе, тогда еще на Тверской бульвар, и он видел мальчиков и Зину и не только рвался к нам (пусть и ко мне главным образом) на другой день, но даже сам со мной готов был дебатировать вопрос о переезде к нам в положительном смысле. Однако к посещенью этому, которое мальчик сразу со всем этим клубком освоил, и очень благотворно, Женя отнеслась резко осуждающе и навсегда такие визиты запретила.
(Б.Л. Пастернак – родителям, 24 ноября 1932 г.)
В Москву на гастроли из Германии приехал пианист Лео Сирота <…>. Техника Лео Сироты была отличная, и русские плясовые мелодии из «Петрушки»[183] прозвучали великолепно. Когда кончился концерт и публика еще не успела разойтись, кто-то из присутствующих вскочил на эстраду и закричал на весь зал: «Товарищи, здесь в зале находится поэт Пастернак, давайте попросим его прочесть стихи!» Публика откликнулась аплодисментами и возгласами: «Просим! Просим!» По проходу к эстраде быстрым шагом подошел Борис Леонидович. Ему помогли забраться на эстраду, и он, смущенно улыбаясь и теребя волосы, пытался отказаться и бормотал: «Ну зачем это, я не знаю, что читать». И вдруг, поглядев в глубь зала с высоты эстрады, громко спросил: «Зина, как ты думаешь, что мне читать?» При этих словах все головы, как по команде, повернулись назад, и Зинаида Николаевна, вторая жена Пастернака, оказалась в центре внимания. Конечно, это привело ее в раздраженное состояние, и мы услышали из последних рядов зала недовольный голос: «Ну почем я знаю, читай что хочешь!» Вероятно, этих ее слов было достаточно, и Борис Леонидович начал читать. Он прочел много стихов (к сожалению, я не успел записать каких), с подъемом, своим громким, немного тягучим, но таким знакомым и единственным голосом. Успех был, как всегда, огромный. Аплодировали и просили читать еще и еще. Когда он кончил, все поднялись, многие подошли к нему.
(Горнунг Л.В. Встреча за встречей: по дневниковым записям // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 85–86)
Уральский областной комитет партии пригласил меня на очень хороших условьях на лето на Урал. <…> Нас тремя телеграммами подряд извещали, что дача готова и чтобы мы выезжали немедленно. Теперь мы тут и временно помещены в городе, в гостинице, потому что дача еще не отремонтирована.
Гостиница воздвигнута среди полуазиатских пустырей по последнему слову американской техники, при двухкомнатном номере уборная и ванна, но они бездействуют, и ходить надо в общую уборную, против чего нечего было бы возразить, если бы только в этой американской 9-этажной гостинице это не понималось по-казарменному: в общих этих уборных нет крючков и несколько сидений, ничем не разгороженных: ты должен сидеть обязательно в чьем-нибудь обществе, и, когда открывают двери, тебя из коридора видят идущие мимо съемщики обоего пола.
(Б.Л. Пастернак – Л.Л. Пастернак, 1–11 июня 1932 г.)
Одновременно с нами на Урале находится Борис Пастернак, один из лучших современных советских поэтов. Он здесь в качестве гостя правительства, и ему дали возможность изучать, когда и как это захочется, жизнь шахтеров и рабочих металлургических заводов Урала…[184]
(Литературная газета. 1932. 11 августа. № 36(205). С. 2)
Сейчас, в силу удвоившихся, если не утроившихся, забот, мне приходится обращаться за помощью к инстанции, которой я всегда пренебрегал[185]. Справиться со всем частным путем я не в силах. Я потому и принял уральское предложенье, что жизнь вторым домом, при одновременном обеспеченьи первого, собственными частными силами, жизнь, как это понимали мы, или Нейгаузы, или Асмусы в Ирпене, мне будет не по средствам. И – удивительное дело. Знаешь, чем мне уже пришлось поплатиться за это обращенье? – Производительностью, – как это ни странно. Казалось бы, что, сев на шею организации, чего я раньше не делал, я должен был бы обречь себя, в смысле труда, на каторгу и прийти к положенью, в котором днем и ночью отрабатывал бы относительные блага, от нее полученные. Казалось бы, что разросшиеся обязательства тем сильнее должны были бы меня засадить за работу. Но случилось совсем наоборот. Государственная поддержка оказалась областью безвыходно противоречивой. Овладенье льготами, которые она решила мне тут предоставить, потребовало от меня целого месяца вынужденного безделья. Весь он ушел на хлопоты и досаднейшее выжиданье исполнений по ряду хозяйственных распоряжений, досадных в особенности тем, что обещанья все время давались близкие, и все на завтра, на сутки же располагаться работой не тянуло и суток этих, в каждом отдельном случае, не было жалко. В теченье этого месяца я ничего решительно не видел специфически заводского или такого, зачем бы стоило ездить на Урал. <…> В городе имеется телефон, но он каждый день портится и всегда в тот момент, когда ты именно по нему завязал и уже довел до половины дело. В гостинице есть электричество, но оно гаснет как раз в тот миг, как ты стал что-нибудь делать, исходя из его наличности. То же самое с водой, то же самое с людьми, то же самое со средствами сообщенья. Все они служат лишь наполовину, достаточную, чтобы оторвать тебя от навыков, с помощью которых человек справляется с жизнью, лишенной водопровода, телефонов и электричества, но вполне мыслимой и реальной, пока она верна себе. – Мы должны были переехать вчера на дачу, но машины не подали, потому что весь день был дождь и дороги размыло. Я не знаю, попадем ли мы туда сегодня. Перспективы такие. Лета осталось два месяца. Если я засяду там на этот срок за работу так, как я сейчас есть, это в лучшем случае будет какая-нибудь субъективная отсебятина о чем-нибудь личном, как до сих пор, т. е. нечто такое, что и в Москве, в старых домашних условьях, ставило меня в незавидные условья и делало год от году смешнее и что особенно смешно будет именно тут, за 2000 верст от Москвы и не где-нибудь, а на Урале. Итак, такой план был бы заведомым пораженьем, и для того, чтобы осмыслить тяжелую поездку в такую даль, остающееся время придется потратить на что-нибудь другое. Я и думаю поездить по заводам, и возможность к тому, кажется, представится. Художественно же реализовать все это придется гораздо позднее. Последнее нимало не пугало бы меня, если бы не авансы, которые я этою весной забирал тысячами. По всем ним я обязался сдать осенью объемистые произведенья, и вот, как именно я буду выкручиваться тут, я боюсь и думать. Обещаньями и обязательствами я себя связал так, как никогда, а прожил около полугода до тоскливости бесплодно[186].
(Б.Л. Пастернак – Е.В. Пастернак, 7 июля 1932 г.)
Время было голодное, и нас снова прикрепили к обкомовской столовой, где прекрасно кормили и подавали горячие пирожные и черную икру. В тот же день к нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба. Мы стали уносить из столовой в карманах хлеб для бедствующих крестьян. Как-то Борис Леонидович передал в окно крестьянке кусок хлеба. Она положила десять рублей и убежала. Он побежал за ней и вернул ей деньги. Мы с трудом выдержали там полтора месяца. Борис Леонидович весь кипел, не мог переносить, что кругом так голодают, перестал есть лакомые блюда, отказался куда-либо ездить и всем отвечал, что он достаточно насмотрелся. Как я ни старалась его убедить, что он этим не поможет, он страшно возмущался тем, что его пригласили смотреть на этот голод и бедствия затем, чтобы писать какую-то неправду, правду же писать было нельзя.
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 278–279)
В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей – стали ездить по колхозам собирать материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть вместе со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать.
(Запись от 17 августа 1958 г. // Масленикова З.А. Борис Пастернак: Встречи. С. 53)
…Вечер Борин прошел блестяще: говорили, что это был «большой» праздник литературный[187]. <…> Не ночует, не обедает у нас, только его чемодан (кажется, твой еще, Лёня!) у нас стоит. Сидит у нас, беседует. Он лучше выглядит, чем в прошлом году. Бодрый такой, но удручен заботами о двух женщинах с детьми… За то он и «выступил». Я ему бы не велела выступать, но ему просто деньги нужны! Я это пишу, он не у нас и придет днем. И, может быть, сегодня уедет, если его импрессарио[188] достанет билет… Этот последний хорошо заработал, а Боре, верно, гроши дал…
(А.О. Фрейденберг – Л.О. Пастернаку, 14 октября 1932 г. // Пастернак Б.Л. Пожизненная привязанность: переписка с О.М. Фрейденберг. С. 181)
Квартиру нашел неузнаваемой! За четыре дня Зина успела позвать стекольщика и достать стекол[189] – остальное все сделала сама, своими руками: смастерила раздвижные гардины на шнурах, заново перебила и перевязала два совершенно негодных пружинных матраца и из одного сделала диван, сама полы натерла, и пр., и пр. Комнату мне устроила на славу, и этого не описать, потому что надо было видеть, что тут было раньше!
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 20 октября 1932 г.)
Он говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть. По его наблюдениям, я это хорошо понимаю, так как могу от рояля перейти к кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат настоящей поэзией. Он рассказал, что обожает топить печки. На Волхонке у него нет центрального отопления, и он топит всегда сам, не потому, что считает, что делает это лучше других, а потому что любит дрова и огонь и находит это красивым.
Тогда я думала, что он мне подыгрывает, но в последующей жизни я убедилась, что это черта его натуры. Он любил, например, запах чистого белья и иногда снимал его с веревки сам. Такие занятия прекрасно сочетались у него с вдохновением и творчеством. Ежедневный быт – реальность, и поэзия – тоже реальность, – говорил он, – и я не представляю, чтобы поэзия была надуманной.
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 264)
А.Н. Толстой рассказывал, что он был на каком-то юбилейном чествовании ГПУ[190]: «Было много народу и десяток поэтов со сцены читали дифирамбы сему учреждению. Уже после них стал читать свои стихи Пастернак, это было совсем другое кушанье: говорил стихами, как каторжная работа этих людей и самое учреждение. В зале прошел озноб, улыбки смылись. Пастернака ночью арестуют, уедет в тартарары, исчезнет, как тогда исчезали многие. После его стихов никто из поэтов уже не выступал, записавшиеся стали отсутствующими, спрятались за тех, кто повыше ростом. Когда торжество кончилось и выходили из зала, поэты окружили Орджоникидзе, он представлял верхушку правительства на собрании, с любопытством и волнением ждали, что он скажет; Орджоникидзе, к общему изумлению, гитарой по голове хватил: “Вы совсем не поняли, что такое работа ГПУ, работа трагичная, люди изматывают себя до конца, а вы читали какие-то шансонетки, тру-ла-ла, точно это что-то веселенькое и забавное… Я вижу, тут есть только один настоящий поэт, Пастернак”. Разошлись в смущении и флюгерном настроении. Никаких немедленных кар для Пастернака не последовало, но он был все время под ударом, в любую ночь его могли арестовать, он хорошо это понимал и говорил мне об этом, он не принял революции, такой, какая произошла, и кругом это чувствовали, чувствовали и на верхах…»