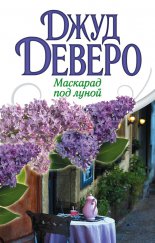Пастернак в жизни Сергеева-Клятис Анна
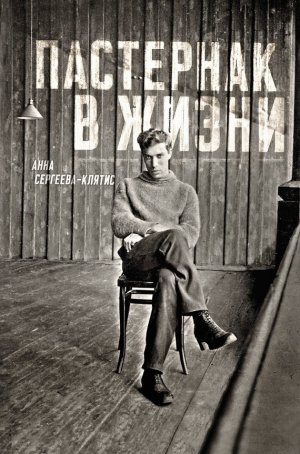
(Б.Л. Пастернак – З.Н. Пастернак, 10 сентября 1941 г.)
Как все это далеко и рядом, немыслимо и просто, почти обыденно – длинный зеленый состав на сырой смутной платформе, жесткий вагон, и, словно в странном тяжелом сне, который все никак не кончается, мы все почему-то должны уезжать куда-то из своего дома, из своего города… В том памятном эшелоне, в том жестком вагоне Ахматова и Пастернак ехали в одном отделении.
(Алигер М.И. Тропинка во ржи: О поэзии и о поэтах. М., 1980. С. 399)
14 октября он выехал из Москвы в Чистополь как член правления Союза писателей, которое было особым распоряжением эвакуировано в страшные дни немецкого наступления на Москву. Не подчинившиеся указу об эвакуации подвергались опасности ареста со стороны НКВД – как «предатели», ждущие прихода немцев. Особенное подозрение вызывали лица немецкого происхождения. Многие были расстреляны в те дни. Через несколько дней после папиного отъезда арестовали Генриха Густавовича Нейгауза. Заступничество Эмиля Гилельса спасло его от гибели. Через некоторое время он был сослан под Свердловск. Папа узнал об этом благополучном исходе только через год. Страшные подозрения зарождались у него уже в дни отъезда из Москвы, потому что октябрьское наступление немцев несло реальную угрозу того, что Москва будет сдана. В этом случае оставшиеся попали бы в положение заложников, чья судьба и поведение могли пагубно повлиять на жизнь эвакуированных. Кроме того, отцовский паспорт сулил ему немедленное уничтожение со стороны немцев.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 434)
Хороший, почти весенний денек и интересный длинный разговор, из которого записываю только малую часть. Он начинается с того, что Б.Л. говорит о вмерзших в Каму баржах, что, когда он на них смотрит, он всегда вспоминает Марину Цветаеву, которая перед отъездом отсюда сказала кому-то в Чистополе, что она предпочла бы вмерзнуть в Чистополе в лед Камы, чем уезжать. «Впрочем, тогда еще было далеко до зимы, но ее ждали с ужасом, а по Каме все шли и шли бесконечные баржи».
– Я очень любил ее и теперь сожалею, что не искал случаев высказывать это так часто, как ей это, может, было нужно. Она прожила героическую жизнь. Она совершала подвиги каждый день. Это были подвиги верности той единственной стране, подданным которой она была, – поэзии…
– Конечно, она была более русской, чем все мы, не только по крови, но по ритмам, жившим в ее душе, по своему огромному и единственному по силе языку.
– Все мы писали в юности плохо, но у меня этот период затянулся, так как вообще я человек задержанного развития: у меня все приходит позже. Марина прошла свой подражательный период стремительно и очень рано. Еще в том периоде жизни, когда все ошибки и ляпсусы простительны и даже милы, она уже была мастером редкой силы и уверенности…
– Я виноват, что в свое время не отговорил ее вернуться в Советский Союз. Что ее здесь ждало? Она была нищей в Париже, она умерла нищей у нас. Здесь ее ждало еще худшее – бессмысленная и безымянная трагедия уничтожения всех близких, о которой у меня нет мужества говорить сейчас…
Я спрашиваю Б.Л.: кто виноват в том, что она, вернувшись на родину, оказалась так одинока и бесприютна, что, в сущности, видимо, и привело ее к гибели в Елабуге?
Он без секунды раздумия говорит:
– Я! <…>
– Когда-нибудь я напишу о ней, я уже начал… Да, и стихами и прозой. Мне уже давно хочется. Но я сдерживаю себя, чтобы накопить силу, достойную темы, то есть ее, Марины. О ней надо писать с тугой силой выражения…
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 111–113)
Памяти Марины Цветаевой
- Хмуро тянется день непогожий.
- Безутешно струятся ручьи
- По крыльцу перед дверью прихожей
- И в открытые окна мои.
- За оградою вдоль по дороге
- Затопляет общественный сад.
- Развалившись, как звери в берлоге,
- Облака в беспорядке лежат.
- Мне в ненастьи мерещится книга
- О земле и ее красоте.
- Я рисую лесную шишигу
- Для тебя на заглавном листе.
- Ах, Марина, давно уже время,
- Да и труд не такой уж ахти,
- Твой заброшенный прах в реквиеме
- Из Елабуги перенести.
- Торжество твоего переноса
- Я задумывал в прошлом году
- Над снегами пустынного плеса,
- Где зимуют баркасы во льду.
- Мне так же трудно до сих пор
- Вообразить тебя умершей,
- Как скопидомкой мильонершей
- Средь голодающих сестер.
- Что сделать мне тебе в угоду?
- Дай как-нибудь об этом весть.
- В молчаньи твоего ухода
- Упрек невысказанный есть.
- Всегда загадочны утраты.
- В бесплодных розысках в ответ
- Я мучаюсь без результата:
- У смерти очертаний нет.
- Тут все – полуслова и тени,
- Обмолвки и самообман,
- И только верой в воскресенье
- Какой-то указатель дан.
- Зима – как пышные поминки:
- Наружу выйти из жилья,
- Прибавить к сумеркам коринки,
- Облить вином – вот и кутья.
- Пред домом яблоня в сугробе.
- И город в снежной пелене —
- Твое огромное надгробье,
- Как целый год казалось мне.
- Лицом повернутая к Богу,
- Ты тянешься к нему с земли,
- Как в дни, когда тебе итога
- Еще на ней не подвели.
…Дочь Цветаевой запросила письмом Ник. Ник. Асеева, известно ли место, где погребена Марина Ивановна в Елабуге. В свое время я спрашивал об этом Лозинского, жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому поводу сказать. Может быть, исходя из Вашего территориального соседства с Елабугой (может быть, у Вас там есть знакомые), Вы что-нибудь узнаете по этому поводу. Если бы мне десять лет тому назад – (она была еще в Париже, я был противником этого переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все это обидным и немыслимым бредом.
(Б.Л. Пастернак – В.Н. Авдееву, 21 мая 1948 г.)
28 января 1942 г. Очередная «литературная среда» в Доме учителя. Асеев читает отрывки из новой поэмы, еще не законченной им, и новые лирические стихи. Все мелковато и фразеристо, кроме двух безделушек <…>. Б.Л. председательствует на собрании. Писательских жен сегодня почему-то больше, чем самих писателей, и он заботится, чтобы все удобно сидели, сам бегает за стульями в читальню, рассаживает. В комнате холодно, но он раздевается, подавая тем пример. Перед началом несколько раз подходит к Зин. Ник., которая, кутаясь, сидит у железной печки, и тихо и нежно о чем-то ее спрашивает. Слышу ласковое «киса». Во время чтения Асеева он улыбается, восхищенно качает головой, негромко, но внятно говорит: «Очень хорошо!», «Прекрасно!» – и вообще, ведет себя изумительно изящно, артистически-гостеприимно. Смотрю на него с наслаждением. Он сам в тысячу раз прекраснее асеевских стихов. Он красив и легок. Вот уж поэт в подлинном смысле слова.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 97–98)
20 февраля 1942 г. Жизнь Б.Л. в Чистополе зимой 1941/42 года не была «сладкой сайкой». В бытовом отношении ему жилось хуже, чем большинству писателей, не говоря уже о литературных первачах. <…> Приходя в <…> столовую, где температура была такая же, как и на улице, Пастернак обязательно снимал пальто и вешал на гвоздь шапку. Мало того, он и в столовую брал с собой работу: англо-русский лексикон, миниатюрный томик Шекспира и очередную страничку перевода. Помню еще какие-то длинные листки, на которые он выписывал трудные места. В ожидании порции водянистых щей из капусты (вскоре кончились и они) он работал. Одной из труднейших проблем чистопольского быта были дрова. Все хозяева пускали только квартирантов с дровами. Однажды райисполком выделил писателям несколько десятков кубометров сырых промерзших дров, сложенных далеко на берегу Камы. Подъезда к ним почему-то не было, и сначала их нужно было перетаскать к дороге. Состоятельное меньшинство наняло грузчиков и возчиков, но большинство отправились таскать дрова сами. Я работал рядом с Пастернаком. Он не ворчал, не жаловался, а ворочал поленья если и не с удовольствием, то, во всяком случае, бодро и весело. А мороз в тот день стоял почти тридцатиградусный. В комнате, которую снимали Пастернак с женой, всегда было холодно из-за какого-то нелепого расположения печей. Он жаловался, что у него, когда он пишет, зябнут пальцы. Ходить приходилось через кухню общего пользования, где шумело три примуса. Иногда, чтобы температура сравнялась, Б.Л. открывал дверь на кухню. Часто к шуму примусов присоединялись звуки патефона. Набор пластинок был разнообразный: Утесов, модные танго, хор Пятницкого. Все это неслось в комнату, где работал Б.Л. Жены его целыми днями не бывало дома. Зинаида Николаевна служила воспитательницей в интернате литфондовского детдома, где ей давали обед и ужин. Ужин она приносила домой и делила с Б.Л. И в этих условиях он не унывал. «Видите, я с утра до ночи один, но зато могу без помех работать», – бодро сказал мне Б.Л., когда я пришел к нему в первый раз. Он в неудобствах и трудностях быта старался найти хорошую сторону. «Зато мы здесь ближе к коренным устоям жизни, – часто говорил он. – Во время этой войны все должны жить так, особенно художники…» Я редко встречал таких терпеливых, выносливых, неизбалованных людей, как Пастернак.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 68–70)
Дорогая Женя! Я получил все твои письма и телеграммы вплоть до последнего, с известием о поступлении Женички в Военную академию. Я этому безмерно рад и вас обоих от души с этим поздравляю. Я никому не писал больше двух месяцев, – сознательная жертва, которую приносил работе над «Ромео и Джульеттой», именно в этот срок и оконченной. Она мне стоила гораздо большего труда, чем «Гамлет», ввиду сравнительной бледности и манерности некоторых сторон и частей этой трагедии, как думают, одной из первых у Шекспира… Все время я готовился к неудаче и провалу с этой вещью, и если, кажется, избежал позора, то именно благодаря большей, чем в «Гамлете», старательности и нескольким переделкам…
Я прожил эту зиму счастливо и с ощущеньем счастья среди лишений и в средоточии самого дремучего дикарства, благодаря единомыслию, установившемуся между мной, Фединым, Асеевым, а также Леоновым и Треневым. Здесь мы чувствуем себя свободнее, чем в Москве, несмотря на тоску по ней, разной силы у каждого…
Сейчас я займусь переводом польского классика Словацкого. Это тоже денежно обусловленная работа для хлеба. Потом я некоторое время поработаю свое, для себя… Мне хочется написать пьесу и повесть, поэму в стихах и мелкие стихотворенья. Это настроенье, может быть, предсмертное, последнего года и последних довоенных месяцев, которое еще ярче разгорелось в войну…
(Б.Л. Пастернак – Е.В. Пастернак, 12 марта 1942 г.)
26 февраля 1942 г. Б.Л. в черном костюме и пестром вязаном галстуке. На ногах белые валенки. Долго разворачивает неуклюжий сверток из мятых старых газет и достает оттуда рукопись. Как обычно, перед тем как начать читать, он говорит вступительные замечания, растекается в них, перескакивает с одного на другое, запутывается и наконец обрывает. Читает он не то чтобы хорошо, но мило, громко и понятно. Он абсолютно не актер, а когда в речах характерных персонажей вроде кормилицы начинает как бы играть, то это получается наивно. Лучше всего он читает текст Ромео и Лоренцо. Драматично прозвучала сцена смерти Меркуцио. Сам перевод очень хорош, едва ли не лучше «Гамлета». <…> И почему-то всегда рядом с ним обязательно смешное. Графина с водой и стаканом на столе не было, а Б.Л. попросил пить. Из-за кулис подали металлическую кружку с водой. Он начал пить, а из зала увидели, что кружка проржавела и из нее течет. Кто-то ему крикнул. Б.Л. грустно посмотрел на свой костюм и сказал: «Ну вот, я, конечно, облился…» В зале засмеялись. Б.Л. виновато улыбнулся и стал вытирать носовым платком обшлага пиджака. Я почему-то представил недовольное лицо З.Н.[292]
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 115–117)
Однажды, когда патефон на кухне дребезжал непрерывно несколько часов, Б.Л. не выдержал, вскочил, вышел и сбивчивыми, слишком длинными фразами попросил, чтобы ему дали возможность работать. <…> Но Пастернак в этот день работать больше не смог. Он ходил из угла в угол, браня себя за отсутствие выдержки и терпения, за чрезмерную утонченность и барство, за непростительное самомнение, ставящее свою работу, может быть, никому не нужную, выше потребности в отдыхе этих людей, которые ничем не виноваты, что их не научили любить хорошую музыку <…>. В тот же вечер на общегородском торжественном собрании в честь дня Красной Армии, где эвакуированные писатели читали свои произведения, когда пришла очередь Б.Л., он, выйдя на сцену, неожиданно отказался читать и заявил, что не имеет права выступать после того, что произошло утром, что считает своим нравственным долгом тут же публично принести извинения людям, которые… Городское начальство ничего не поняло, но было недовольно и морщилось. Писатели посмеивались, а переполненный зал недоумевал. Помню сконфуженное лицо Федина. Запутавшись и сбившись, Пастернак оборвал свою речь на полуслове и в отчаянии, что он снова все усложнил, ушел с собрания.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 73–74)
Папино тяжелое настроение <…> объяснялось в первую очередь его неудачей с пьесой, которую он увлеченно писал летом и намеревался продолжать в Москве. Он болезненно воспринимал сохраняющийся «идиотский трафарет в литературе, печати, цензуре», ему казалось, что реальная опасность войны должна была совершенно переродить людей, и он ждал общего нравственного обновления. Это главным образом относилось к людям его круга, людям с именами, которые должны были бы понять историческую суть совершающихся событий и свободно и ярко на них откликнуться. Отец понимал, что в новых условиях необходимо проявление самостоятельности и освобождение от идеологической скованности, угодничества и власти «мертвой буквы»[293]. «Мы гибнем от собственной готовности», – повторял он тогда, как вспоминала Тамара Владимировна Иванова. За время своего пребывания в Москве папа написал статью «О Шекспире», где писал о том, что «многочисленные испытания учат ценить голос фактов, действительное познание» жизни, противопоставляя «нешуточное искусство» шекспировского реализма безотрадной малосодержательности современной печати. Статья подверглась в газете цензурным сокращениям. Он составил и отдал в издательство сборник стихов 1936–1941 годов. Пришлось выкинуть из цикла «Летних записок» стихи, посвященные Паоло Яшвили и Тициану Табидзе, но в противовес этому он сам исключил вторую половину стихотворения «Художник», где речь шла о Сталине. На общую угнетенность духа тяжелым камнем давила гибель отцовских работ в Переделкине и Лаврушинском. Кроме того, он был в полной неизвестности относительно жизни и здоровья отца и сестер в Оксфорде.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 452)
2 февраля 1942 г. Б.Л. в разговоре о войне замолкает, делается рассеян, о чем-то думает, потом вдруг неожиданно спрашивает, нет ли у меня на два-три дня взаймы 15 рублей. К счастью, у меня есть. Он берет, благодарит, потом порывисто снова вынимает бумажник из кармана, достает деньги и протягивает их обратно:
– Нет, не могу взять у вас. Вы не Погодин.
– Так вы же берете не полторы тысячи, а 15 рублей.
– Да, конечно, но… – Он колеблется. – Видите ли, у меня сейчас такой заворот с деньгами… Ну хорошо, я возьму… Впрочем, нет. Вы бедняк, и вам самому нужны. Да?
– Да нет же, Б.Л., я обойдусь.
– Нет, нет, я знаю, слышал, вы живете не как Федин и Леонов.
– Но у них вы и не просите. А мы в этом равны, и взять у меня естественно.
– Ну хорошо, я возьму. Мне очень нужно. Как это глупо: просить 15 рублей. Спасибо!
Мы оба сконфужены и преглупо себя чувствуем.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 99–100)
Я тут около года. Я провел его очень производительно. Перевел «Ромео и Джульетту», избранный томик польского поэта Словацкого и начал драму. Я подписал договор на сочиненье современной оборонной пьесы в прозе. Контракт определил ее содержанье. Уже подписывая его, я проговаривался, что буду писать вещь по-новому, свободно. Я и в дальнейшем не делал из этого тайны. Но я увлекся и зашел в этом направлении довольно далеко. Вещь едва ли будет предназначена для печатанья и постановки. Это окончательно развязало мне руки. <…> Я решил не стеснять себя размерами и соображениями сценичности и писать не заказную пьесу для современного театра, а нечто свое, очередное и важное для меня, в ряд прошлых и будущих вещей, в драматической форме. Густоту и богатство колорита и разнообразие характеров я поставил требованьем формы и по примеру стариков старался черпать из жизни глубоко и полно. Рано говорить о том, насколько я со всеми этими намереньями справлюсь. Я написал первый акт этой сложной четырех– или пятиактной трагедии. Он в четырех длинных картинах со множеством действующих лиц и сюжетных узлов. Драма называется «Этот свет» (в противоположность «тому»), ее подзаголовок «Пущинская хроника».
(Б.Л. Пастернак – Е.В. Пастернак, 16 сентября 1942 г.)
Когда Б.Л. вышел на низенькую эстраду в большом холле клуба (где сейчас ресторан), его встретили дружные аплодисменты[294]. Народу было много: вся литературная Москва. Значительная часть – в военной форме. Это были писатели-фронтовики, оказавшиеся в Москве проездом или в отпуске, и их товарищи. Б.Л. читал стихи в приподнятом самочувствии. Обсуждение вылилось в поток приветствий и благодарности. Мне захотелось укрепить Б.Л. в состоянии доверия и оптимизма, и, попросив слова, я произнес что-то звонкое и романтически-возвышенное о том, что любовь, которую почувствовал сегодня к себе поэт, должна быть возвращена им нам, его читателям, новыми большими и смелыми произведениями, и упомянул о неоконченном романе, о замыслах пьес и поэм. Мне тоже дружно хлопали, и Б.Л., отвечая, сказал, что он принимает читательский вызов, о котором говорил «Александр Константинович», как свой долг, – и он белозубо улыбнулся в мою сторону – я сидел рядом с эстрадой. Он казался обрадованным и даже растроганным.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 141)
Считается, что Б. Пастернак пишет стихи очень сложно, а речи говорит того сложней. По приезде в армию генерала Горбатова командование пригласило писателей вечером, как говорится в таких случаях, «на скромный ужин». Ужин действительно был очень скромный. Картошка, немного ветчины, по стакану водки и, конечно, чай. Начались речи. Говорили писатели, признаться, довольно скучно, так что было за них слегка стыдно. Но вот вскочил Пастернак. Разумеется, многие из нас испытали смущение и недоумение. Генералы у нас, конечно, ученые, читали много, но все-таки им понять будет трудно. Пастернак быстро поворачивался к собеседникам, широко раскрывая глаза, водил руками, губы его дрожали. Он говорил ярко, патриотично, возвышенно и – с юмором. И казалось, что и в стихах его – как и в его речи – нет никакой сложности, все легко, оптимистично, поэтично, убедительно. Офицеры и генералы, бледные, растроганные, слушали его в глубоком молчании. Они поняли Пастернака, быть может, лучше, чем нас. Талант, по-видимому, всегда понятен.
(Иванов Вс. Вяч. Истинное искусство всегда современно. М., 1985. С. 122)
В сентябре я был на Брянском фронте. Мне было очень хорошо с военными (армия была все время в передвижении), я там отдохнул. Когда позволят обстоятельства, я опять туда поеду.
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 5 ноября 1943 г.)
Так вот они, наше счастливое военное предопределение, творцы орловской победы и косвенные пособники последующих! Мы в просторной избе на приеме у знакомящихся с нами членов Военного совета. Перед нами приветливый и моложавый командующий, гвардии генерал-лейтенант Александр Васильевич Горбатов, друг и сподвижник покойного Гуртьева. Ум и задушевность избавляют его от малейшей тени какой бы то ни было рисовки. Он говорит тихим голосом, медленно и немногосложно. Повелительность исходит не от тона его слов, а от их основательности. Это лучшая, но труднейшая форма начальствования. Рядом с ним – глубокомысленный и дальновидный Кононов и образованный и блестящий генерал Сабенников. Еще ранее, минувшей ночью, мы познакомились с генералом Ивашечкиным, находчивым и решительным стратегом в минуты опасностей и осложнений и добродушным собеседником на отдыхе за столом. Он и генерал Терпиловский отсутствуют. За их незанятыми местами в окошко виден конец растянувшейся в длину деревни. Серенький непогожий денек. По деревне с автоматами, минометами и противотанковыми ружьями бесконечной цепью проходит с утра пехота.
(Пастернак Б.Л. Поездка в армию)
Поездка на фронт имела для меня чрезвычайное значенье, и даже не столько мне показала такого, чего бы я не мог ждать или угадать, сколько внутренне меня освободила. Вдруг все оказалось очень близко, естественно и доступно, в большем сходстве с моими привычными мыслями, нежели с общепринятыми изображеньями. Не боюсь показаться хвастливым, могу сказать, что из целой и довольно большой компании ездивших, среди которых были Конст. Ал<ександрович>, Всев. Иванов и К. Симонов, больше всего по себе среди высших военных было мне, и именно со мной стали на наиболее короткую ногу в течение месяца принимавшие нас генералы. Как только устрою дела и допишу поэму, опять туда поеду.
(Б.Л. Пастернак – В.Н. Авдееву, 21 октября 1943 г.)
В 1943 году у нас в Третьей армии побывали писатели, среди них Борис Леонидович Пастернак. Он нам понравился своим открытым нравом, живым и участливым отношением к людям. Его стихов я тогда не знал совсем, мало знаю и сейчас, и те, которые знаю, мне не близки, хотя верю, что они талантливы. Нам ясно было, что Пастернак – человек совсем другого происхождения, другой жизни, других литературных взглядов, чем Твардовский. Однако при всем этом он с такой искренностью восхищался «Василием Теркиным» и так интересно говорил о значении этой книги, что мы его и за это полюбили.
(Горбатов А.В. [Воспоминания] // Хелемский Я.А. Ожившая фреска // Знамя. 1980. № 10. С. 138)
Беседовали мы о многом… Он [Пастернак. – Примеч. авт. – сост.] умел слушать и фиксировать это своим бесконечно повторяющимся по ходу разговора «да, да, да…». Это отнюдь не значило, однако, что он с вами во всем согласен. В каком-то месте мирной беседы он неожиданно взрывался и произносил свое протяжное решительное «нн-ет!» – и все летело в тартарары. Мы спорили. А больше всего старались понять друг друга. С ним было интересно. И я бы даже сказал – легко.
(Трегуб С.А. Спутники сердца. М., 1964. С. 202–203)
Он зашел к нам сразу после своей поездки на фронт, еще в военной форме, без знаков различия и в солдатских кирзовых сапогах, счастливый и взволнованный виденным. Вероятно, машина привезла их всех в редакцию «Красной звезды», которая находилась недалеко от нас. Когда я вернулся домой, папочка сидел за столом и рассказывал, мама кормила его обедом. Зрелище разрушенных городов и деревень вызывало в нем открытую горечь, он четко понимал, что подлинное восстановление России невозможно без изменения политической системы, чего ни за что не допустят и, наоборот, готовы жертвовать всем на свете для ее сохранения. Он восхищался людьми, с которыми встречался на фронте, и видел, что они были готовы к любой работе, чтобы восстановить разрушенную жизнь, но боялся, что им этого не дадут сделать. Он вел там дневниковые записи и намеревался написать поэму. Потом она получила название «Зарево». Работа над ней оборвалась после отказа в «Правде» печатать первую главу.
(Пастернак Е.Б. Понятое и обретенное. С. 421–422)
Из поэмы «Зарево»
- <…>
- В пути из армии, нечаянно
- На это зарево наехав,
- Встречает кто-нибудь окраину
- В блистании своих успехов.
- Он сходит у опушки рощицы,
- Где в черном кружеве, узорясь,
- Ночное зарево полощется
- Сквозь веток реденькую прорезь.
- И он сухой листвою шествует
- На пункт поверочно-контрольный
- Узнать, какую новость чествуют
- Зарницами первопрестольной.
- Там называют операцию,
- Которой он и сам участник,
- И он столбом иллюминации
- Пленяется, как третьеклассник.
- И вдруг его машина портится.
- Опять с педалями нет сладу.
- Ругаясь, как казак на Хортице,
- Он ходит, чтоб унять досаду.
- И он отходит к ветлам, стелющим
- Вдоль по лугу холсты тумана,
- И остается перед зрелищем,
- Прикованный красой нежданной.
- Болотной непроглядной гущею
- Чернеют заросли заречья,
- И город, яркий, как грядущее,
- Вздымается из тьмы навстречу.
- Он думает: «Я в нем изведаю,
- Что и не снилось мне доселе,
- Что я купил в крови победою
- И видел в смотровые щели.
- Мы на словах не остановимся,
- Но, точно в сновиденьи вещем,
- Еще привольнее отстроимся
- И лучше прежнего заблещем»
- <…>
В годы войны Б.Л. не только переводил Шекспира и иногда писал стихи, но он также работал над современной пьесой и современной большой поэмой. Он жил это время не в башне из слоновой кости, а в тесных, нетопленых комнатах, как жили все, и хуже, чем многие. Я никогда не замечал в нем никакого артистического высокомерия. Однажды он сказал: «Читаю Симонова. Хочу понять природу его успеха…» В другой раз я услышал от него восторженный отзыв о первых главах «Василия Теркина». Ему нравился «Народ бессмертен» Василия Гроссмана. Он ездил на фронт с А. Серафимовичем и Р. Островской (в августе 1943 года). Если он избегал читать газеты, то не потому, что хотел отгородиться от злободневности, но потому, что не мог переносить ту сладкую риторическую кашу, из которой эту злободневность нужно было вылавливать. За годы войны я не помню ни одного разговора с ним, когда бы мы не перебирали известий с фронтов и из кабинетов дипломатов.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 161)
Работа Шолохова, Эренбурга и т. д. в лучшем случае является образцом хорошей журналистики <…>. В СССР мало художников и очень мало людей, отличающихся полной естественностью и совершенной духовной свободой <…>. Поэтому все написанное Шолоховым национально ограничено масштабом и целью <…>. Только Пастернак пережил все бури и овладел всеми событиями. Он подлинный герой борьбы индивидуализма с коллективизмом, романтизма с реализмом, духа с техникой, искусства с пропагандой.
(Шиманский С. Debt of young writer // Life and Letters Today. Лондон. 1943. Февраль)
За последнее время <…> со стороны отдельных писателей и журналистов отмечаются различные отрицательные проявления и политические тенденции, связанные с их оценкой международного, внутреннего и военного положения СССР. Враждебные элементы высказывают пораженческие настроения и пытаются воздействовать на свое окружение в антисоветском духе.
<…>
Пастернак Б.Л., поэт: «Теперь я закончил новый перевод “Антоний и Клеопатра” Шекспира и хотел бы встречаться с Риски[295] для практики в английском языке…Нельзя встречаться, с кем я хочу. Для меня он – человек, иностранец, а никакой не дипломат… Нельзя писать, что хочешь, все указано наперед… Я не люблю так называемой военной литературы, и я не против войны… Я хочу писать, но мне не дают писать того, что я хочу, как я воспринимаю войну. Но я не хочу писать по регулятору уличного движения: так можно, а так нельзя. А у нас говорят: пиши так, а не эдак… Я делаю переводы, думаете, от того, что мне это так нравится? Нет, от того, что ничего другого нельзя делать…
У меня длинный язык, я не Маршак – тот умеет делать, как требуют, а я не умею устраиваться и не хочу. Я буду говорить публично, хотя знаю, что это может плохо кончиться. У меня есть имя и писать хочу, не боюсь войны, готов умереть, готов поехать на фронт, но дайте мне писать не по трафарету, а как я воспринимаю…»
Группе писателей, возвращавшихся из Чистополя в Москву, был предоставлен специальный пароход. Желая отблагодарить команду парохода, группа писателей решила оставить им книгу записей. Эта идея встретила горячий отклик… Когда с этим пришли к Пастернаку, он предложил такую запись: «Хочу купаться и еще жажду свободы печати».
«Пастернак, видимо, серьезно считает себя поэтом-пророком, которому затыкают рот, поэтому он уходит от всего в сторону, уклоняясь от прямого ответа на вопросы, поставленные войной, и занимается переводами Шекспира, сохраняя свою “поэтическую индивидуальность”, далекую судьбам страны и народа. Пусть-де народ и его судьбы сами по себе, а я – сам по себе…»
(Спецсообщение Управления контрразведки НКГБ СССР «Об антисоветских проявлениях и отрицательных политических настроениях среди писателей и журналистов», не позднее 24 июля 1943 г. // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б) – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917–1953 гг. М., 1999. С. 520)
В конце декабря я опять уехал от холодов к Зине и Лёничке в Чистополь на елку; ведь он родился как раз в новогоднюю ночь. Я очень полюбил это звероподобное пошехонье, где я без отвращения чистил нужники и вращался среди детей природы на почти что волчьей или медвежьей грани. Все-таки элементарные вещи, как хлеб, вода и топливо, были как-то достижимы там, не то что в многоэтажных московских ребусах, в которых зимами останавливаются все токи, как кровь в жилах, и которые в меня вселяют мистический ужас. Я там опять прожил несколько месяцев и перевел «Антония и Клеопатру». Их печатают, а «Ромео и Джульетту», мою прошлогоднюю работу, я, может быть, пришлю тебе до Рождества. Когда я летом прошлого (42-го) года приехал в Москву, я столкнулся с полным нашим разореньем, из которого потрясла меня только почти полная гибель папиных эскизов и набросков, а частью и законченных вещей, которые у меня имелись. Я уезжал среди паники и хаоса октябрьской эвакуации. Мы с Шурой ходили в Третьяковскую галерею с просьбой принять на храненье отцовские папки. Никуда ничего не принимали, кроме Толстовского музея, который далеко и куда не было ни тележек, ни машин.
У нас на городской квартире (восьмой и девятый этаж) поселились зенитчики. Они превратили верхний, не занятый ими этаж в проходной двор с настежь стоявшими дверями. Можешь себе представить, в каком я виде все там нашел <в> те единственные 5–10 минут, что я там побывал. В Переделкине стояли наши части. Наши вещи вынесли в дом Всеволода Иванова, в том числе большой сундук со множеством папиных масляных этюдов, и вскоре Ивановская дача сгорела до основанья. Эта главная рана была для меня так болезненна, что я махнул рукой на какие бы то ни было следы собственного пристанища, раз пропало главное, что меня связывало с воспоминаньями./p>
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 5 ноября 1943 г.)
Увлечение «Антонием и Клеопатрой» не потускнело, не ослабло и после возвращения Владимира Ивановича [Немировича-Данченко. – Примеч. авт. – сост.] в Москву. Даже когда возобновились репетиции «Гамлета». Из разговоров с ним я вынес впечатление, что он занят обеими своими шекспировскими работами одновременно, и это тоже для него необычно. Узнав от меня, что Пастернак приступает к переводу «Антония и Клеопатры», он тут же этим загорелся и велел мне немедленно послать ему в Чистополь телеграмму, чтобы Борис Леонидович по возможности ускорил свою работу. Ни о какой «поэтической прозе», которую он еще так недавно решил культивировать в противовес стихотворному переводу, теперь не было речи. Талант Пастернака и возможность новой встречи с ним, по-видимому, заранее исключали «убийственный компромисс», о котором он мне писал, читая переводы Минского и Радловой. Владимир Иванович послал Пастернаку в Чистополь краткое изложение своего замысла. Пастернак откликнулся тут же: его поразило полное совпадение их взглядов на эту трагедию, особенно в восприятии образа Антония.
(Виленкин В.Я. Воспоминания с комментарием. С. 90–91)
Дорогой Владимир Иванович!
Не знаю, как выразить огромную благодарность за Ваши замечательные мысли. Они мне очень близки и с такою свободой вырастают из существа трагедии, что не могу теперь отделаться от ощущения, будто бессознательно для себя принимаю их все время к руководству за работой.
Наверное, я повторю Ваши собственные представления, заключающиеся в изумительно сжатом наброске и которые можно развивать до конца, если добавлю, что вслед за источниками, Шекспиром, «Египетскими ночами», статьей Зелинского[296] и прочим представляю себе египетский угар Антония разгулом вдохновенно убежденным, то есть некоторым александрийским ницшеанством или жизнестроеньем с сознательным вызовом, брошенным в глаза Рима и здравого смысла.
Рад буду, если приготовлю текст, отвечающий Вашей захватывающей концепции, и льщу себя этой смелою надеждой.
(Б.Л. Пастернак – В.И. Немировичу-Данченко, 12 марта 1943 г.)
Это было 8 июля в ВТО, где он читал «Антония и Клеопатру»[297]. Небольшое помещение битком набито, хотя среди слушателей преобладают пожилые дамы из многочисленных секций ВТО и зеленая молодежь из ГИТИСа. Длинный летний вечер еще только начался, на улице совсем светло, но в малом зале на верхнем этаже (там же, где он читал зимой «Ромео и Джульетту») полутьма из-за окон, наглухо заделанных фанерой. Горят лампы. Замечаю то, что как-то не увидал при прошлой встрече, – Б.Л. очень поседел с зимы. Он читает в очках, но, отрываясь от рукописи, сразу их снимает. <…> Читает он с заметным воодушевлением и очень хорошо. Перевод отличен. Это еще выше «Ромео и Джульетты». Тончайшее чувство красоты подлинника. Превосходный, полновесный текст. После сцены рассказа Энобарба в Риме о Клеопатре и ее знакомства с Антонием в зале стихийно возникают аплодисменты. Б.Л. радостно улыбается, снимает очки, как-то очень неловко кланяется и говорит: «Подождите, дальше будет еще лучше…» Общий смех. Улыбается и Б.Л. Он снова надевает очки и читает дальше. <…> В зале душно. Только что прошла гроза, но открыть окна нельзя. Объявляется перерыв. <…> В сцене пира на галере Помпея Б.Л. сам первым неожиданно смеется на словах: «Любопытная гадина!» – и все смеются вместе с ним. Сцену смерти Клеопатры и финальные сцены все слушают затаив дыхание… Конец. Бурные аплодисменты. Все встают, продолжая аплодировать. Пастернак снимает очки и, улыбаясь, кланяется. Аплодисменты не стихают.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 148–150)
Помню, как, предваряя чтение, Борис Леонидович сказал несколько слов, из которых я помню только его определение сюжета пьесы, поразившее меня своей какой-то домашней выразительностью. Он сказал, что содержанием пьесы является роман обольстительницы и шалопая. Это прозвучало как-то очень неожиданно. Первый раз я его слушала тогда и была потрясена естественностью и искренностью чтения, была восхищена его манерой, его интонациями, завыванием, растягиванием слов, его московской речью. Как Клеопатра зовет служанок: «И-ира, Хармиа-а-на»… И скороговоркой: «Свет Алексас, прелесть Алексас, скажи мне, где тот предсказа-а-тель, о котором ты говорил вчера цари-и-це»… И в смешных местах сам смеялся, и зал смеялся вместе с ним.
(Берковская Е.Н. Мальчики и девочки 40-х годов // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 528)
С недавнего времени нами все больше завладевают ход и логика нашей чудесной победы. С каждым днем все яснее ее всеобъединяющая красота и сила… Победил весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразье.
Победили все и в эти самые дни, на наших глазах, открывают новую, высшую эру нашего исторического существования.
Дух широты и всеобщности начинает проникать деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях.
(Пастернак Б.Л. Поездка в армию)
Новое время
Будущего недостаточно,
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала.
Б.Л. Пастернак. Зимние праздники
Надежды
Дорогая Нина! Ну что нового о Тициане? <…> Какое это чудо, какое счастье! Когда он появится, Вы должны немедленно ехать с ним сюда к нам, это лучше всего, мне ринуться так же быстро туда к вам будет сейчас труднее. Нина, Нина, но ведь это невероятно, это не человека вернут, а землю, небо, душу, годы!! Я всегда как-то стыдлив в отношении телеграфного аппарата и телеграфисток и потому не мог переслать Вам своего первого счастливого вскрика.
Новогодняя ночь – это часы рождения Лёнички, и ради него Асмусы устроили семейную детскую елку без блеска и интересных новогодних гостей. <…> Немного погодя приходит Зина (она ночевала у Асмусов и, пока я мылся, вернулась) и говорит: «Огромная радость. Тициан жив, от него известие». И оказалось, что у нас сидит Евгений Дмитр<иевич>[298] с этой новостью. С этого начался мой новый год. Когда Зина сказала это, она расплакалась и я разревелся. Ну теперь, вероятно, надо вооружиться терпением.
(Б.Л. Пастернак – Н.А. Табидзе, 24 января 1946 г.)
– Здравствуйте, товарищи! С победой, товарищи! Нам придется совершить окольный путь. Я хочу провести себя и слушателей через это испытание… Я прочту из «Девятьсот пятого года», из «Спекторского», из самых-самых ранних стихов, из «Второго рождения» и «Земного простора»…
И стал читать. Я не ожидал такого чтения: и жесты, и интонации не совпадали со стихами, создавали какой-то новый, дополнительный образ каждого стихотворения. Иногда он, сцепив пальцы, держал руки перед собой, иногда поднимал голову, а когда читал «Опять весна», сделал шаг вперед и тряхнул головой:
- Поезд ушел. Насыпь черна.
- Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Читая «Морской мятеж», сказал:
– Я не буду объяснять морские термины, например, «кнехт». – И тут же объяснил, что такое кнехт. <…> Непрерывно на сцену через Алика Есенина-Вольпина, который прямо там сидел, попадали записки.
– Товарищи, я не буду сейчас собирать записки, – сказал Пастернак и принялся их собирать. – Дайте мне газету, я их соберу в кулек и буду читать на досуге.
– Ответьте хотя бы на несколько.
– Хорошо.
Но все это были просьбы прочесть стихи.
– Да-да, я знаю это стихотворение…
Наконец он нашел настоящую записку:
– «Придете ли вы на вечер Софроницкого?» Я очень люблю Софроницкого, но я живу за городом.
– «Какое произведение военных лет вам больше всего нравится?» «Василий Теркин»… Товарищи, я хочу сказать вам, что мы не знаем, что мы будем писать. Мы становимся зажиточными. Впереди много творческих сюрпризов. С этим я и поздравляю вас, товарищи!
Он читал до тех пор, пока слушатели его не пожалели. Действительно, он чуть не валился с ног[299].
(Берестов В.Д. Сразу после войны // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 480–481)
Вскоре после войны – должно быть, в конце мая или в самом начале июня 1945 года был устроен вечер Пастернака в Комаудитории Московского университета, первый вечер Пастернака, где я присутствовал. Седой Пастернак был усталый, выступление его сопровождалось сотней его извинений. Во время чтения стихов мне подчас слышались интонации его разговора, но в лирических стихах голос звучал нежно-музыкально, трогательно, голос был не похож на обычный его голос. Садясь за стол, чтобы прочесть по книге (сверх программы то, что он готовил к вечеру, он знал наизусть), он говорил: «Я вооружусь очками». Мне казалось, что и этот непривычный нежный голос он надевает, как очки. Читая, он рисовал иногда рукой нечто пластическое, но чтение мне казалось только выявлением настроения, а не чем-то изобразительным. <…> Из зала Бориса Леонидовича просят читать «Вальс со слезой». Он отвечает: «Кажется, забыл, помню наполовину». Наклоняясь над книгой, почти поет: «Как я люблю ее в первые дни». Густым голосом он продолжает, иногда затихая, почти бормоча себе под нос, – и это-то производит самое сильное впечатление.
Читая те стихи, которые ему казались трудными для понимания, он сопровождал их пояснениями. Так, перед стихами из «Второго рождения» («Мертвецкая мгла…») он обратился к аудитории с предварением: «Эти стихи не то что заумны, а здесь дана свобода бесперебойному ритмическому потоку. От этого происходит некоторое смещение действительности, смысла».
В конце вечера Пастернака закидали записками. В зале было тесно, и Алик Есенин-Вольпин, тогда напоминавший портреты молодого Есенина, не найдя себе места, устроился на эстраде, у рояля… Алик, наклоняясь над залом и почти перегибаясь пополам, собирал белые записки, странно усмехаясь, и из-под рояля передавал их Пастернаку. Просмотрев записки, Борис Леонидович заговорил о том, почему он не читает из «Двух книг»[300] (его все время об этом просили – и Алик, вдруг воспользовавшись пространственной близостью, стал просить прочесть «В трюмо испаряется чашка какао…», на что Борис Леонидович ответил решительным отказом): «Как я теперь понял, самое здоровое в нас – во мне, в некоторых периодах Есенина в его развитии и в Маяковском – было не импрессионизмом. Недоговоренности Блока и его социальный импрессионизм были оправданы той эпохой; не сказанное поэтом входило с улицы, улица, сама входя в стихи, договаривала за поэта. А у нас, когда улица разрушается, когда все строится, просто нельзя недоговаривать. Я – единственный оставшийся в живых из нас троих, и мне это ясно. Но не поймите это как какое-то ущемление прав Блока. Блок идет у меня вместе с Пушкиным – это два самых крупных явления в русской поэзии».
(Иванов Вяч. Вс. Перевернутое небо. Записи о Пастернаке // Звезда. 2009. № 8. С. 123–124)
Небольшая аудитория с длинными – во весь ряд узкими черными столами и скамьями, амфитеатром поднимающимися вверх[301]. Народу не больше, чем обычно на лекциях. Студентки, несколько военных, ненадолго вырвавшихся в тыл. На деревянном помосте, рядом с кафедрой поставили стол. Теперь за ним сидит статный, большой человек с густой посеребренной сединой шевелюрой и очень прямой спиной. Нависший над лбом серый чуб и выдвинутая челюсть, опережающая корпус, уводят его лицо вперед. Весь он в напряженном движеньи в порыве. Взгляд его тяжелых, упорных глаз и идущий из глубины низкий монотонный голос производят впечатление сдержанной силы. Он и стихи читает совсем не по-актерски, а словно изнутри, подчиняя каждую строфу своему дыханию и сердцебиению, как бы заново рождая их на глазах у слушателей.
Когда я накануне прочла на стене написанное от руки объявление о том, что в университете будет вечер Пастернака, я вообразила человека с нервным измученным лицом, похожим на умирающего Блока. Однажды я видела такого истерзанного человека в трамвае и почему-то решила, что он – поэт. Мне казалось, что все настоящие поэты – страдальцы, люди с содранной кожей. Но Пастернак с первого же взгляда поразил меня своим несходством с придуманным мной образом.
Он был очень серьезным, очень сдержанным, но от него веяло крепким здоровьем, силой и энергией. Должно быть, он давно не выступал перед слушателями и чувствовал себя в этот мартовский вечер одиноким и даже нелепым в своей обреченности открывать душу перед чужими людьми.
(Муравина Н.С. «Житье тошней недуга»: встречи и переписка с Борисом Пастернаком // Пастернаковский сборник. Вып. 2. С. 287)
Я ждал от этого только неудачи и эстрадного провала. И представь себе, – это принесло одни радости. На моем скромном примере я узнал, какое великое множество людей и сейчас расположено в пользу всего стоящего и серьезного. Существование этого неведомого угла у нас в доме было для меня открытием.
(Б.Л. Пастернак – С.Н. Дурылину, 29 июня 1945 г.)
Стихам о войне <…> предшествуют стихи на самые мирные, даже бытовые темы – «На ранних поездах». Мне любопытно, что почувствовали бы, читая эти стихи, те критики и читатели, которые много лет тому назад обвиняли Пастернака в произвольности образов, в запутанности синтаксиса, в путаности сюжетной линии в стихотворениях? Куда бы делись их прогнозы и анализы при чтении таких стихов <…>. Почти незаметен у Пастернака переход от этих стихов о советских мирных днях к стихам о войне. Он не меняет тона, он не повышает голоса, не усиливает инструментовки стиха: те же размеры, тот же словарь, те же речи, простые и лаконичные; удивляться ли этому? Ведь это речи о тех же людях, которые вчера ездили «на ранних поездах» в Москву, на работу, на учебу, а теперь в тех же поездах едут за Москву оборонять любимый город от злого врага. Кажется, в военных стихах словарь Пастернака еще народнее, чем в предвоенных; речь его еще проще, еще целомудреннее сторонится она всяческих приукрашений, малейшей риторики. Пастернак еще строже к себе в этих стихах о суровой године войны, когда строгость и суровость стали условием жизни, условием победы. Невольно приходит на память, с какою простотою писал Лермонтов о русском солдате в «Валерике» и «Бородине» и как Правде, одной Правде посвящал Лев Толстой свои героические «Севастопольские рассказы». Их дорогою идет Пастернак.
(Дурылин С.Н. Земной простор[302] // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 1. С. 874–877)
Раньше стихотворение Пастернака было иногда сплошным потоком ассоциаций, одной развернутой и причудливой метафорой. На диво зорко увиденная деталь, разрастаясь и ширясь, так густо заполняла все пространство стиха, что до поэтической эмоции и мысли стиха надо было продираться, как сквозь колючий кустарник. В этой безбрежности фантазии было обаяние Пастернака, но в этом же была и его слабость. Новая книга поэта – умудреннее и проще. Что поэт вполне владеет своей старой манерой, что он «артист в силе», пользуясь его собственным выражением, доказывают его «Сосны», «На рождестве», «Вальс со слезой». А вместе с тем он пишет волнующие непосредственной прямотой стихи о смерти – «Ложная тревога», «Иней», и вся книга завершается прозрачно-лирическим стихотворением о победе – ясным, чистым и вполне пастернаковским. Весь раздел военных стихов написан в манере более скупой, менее расточительной на детали, чем обычная пастернаковская манера.
(Громов П.П. // Звезда. 1945. № 5/6. С. 158–159. – Рец. на кн. Пастернак Б. Земной простор)
…Сейчас перед нами почти все, написанное Пастернаком о войне.
Эти стихи неравноценны. В некоторых стихотворениях Пастернак пытается дать непосредственное описание боевых эпизодов и людей, действующих во фронтовых условиях. Такие стихи удались меньше. В них подчас присутствует несвойственная Пастернаку рассудочность, сентенции, которыми он обрамляет стихи, словно чувствуя, что сами по себе стихи не способны взволновать читателя. <…> Неприятно в этих стихах и еще другое: Пастернаку свойственна иногда непосредственная, бытовая простота интонаций, когда он, как бы запанибрата общается с явлениями природы или умышленно снижает лирический строй стиха введением частных бытовых обстоятельств. И это придает иногда его стихам особую неожиданность, конкретность и яркость.
- Зима на кухне, пенье Петьки,
- Метели, вымерзшая клеть
- Нам могут хуже горькой редьки
- В конце концов осточертеть.
В ряде случаев эта непосредственная «бесцеремонность» высказываний насыщает стихи свободной естественной прелестью. Но есть темы, когда нельзя касаться обстоятельств так походя, не чувствуя известной дистанции между собою и материалом. Нельзя так вскользь, по-плакатному упрощенно отделаться от образов трех людей, идущих в опасную разведку, если берешься за описание этих образов.
- Их было трое, откровенно
- Отчаянных до молодечества,
- Избавленных от пуль и плена
- Молитвами в глуби отечества.
Это и наивно, и ничего не характеризует, и не объясняет. Что это за описание врагов: «валили наземь басурмане – зеленоглазые и карие». Грубоватая простоватость, столь далекая от ясной убедительной простоты.
- Везде встречали нас известия,
- Как, все растаптывая в мире,
- Командовали эти бестии,
- Насилуя и дебоширя.
Что-то есть нарочитое, ненастоящее в таком подделывании под общедоступность.
Чувство любви к родине не обязательно должно выражаться в залихватски простоватых словах.
(Спасский С.Д. Б // Ленинград. 1945. № 21/22. С. 32. – Рец. на кн. Пастернак Б. Земной простор)
Неожиданно жизнь моя (выражусь для краткости)… активизировалась. Связи мои с некоторыми людьми на фронте, в залах, в каких-то глухих углах и в особенности на Западе оказались многочисленнее, прямее и проще, чем мог я предполагать даже в самых смелых мечтаниях. Это небывало и чудодейственно упростило и облегчило мою внутреннюю жизнь, строй мыслей, деятельность, задачи, и так же сильно усложнило жизнь внешнюю. Она трудна в особенности потому, что от моего былого миролюбия и компанейства ничего не осталось. Не только никаких Тихоновых и большинства Союза нет для меня и я их отрицаю, но я не упускаю случая открыто и публично об этом заявлять. И они, разумеется, правы, что в долгу передо мной не остаются. Конечно, это соотношение сил неравное, но судьба моя определилась, и у меня нет выбора.
(Б.Л. Пастернак – Н.Я. Мандельштам, ноябрь 1945 г.)
Недавно в Оксфорде умер в возрасте 83 лет выдающийся русский художник Л.О. Пастернак[303]. В свое время в XIX и начале XX века он играл весьма заметную роль в русском искусстве как видный художник и замечательный педагог, воспитавший несколько поколений художников, из которых многие впоследствии стали крупными мастерами…
(Грабарь И.Э. Памяти Леонида Пастернака // Советское искусство. 1945. 13 июля. № 28)
Все некогда и некогда. Некогда было, когда умирал бедный Адик и мы его схоронили[304], некогда было в дни смерти моего отца, некогда лечить руку, которая четыре месяца болела, – результат писарского, а не писательского переутомленья (ведь зарабатывать приходится пропорционально потраченным чернилам, а не пропорционально роли и качеству сделанного, ведь я гордый, как Вы, Ниночка), некогда лечить глаза или дать им требующийся отдых (хронический конъюнктивит). Но грех жаловаться, милая Нина!! Что-то все время живет и держится в душе, что и в горе является источником радости и все время увлекает и захватывает и помогает сносить удары. Так что благодарить Бога надо и удивляться ему, а не унывать!
(Б.Л. Пастернак – Н.А. Табидзе, 14 августа 1945 г.)
После войны в Переделкине тоже было неспокойно. Говорили о грабежах. Отец тогда настойчиво просил меня достать ему оружие под предлогом того, чтобы защищаться от бандитов. Я не мог этого сделать. Это было слишком опасно, и я не хотел подвергать его такому риску. Тайное хранение оружия считалось преступлением, за это грозил арест. Даже у офицеров, пришедших с войны, изымали трофейное оружие. Но к тому же мне всегда казалось, что Боря боялся не грабителей, а просто хотел свободно распоряжаться своей судьбой. Меня не на шутку пугало его тяжелое душевное состояние – «когда житье тошней недуга», – в сочетании с непременным желанием иметь пистолет. В конце концов Нинель Муравина подарила ему кинжал.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 474)
Борис Леонидович был человеком от Бога, добрый, отзывчивый, простой. Мой сын Славик лет с пяти почти ежегодно бывал на елках у Пастернаков, которые устраивались для их младшего – Леонида. Обычно собиралось до десятка детей. Подтянутый, торжественно одетый Пастернак выходил к ребятам, раздавал подарки, нужные, как он считал, витамины, фрукты да редкие тогда бананы…
(Голубева В.А.[305] «Борис Пастернак – человек от Бога»: Из интервью М. Фурмана // Пастернаковский сборник. Вып. 2. С. 353)
Со временем я узнал, что Борис Леонидович переписывался со многими, кто был в ссылке, и многим посылал деньги и книги. <…> Весной того же года Женя Пастернак был переведен из Военной академии, где он был в адъюнктуре, в воинскую часть в Черкасы. Уезжая, он оставил мне книги для сдачи в библиотеку Клуба писателей. По безалаберности я вовремя не отдал в библиотеку книги. 1 августа Борис Леонидович прислал мне записку: «Дорогой Кома! Когда я сдавал книги в библиотеку Клуба Писателей, они выразили сожаление, что Женя уехал, не сдав своих. Из переписки выяснилось, что, кажется, он обременил ими Вас. Если эти 5 книг (Лабиш, Брет Гарт, Генри, Дюма и Ренье) тут у Вас на даче, передайте их, пожалуйста, Лёне, и в ближайший свой наезд в Москву я их верну в библиотеку. Также, если Вам не нужен Макбет, присоедините рукопись к книгам, я займусь кое-какой правкой перевода, и мне потребуется Ваш экземпляр. Сердечный привет всем Вашим, папе, маме и Татьяне Вячеславовне. Ваш Б.П.». Я ответил извиняющейся запиской – книги у меня были в Москве. Я поехал в Москву сдавать их в Клуб писателей. Там библиотекарша мне рассказала, что, когда они пожаловались Борису Леонидовичу на то, что Женя не вернул книги и что у них от этого могут быть неприятности, Борис Леонидович расстроился до слез и тут же послал Жене телеграмму. Предположение о том, что у библиотекарш могут быть неприятности по его или Жениной вине, для него было непереносимым.
(Иванов Вяч. Вс. Перевернутое небо. Записи о Пастернаке // Звезда. 2009. № 11. С. 112)
Позавчера был вечер Пастернака[306]. Рядом со мной сидела пожилая женщина и, не переставая, плакала. Может быть, она прежде любила и знала его? Ему это мешало читать[307]. У него была странная поза. Казалось, он разыгрывал какого-то неугомонного Керубино. Разговаривал с публикой дурашливо, как простонародье в его переводах Шекспира. Но читал он легче и свободнее, чем на прежних вечерах. Стихи передавал удивительно грациозно, оттеняя смысл слов, но без обычного у него музыкального напора. Мне очень понравились его переводы из грузинских поэтов, особенно «Мерани» и «Цвет небесный, синий цвет»[308]. <…> Большой, сильный, он умел держаться на сцене красиво и непринужденно. Крепкий, с длинными, слегка качающимися руками, он, читая, казалось, «был полон весь земным теплом». Слушатели мгновенно выделяли его из толпы поэтов. У него не было достойных соперников. Твардовский на вечерах поэзии никогда не появлялся. А Сурков, Жаров, Тихонов, Безыменский, Долматовский, Браун и Рождественский рядом с Пастернаком выглядели серыми и безликими…
(Муравина Н.С. «Житье тошней недуга»: встречи и переписка с Борисом Пастернаком // Пастернаковский сборник. Вып. 2. С. 291)
Полукруглая эстрада, затянутая серым сукном[309]. Маленький стол, на нем – лампа, стакан воды и рукописи поэта. Около стола – высокая фигура поэта в скромном черном костюме. Ему уже 56 лет, волосы его обильно тронуты сединой, но по-прежнему юношески стройна его фигура, так же энергичны и порывисты движения, тот же огонь в глазах, что был и три десятилетия назад, в пору первых литературных выступлений этого замечательного и своеобразного лирика современности. Сначала Пастернак читает старые хорошо знакомые аудитории стихи, – о дожде, о ревности, о трагическом любовном разрыве двух сердец, о природе Урала, о первом отвергнутом признании. Все это вещи двадцати-тридцатилетней давности. Аудитория знает их наизусть. Когда поэт забывает – из зала несется дружный хор голосов, напоминающих автору его собственное творение, уже ставшее достоянием многих сердец и умов. Аудитория как бы зачарована, – она в сотый раз переживает вместе с поэтом его стихи. Пастернак читает очень своеобразно. Его читка не похожа на чтение актера, – она небогата интонациями, поэт подчеркивает скорее ритм, рифму, но не смысловые ходы своих очень сложных вещей. Некоторые критики долгие годы твердили о непонятности многих стихов Пастернака массам.
Вечер в Политехническом музее – живое опровержение этой усталой легенды. Аудитория вчерашнего вечера была разнородна, здесь были молодые поэты, старые опытные редактора газет и журналов, партийные работники, библиотекари, ученые, но огромную прослойку аудитории составляли рядовые студенты и студентки, рабочие, служащие Москвы. Свыше тысячи человек около трех часов слушали своего поэта. Ни один человек не вышел. Как с самого начала вечера в зале не было ни одного свободного места, так он оставался абсолютно полон до самого конца. <…>
Гибкость и емкость поэтической формы Пастернака поразительна. Это сказывается и на чрезвычайной широте его тематического кругозора, и на умении Пастернака переводить стихи других народов. Вчера Пастернак продемонстрировал некоторые образцы поэтического перевода, – он читал грузинского романтика XIX века Николо Бараташвили, он читал Верлена и, наконец, «Зиму» и 66-й сонет Шекспира в своих переводах. Все это переведено Пастернаком виртуозно, с полным пониманием национальных и эпохальных особенностей интерпретируемых поэтов. Переводы Пастернака пользовались таким же успехом, как и его оригинальные стихи. Во время чтения этих переводов от имени неизвестных почитателей поэта на сцену принесли подарок Пастернаку – огромный куст цветущей сирени. Он был поставлен на стол. Чтение стихов продолжалось. Несколько раз поэт объявлял свой вечер законченным. Тогда публика вставала со своих мест и стоя аплодировала три, четыре, пять минут подряд. Поэт выходил снова, смущенно улыбался своей доброй, почти детской улыбкой и продолжал чтение. Вещи, еще не успевшие появиться в печати, аудитория заставляла повторять по два раза. Одно известное стихотворение, написанное еще в 1916 году («Импровизация»), поэт прочел в совершенно новом варианте. Это вызвало бурю восторга и требование немедленного повторения, что поэт охотно и сделал. Вечер прошел с каким-то особым накалом и трепетом. Он превратился в триумф тонкого и сложного лирика современности, нашедшего полный духовный контакт со своей аудиторией.
(Тарасенков А.К. Вечер Бориса Пастернака в Москве // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Том 1. С. 904–906)
Мы с Вадимом Шверубовичем[310] попали на самый парадный, первый вечер – в Колонном зале Дома союзов. Какое же это было торжество, какой незабываемый светлый праздник русской поэзии! Сколько здесь собралось в этот вечер военной и студенческой молодежи, какие славные мелькали лица, как забиты были все входы в зал, как ломились хоры и ложи от наплыва этой толпы юношей и девушек с горящими глазами, с пылающими щеками. Каким единством дышал этот зал, хором подсказывая Пастернаку то и дело забываемые им от волнения слова, вымаливая у Ахматовой еще, еще и еще стихи военных лет, стихи о Ленинграде, стихи о любви. Она и здесь, в Колонном зале, читала негромко, без жестов, чуть-чуть напевно, стоя в своем черном платье и белой шали у края эстрады[311].
(Виленкин В.Я. В сто первом зеркале. М., 1987. С. 20)
Среди выступавших был тогда молодой, немного строивший из себя Иванушку-дурачка Михалков с баснями, за которые ему порой попадало, так что, быстро отказавшись от роли либерала, он исправился на всю оставшуюся жизнь. Тепло встречали Берггольц с ее «блокадной ласточкой», и даже Дудина <…>. Но все пришли, разумеется, ради Ахматовой и Пастернака. «Кого же еще здесь слушать», – поделился с нами сидевший рядом молодой человек, выразив таким образом мнение всех присутствующих. И действительно их принимали восторженно. Ахматова держалась строго и сдержанно и прочла немного. Пастернак начал с заявлений, что сейчас он учится писать у Симонова и Суркова, а потом, как всегда, заражающий и заряжающий слушателей своей покоряющей улыбкой и неповторимым голосом и сам загорающийся от ответного тепла и любви зала, много читал из «Земного простора», иногда сбивался, и ему тут же подсказывали.
(Баранович-Поливанова А.А. Оглядываясь назад. Томск, 2001. С. 116–117)
…Тогда, входя в мою жизнь с ковровой дорожки редакции, он прежде всего поражал диковатой, неправильной четкой скульптурностью – причем скульптура эта была сотворена гением, очевидно, не знавшим канонов и пропорций. Из-под резца этого гения вышел человек без национальности, с яркими, чуть косоватыми глазами над летящими к вискам бровями, человек, бредущий по вселенскому пейзажу.
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. С. 17)
Недели через две, проходя по проезду, название которого я всегда забываю, я издалека заметила: выделяясь из толпы, навстречу идет молодой человек в самом весеннем настроении. Не успела я насмешливо подумать – «страстный брюнет», как увидела рядом с ним стройную блондинку с распущенными волосами и совершенно затуманенным взором. Лицо молодого человека медленно надвигалось на меня выкаченными от восторга глазами, а ноги его как-то странно шаркали по тротуару, как будто каждым шагом он пробовал через асфальт землю. Мимолетное «здравствуйте», какой-то неловкий слабый жест, и виденье исчезло. Уже через несколько дней мне было доложено, что решающее объяснение «брюнета» с «блондинкой» произошло и что ей посвящено «все последнее великое», т. е. роман и стихи…
(Герштейн Э.Г. Мемуары. М., 2002. С. 704)
А потом все начало развиваться страшно бурно. Борис Леонидович звонил мне почти каждый день, и я, инстинктивно боясь и встреч с ним, и разговоров, замирая от счастья, отвечала нерешительно и сбивчиво: «Сегодня я занята». Но почти ежедневно, к концу рабочего дня, он сам появлялся в редакции, и часто мы шли пешком переулками, бульварами, площадями до Потаповского.
– Хотите, я подарю Вам эту площадь? Не хотите? – я хотела.
Однажды он позвонил в редакцию и сказал:
– Вы не можете дать какой-нибудь телефон ваш, например, соседей, что ли, мне хочется вам звонить не только днем, но и вечером. <…>
И вот вечерами раздавался стук по трубам водяного отопления – я знала, что это вызывает меня из нижней квартиры Ольга Николаевна. Б.Л. начинал бесконечный разговор с каких-то нездешних материй. С лукавинкой, будто невзначай, он повторял: «несмотря на свое безобразие, я был много раз причиной женских слез…». <…> Разговоры наши во время длинных прогулок через пол-Москвы были сумбурны и вряд ли можно было их записать. Б.Л. нужно было «выговариваться» и, едва я успевала придти домой, как уже доносился металлический стук по трубам отопления. Я, сломя голову, опять мчалась вниз к незаконченному разговору, а дети с изумлением смотрели мне вслед.
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. С. 21–23)
Уже давно до наших детских ушей долетают суровые суждения бабушки о невозможном, немыслимом ни с какой точки зрения романе матери с женатым человеком («Моих лет!» – восклицает наша бабушка). Для нас не секрет и ее вечерние дежурства на балконе, когда между рядов «хмурых по случаю своего недосыпа» лип нашего двора <…> долго бродят две фигуры – одна из них мать. Прощающиеся уходили во внутренний двор – бабушка перемещалась к другому окну, и все это до тех пор, пока громкий, рокочущий на весь переулок голос Б.Л. – «Посмотрите, какая-то женщина хочет выброситься с шестого этажа!» – не отгонял ее от наблюдательного пункта.
(Емельянова И.И. Легенды Потаповского переулка: Б. Пастернак, А. Эфрон, В. Шаламов. Воспоминания и письма. М., 1997. С. 9–10)
Да, четвертое апреля 1947 года! С него началось наше «Лето в городе». И моя квартира, и квартира Б.Л. были свободны. Мы встречались почти ежедневно. Я часто отворяла ему дверь в семь утра в японском халате с домиками и длинным хвостом позади – и это увековечено в одном из стихотворений «Юрия Живаго» <…>. В то лето особенно буйно цвели липы, бульвары словно пропахли медом. Великолепный «недосып» на рассветах влюбленности нашей – и вот рождаются строчки о недосыпе лип Чистопрудного бульвара.
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. С. 32)
Лето в городе
- Разговоры вполголоса
- И с поспешностью пылкой
- Кверху собраны волосы
- Всей копною с затылка.
- Из-под гребня тяжелого
- Смотрит женщина в шлеме,
- Запрокинувши голову
- Вместе с косами всеми.
- А на улице жаркая
- Ночь сулит непогоду,
- И расходятся, шаркая,
- По домам пешеходы.
- Гром отрывистый слышится,
- Отдающийся резко,
- И от ветра колышется
- На окне занавеска.
- Наступает безмолвие,
- Но по-прежнему парит,
- И по-прежнему молнии
- В небе шарят и шарят.
- А когда светозарное
- Утро знойное снова
- Сушит лужи бульварные
- После ливня ночного,
- Смотрят хмуро по случаю
- Своего недосыпа
- Вековые, пахучие,
- Неотцветшие липы.
Периодически отношения с Ольгой Всеволодовной создавали отцу мучительные ситуации, особенно в те моменты, когда, по ее словам, она ставила вопрос ребром и требовала легализации их отношений. Ей казалось, что Борино имя защитит ее от ареста, которым ей угрожали. Уступая, папочка достаточно открыто афишировал свою «двойную жизнь» и называл ее Ларой своего романа. Как-то наткнувшись на эти слова в какой-то публикации, принесенной доброхотами, Зинаида Николаевна затеяла разговор с папочкой.
– Как же так, Боря, ведь ты всегда говорил мне, что Лара – это я. И Комаровский – мой первый роман, мое глаженье, мое хозяйство.
Папа, на ходу, подымаясь по лестнице к себе наверх и не желая заводить долгий разговор, спокойно ответил:
– Ну, если это тебе льстит, Зинуша, то – ради Бога: Лара – это ты.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 563)
У меня было чувство вины, и до сих пор я считаю, что я во всем виновата. Моя общественная деятельность в Чистополе и Москве затянула меня с головой, я забросила Борю, он почти всегда был один, и еще одно интимное обстоятельство, которое я не могу обойти, сыграло свою роль. Дело в том, что после потрясшей меня смерти Адика мне казались близкие отношения кощунственными, и я не всегда могла выполнять обязанности жены. Я стала быстро стариться и, если можно так выразиться, сдавала свои позиции жены и хозяйки.
(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 340)
Мне было очень хорошо в конце прошлой зимы, весною, летом. Мне было так, как было в Тифлисе. Я не только знал (как знаю и сейчас), где моя правда и что Б<ожьему> промыслу надо от меня, – мне казалось, что все это можно претворить в жизнь, в человеческом общении, в деятельности, на вечерах. Я с большим увлечением написал предисловие к моим шекспировским переводам. <…> С еще большим подъемом я два месяца проработал над романом, по-новому, с чувством какой-то первичности, как может быть только в начале моего поприща. Осенние событья[312] внешне замедлили и временно приостановили работу (все время денег приходится добиваться как милостыни), но теперь я ее возобновил. Ах, Нина, если бы людям дали волю, какое бы это было чудо, какое счастье! Я все время не могу избавиться от ощущения действительности, как попранной сказки.
(Б.Л. Пастернак – Н.А. Табидзе, 4 декабря 1946 г.)
Обращение к роману
…С июля месяца я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки»[313], который в десяти главах должен охватить сорокалетие, 1902–1946 годы, и с большим увлечением написал четверть задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года – первые шаги на этом пути, – и они необычайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, – а вся жинь прошла по этой вынужденно сдержанной программе…
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 5 октября 1946 г.)
Б. Пастернак – политически и духовно чуждый, идущий своей дорогой… Копается в предках, пишет прозу (роман о 1905 годе), переводит Шекспира превосходнейше. Абсолютно не подлаживается, независим (порой демонстративно).
(Вишневский Вс. Из дневника (запись от 30 августа 1946) // Громова Н.А. Распад: Судьба советского критика в 40-50-е гг. М., 2009. С. 94)
…В 36 году, когда начались эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35 году казалось), все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы. Личное творчество кончилось. Оно снова пробудилось накануне войны, м.б. как ее предчувствие, в 1940 г. (На ранних поездах). Трагический тяжелый период войны был живым (дважды подчеркнуто Пастернаком) периодом и в этом отношении вольным радостным возвращением чувства общности со всеми. Но когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда, после такой щедрости исторической стихии, повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 года) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз.
(Запись Б.Л. Пастернака от 17 ноября 1956 г. // Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. С. 101)
Гогла[314] напомнил, что 15-го – годовщина мученической кончины Тициана, просил написать Вам.
Друг мой Нина, что я могу еще сказать сверх того, что я сказал всеми долгими годами своего горького отчуждения от всех или большинства. Это повернуло меня спиной к людям вроде Тихонова или ничтожествам и советским Молчалиным вроде Гольцева[315]. Как бедный Паоло еще спорил со мной, упрекал меня, как можно идти против всего народа, как еще недавно та же Фатьма почти тем же самым укоряла меня!
О, как давно почувствовал я сказочную фантастическую ложь и подлость всего, и гигантскую, неслыханную, в душе и голове не умещающуюся преступность!
Но все это к делу не относится. Нужно как-то так выплакать эту боль, чтобы, если возможно, принести Вам облегчение и утишить упрек и жалобу этой тени, удовлетворить ее беззвучное напоминание, ее справедливый иск.
Все это не делается в письме, все это, может быть, когда-нибудь сделается.
Когда в редкие, почти не существующие моменты я допускал, что Тициан жив и вернется, я всегда ждал, что с его возвратом начнется новая жизнь для меня, новая форма личной радости и счастья.
Оказалось, в этом нам так страшно отказано. Все остается по-старому. Тем осмотрительнее внутри своей совести, тем прямее и непримиримее надо быть нам, наученным таким страшным уроком. Я говорю о нас самих, а не о воздаянии кому-то другому. Другие никогда не интересовали меня. Обнимаю Вас.
(Б.Л. Пастернак – Н.А. Табидзе, 11 декабря 1955 г.)
Душа
- Душа моя, печальница
- О всех в кругу моем,
- Ты стала усыпальницей
- Замученных живьем.
- Тела их бальзамируя,
- Им посвящая стих,
- Рыдающею лирою
- Оплакивая их,
- Ты в наше время шкурное
- За совесть и за страх
- Стоишь могильной урною,
- Покоящей их прах.
- Их муки совокупные
- Тебя склонили ниц.
- Ты пахнешь пылью трупною
- Мертвецких и гробниц.
- Душа моя, скудельница,
- Всё виденное здесь,
- Перемолов, как мельница,
- Ты превратила в смесь.
- И дальше перемалывай
- Все бывшее со мной,
- Как сорок лет без малого,
- В погостный перегной.
Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый, целиком перекрывающий конец, которые требовали расплаты и удовлетворения, чего-то сразу сокрушающего привычные для тебя мерила, как, например, самоубийства в жизни других или политические судебные приговоры, – тут не обязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души в то, что как будто обходилось без нее и ее не касалось.
Я не говорю, что роман нечто яркое, что он талантлив, что он – удачен. Но это – переворот, это – принятие решения, это было желание начать договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях.
(Б.Л. Пастернак – Вяч. Вс. Иванову, 1 июля 1958 г.)
У меня есть сейчас возможность поработать месяца три над чем-нибудь совершенно своим, не думая о хлебе насущном. Я хочу написать прозу о всей нашей жизни от Блока до нынешней войны, по возможности в 10–12-ти главах, не больше. Можете себе представить, как торопливо я работаю и как боюсь, что что-нибудь случится до окончания моей работы! И как часто приходится прерывать.
(Б.Л. Пастернак – Н.Я. Мандельштам, 26 января 1946 г.)
Осенью 1946 года, после ждановских постановлений[316], папа читал у себя на даче первые главы «Доктора Живаго». Не помню, то ли я случайно был в тот день в Переделкине, то ли папочка специально позвал меня, но я оказался там в одно из воскресений, когда он читал две написанные к этому времени главы. Это происходило на нижней террасе. Меня поразили рассуждения Веденяпина, а «Девочка из другого круга» была значительно длиннее, чем в окончательном виде, и написана с большим чувством. Интересно отметить, что Лара в первом варианте была брюнеткой. Казалось, что эти главы были многократно продуманы и пережиты уже давно, но записаны теперь совсем по-новому, как бы другим человеком. Это сказывалось в обилии рассуждений, перемежавшихся картинами природы и бытовыми зарисовками. Главным здесь была мгновенно запоминающаяся, выпуклая живописность отдельных сцен и положений, которые сразу отпечатались у меня в памяти именно в первоначальном варианте. При последующем чтении я болезненно подмечал перемены и старался найти первоначально услышанное. Текст воспринимался не только на слух, но зрительно – ярко возникал перед глазами.
После чтения ужинали в столовой. Были Асмус, Н.Н. Вильям. Основной разговор шел с Виктором Гольцевым. Не помню, с чего он начался, но свелось к тому, что Гольцев утверждал невозможность возврата к прошлому после войны и наступление нового безусловного доверия к будущему. Больше уже не может быть несправедливых арестов, говорил он. Папочка в запальчивости кричал на него, что, напротив, его и теперь в любую минуту могут ни за что посадить.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 474–475)
Б. Пастернак не такой старый человек, как Ахматова[317], – почти наш сверстник; он рос в условиях советского строя, но в своем творчестве он является представителем того же индивидуализма, который глубоко чужд духу нашего общества. С какой стати мы проявляем своего рода угодничество по отношению к человеку, который в течение многих лет стоит на позиции неприятия нашей идеологии. Благодаря тому, что о нем не сказано настоящих слов, его поэзия может запутывать иных молодых людей, казаться им образцом. <…> А что это за «ореол», когда в жестокой борьбе, в которой проливали кровь миллионы наших людей, поэт никак не участвовал? Война прошла, а кроме нескольких стихотворений, которые ни один человек не может считать лучшими у Пастернака, он ничего не дал. Разве не правильно было мое выступление в 1943 году, когда я говорил, что переводы Шекспира – это важная культурная работа, но уход в переводы от актуальной поэзии в дни войны – это есть определенная позиция.
(Фадеев А.А. Из выступления на заседании президиума секретариата ССП 4 сентября 1946 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 1. С. 929)
Именно вследствие отсутствия подлинно руководящей и направляющей работы Правления ССП стало возможным широкое распространение аполитичной, безыдейной, оторванной от народной жизни поэзии Б. Пастернака, рекламируемой некоторыми критиками (А. Тарасенков в «Знамени»).
(Резолюция президиума ССП // Литературная газета. 1946. 7 сентября. № 37)
Вчера вечером <…> я <…> был на чтении у Пастернака. Он давно уже хотел почитать мне роман, который он пишет сейчас. <…> А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, в «Правде» напечатана резолюция Президиума ССП, где Пастернака объявляют «безыдейным, далеким от советской действительности автором». Я был уверен, что чтение отложено, что Пастернак горько переживает «печать отвержения», которой заклеймили его. Оказалось, что он именно на этот день назвал кучу народа: Звягинцева, Корнелий <Зелинский>, Вильмонт и еще человек десять неизвестных. Роман его я плохо усвоил, так как вечером не умею слушать, устаю за день к 8-ми часам… Потом Пастернак пригласил всех ужинать. Но я был так утомлен романом, и мне показался таким неуместным этот «пир» Пастернака – что-то вроде бравады, – и я поспешил уйти.
(Запись от 8 сентября 1946 г. // Чуковский К.И. Дневник 1929–1969. М., 1994)
Шел 47-й год. Конечно, Фадеев не Жданов, и выступления Фадеева против Пастернака (которые я слышала своими ушами) были не в пример легче ждановских против Ахматовой. Но вылазка Фадеева против Пастернака была следствием того же постановления 46 года. Фадеев с трибуны объяснял: «Пастернак идейно чужд», он «не наш», Пастернака недаром ценят за границей – он недаром по душе нашим врагам; он не только в собственные стихи, а и в переводы вносит вредный идейный сумбур. Фадеев, конечно, был исполнителем высшей воли, а приказ был ясен – расправиться. И расправа со стихами Пастернака шла полным ходом. Я наблюдала ее вблизи. В 1947 году я работала в «Новом мире», в отделе поэзии. Главным редактором журнала считался Симонов[318], но фактическим всевластным хозяином был его заместитель, Кривицкий. Ну вот. Однажды, в январе 47 года, Симонов поручил мне просить у Бориса Леонидовича стихи для журнала. Пастернак дал несколько стихотворений, в том числе «Март» и «Бабье лето».
– Возмутительно! – закричал Кривицкий, едва пробежав глазами «Март».
Признаюсь, я опешила. Я была совершенно уверена в полной политической безвинности весенних стихов.
– Нет, это невозможно! – надрывался Кривицкий. – Это издевательство! Это прямой вызов!
– Да в чем дело-то, где?
– Вы что же, читать не умеете?
И Кривицкий огласил крамольные строки:
- Настежь все – конюшня и коровник.
- Голуби в снегу клюют овес,
- И всего живитель и виновник, —
- Пахнет свежим воздухом навоз.
– Всего живитель и виновник – навоз! Тут целая антисоветская философия. Это значит, что все в нашей стране, в том числе и советская власть, стоит на навозе.
Я продолжала пребывать в столбняке. Расправившись с «Мартом», Кривицкий накинулся на «Бабье лето». <…>
– Приходит всему свой конец! – кричал Кривицкий. – Чему всему? Советской власти? «Лоскутница осень»! Это значит, наши люди ходят в лохмотьях… «Как в воду опущена роща»! Ходят понурые, как в воду опущенные! А «все пред тобой сожжено»? Как вам это понравится? Опять – «все»! Строй! Власть!
– Да ведь не о Красной же площади или Кремле идет речь! – ответила я, выйдя наконец из состояния столбняка и впадая в противоположное: в бешенство. Я чувствовала, что совершаю кощунство, но остановиться не могла. – Не Дворцовую площадь, не кремлевские башни предлагает поджечь Пастернак, как вы нарочно вчитываете в его стихи! Он говорит об осени! О красных осенних листьях! Осень сжигает лес! Это – лирическое стихотворение, а не призыв к бунту, который вам хочется во что бы то ни стало у Пастернака найти!
…Нашпигованный Кривицким, Симонов некоторое время колебался – между мною и им, а через несколько дней вдруг, в присутствии Кривицкого, вскользь объявил мне, что Пастернака мы печатать не будем. И попросил передать это Борису Леонидовичу. Передавать отказ я отказалась: так или иначе, а придется ведь мотивировать – не могла же я передавать Пастернаку кривицкие мотивировки! Я настаивала, чтобы Симонов сам позвонил Пастернаку. Симонов понял меня и согласился. Но Кривицкий – снова в крик:
– Незачем тебе ему звонить! Я не ожидал от него! Крупный поэт! Что за стихи он подсунул нам! Если это всего лишь о временах года, как в своей политической слепоте полагает Лидия Корнеевна, то это тоже безобразно! Ни слова о войне, о всенародных победах! И это в его-то положении, когда мы, желая его выручить, предоставили ему трибуну для покаяния!
– Мне жаль, – сказала я, – что мы вообще просили у Пастернака стихи.
– Нисколько не жаль! Просили, он дал, а мы прочли и печатать не станем. Так ему и надо. Нечего стоять перед ним на задних лапках!
(Запись от 19 или 20 июня 1960 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 406–407)
Б.Л. принес, помню, свое стихотворение «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»). <…> Помню, как мы с Лидией Корнеевной Чуковской (она была лит. консультант «Нового мира») возмущались: Симонов обещал напечатать Пастернака, не напечатал, и, нервно шагая по редакторскому кабинету, уверял теперь, что отдал бы пять лет жизни за «Зимнюю ночь». Тем не менее он не напечатал этого стихотворения, да и рубрика распалась. Зато свеча из «Зимней ночи», умножившись, зажглась в симоновских стихах того периода.
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени С. 25)
Пастернак рассказывал, как к нему приходили знакомые с советами выступить в печати с критикой Анны Ахматовой. Он отвечал, что никоим образом не может этого сделать, это совершенно исключено, так как он очень ее любит и она как будто тоже неплохо к нему относится. «Но ведь и ваши стихи тоже непонятны народу». «Да-да! – почти радостно отвечал он. – Мне еще об этом ваш Троцкий говорил!» Упоминание этого имени было чистым хулиганством. Литературных наставников точно ветром сдуло.
(Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. С. 381–382)
Милая Ниночка, осенняя трепотня меня ни капельки не огорчила. Разве кто-нибудь из нас так туп и нескромен, чтобы сидеть и думать, с народом он или не с народом? Только такие фразеры и бесстыдники могут употреблять везде это страшное и большое слово, не заботясь о том, осталось ли у него какое-нибудь значение <…>
(Б.Л. Пастернак – Н.А. Табидзе, 4 декабря 1946 г.)
23 июня 1948 г. Сегодня принес много фотографий, снятых мною, Борису Леонидовичу. Рассматривая их, он сказал мне: «Никто меня так хорошо не снимал». Рассказал, что по поводу трудного положения Анны Ахматовой он звонил в ЦК и в Союз писателей. В результате было постановление выдать ей ссуду без ее заявления и дать ей переводческую работу. Пастернак сказал мне, что 5 лет тому назад он чувствовал себя помолодевшим. Говорил, что у него сейчас такой прилив энергии, что хочется сделать что-то большое.
(Горнунг Л.В. Встреча за встречей: по дневниковым записям // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 90)
6 февраля 1946 г. Нам был дан адрес: где-то на Беговой улице <…>. Жила Мария Вениаминовна[319] в двухэтажном коттедже на Беговой, от которого теперь и следа не осталось. Замирая от волнения (столько незнакомых, да и хозяйка дома – знаменитая пианистка, а ну как скажет: «А кто вы такие? А вы куда?»), мы постучали (или позвонили). Дверь открыла сама Мария Вениаминовна в черном бархатном концертном платье с пышными черными с проседью волосами по плечам. Здравствуйте, – сказали мы с Машей неуверенно. Нам ответили доброжелательно и радушно: Проходите, проходите, девочки. Раздевайтесь. У нас тепло. <…> Мы сняли пальто и вошли в теплую комнату с розовыми стенами. Там было уже много народу. <…> Б.Л. сел за столик и начал читать: «Шли и шли и пели вечную память…». <…> прочитал он, по-моему до «Елки у Свентицких». Все сразу заговорили, зашумели, послышались похвалы. Стали задавать вопросы. Кто-то спросил, что будет дальше? Он ответил, что Юра женится на Тоне, станет врачом, начнется война, революция… Он познакомится с Ларой и будет много печального. На вопрос Н.П. Анциферова, есть ли прототип у Веденяпина и не Флоренский ли? И чьи это идеи? – ответил, что не Флоренский безусловно, а скорее Бердяев, что же касается идей, то это идеи его самого. «Это мои идеи». Кто-то спросил, можно ли назвать эту вещь традиционным романом. Б.Л сказал, что в общем можно, но скорее это не роман, а эпопея. «Эпопее-е-я», – растягивая «е», повторил он. Спросили, какую роль будут играть в романе стихи, и он ответил, что так как это стихи Юры Живаго, то, скорее всего, они будут просто отдельной тетрадкой. <…> Бориса Леонидовича просили почитать стихи, но он не захотел. Мария Вениаминовна стала звать гостей к столу.
(Берковская Е.Н. Мальчики и девочки 40-х годов // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 540–541)
…Мы поехали к Марии Вениаминовне Юдиной, прямо в рождественскую метель, блуждали среди снежных сугробов на чьей-то чужой машине. Кроме нас – племянница Щепкиной-Куперник и еще кто-то. И вот мы в снегу, в лунном, снежном бездорожье, среди одинаковых домиков за «Соколом», и не можем найти нужного дома. У меня все время вертелись строчки: «Не тот это город, и полночь не та. И ты заблудился, ее вестовой». Я смотрела на профиль Б.Л.; он сидел рядом с шофером и с улыбкой оборачивался ко мне: «Я не помню номера дома, забыл адрес! Интересно, если мы заблудимся; а они нас там давно уже ждут». <…> Мария Вениаминовна долго играла Шопена; Б.Л. был особенно возбужден музыкой, глаза его блестели. <…> Наконец Б.Л. начал читать.
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. С. 210–211)
Вдруг особенно ясно стало – кто Вы и что Вы. Иной плод дозревает более, иной менее зримо. Духовная Ваша мощь вдруг словно сбросила с себя все второстепенные значимости, спокойно и беззлобно улыбаясь навстречу как бы задохнувшемуся изумлению и говоря: «Как же это Вы меня раньше не узнали? Я же всегда был здесь» <…>. Если слишком долго говорить о том, что думаешь в связи с этой вещью, то о чувстве и впечатлении можно сказать кратко, ибо это непрекращающееся высшее созерцание совершенства и непререкаемой истинности стиля, пропорций, деталей, классического соединения глубоко запечатленного за ясностью формы чувства <…> и грандиозности общего замысла, то редкостное убеждение незыблемости, адекватности каждого слова, выражения, оборота, размера фразы. Вначале в особенности <…> меня донельзя поразила краткость отточенных фраз, усугубляемая яркой выразительностью Вашего чтения, из каждой сияющая образность и стягивающий их в единый центр этический смысл <…> О стихах и говорить нельзя. Если бы Вы ничего, кроме “Рождества” не написали в жизни, этого было бы достаточно для Вашего бессмертия на земле и на небе.
(М.В. Юдина – Б.Л. Пастернаку, 7–8 февраля 1947 г. // Новый мир. 1990. № 2. С. 173–174)
Он очень смеялся, когда я ему рассказал об одном моем московском знакомом, любителе и большом знатоке пастернаковских стихов, либерале западного толка, который почитал религиозные стихи из романа «Доктор Живаго» просто прекрасной литературной стилизацией и никак не мог допустить, чтобы поэт, Пастернак, такой интеллигентный и тонкий автор, на самом деле, буквально веровал в Бога, словно глупые старухи. Для него, моего приятеля, представление, что Бога нет, являлось аксиомой, известной с детства всякому современному человеку. – А что Бог – Он с бородой? – спрашивал либеральный приятель, ужасаясь мысли, что Пастернак, сам Пастернак, мог думать и писать о Боге, о Христе вполне серьезно.
– Это – пройдет! Это – пройдет! – повторял, смеясь, Пастернак, будто речь шла о какой-нибудь вздорной детской болезни. И заговорил о Христе, идущем к нам оттуда, из далей истории, как если бы эти дали были сегодняшним днем и так же прозрачно, как сегодняшний день, вечерели, склоняясь в необозримое завтра. В словах Пастернака, мне показалось, не было и тени апокалиптических ожиданий. Христос приходил сегодня, потому что вся новая история начиналась с Христа и с Евангелия, включая и нынешний день, и Христос был самой естественной и самой близкой действительностью. Разгороженности на века, на народы, на церкви для Пастернака не существовало. Он и здесь мыслил и видел как бы «поверх барьеров». История с ее прошлым, настоящим и будущим была как бы полем, единым полем, пространством, расстилавшимся перед глазами. Поглядывая в окошко, на заснеженные поля и пригорки, Пастернак говорил о Христе, который идет к нам оттуда, идет без аффектации, без торжественного, благолепного пафоса, просто и спокойно, словно «там» и «оттуда» было прилегавшим к его дому соседним участком со всей уходящей вдаль панорамой покрытых снегом полей. Это и была та степень одухотворенности и свободы, для которой, кажется, сама смерть только форма, старая форма, за которую не стоит слишком цепко держаться…
(Синявский А.Д. Один день с Пастернаком // Синтаксис. Париж. 1980. № 6. С. 138–139)
Всеволод упрекнул как-то Бориса Леонидовича, что после своих безупречных стилистически произведений «Детство Люверс», «Охранная грамота» и других – он позволяет себе теперь небрежение стилем. На это Борис Леонидович возразил, что он «нарочно пишет почти как Чарская», его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а «доходчивость», он хочет, чтобы его роман читался «взахлеб» любым человеком, «даже портнихой, даже судомойкой». <…> Борис Леонидович в тот момент упорно провозглашал, пусть и не достигая желаемого, простоту во имя простоты. Пастернак подразумевал тогда под простотой неповторимость видения, свойственную только данному художнику, с только ему одному присущей образностью, а под сложностью – банальность общих мест. Теперь же (в конце пятидесятых годов) он действительно впал в ересь упрощенчества (конечно, не в творчестве своем, а только в теоретизировании). Он всерьез развивал перед нами теорию о необходимости переиздания всех своих ранних стихов с построчным их прозаическим разъяснением.
(Иванова Т.В. Борис Леонидович Пастернак // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 285)
В конце июня[320] я сидел в Александровском саду с книгой. Еще издали я увидел идущего по аллее человека в странном плаще песочного цвета из какого-то негнущегося жесткого материала. На него все оглядывались. День был жаркий, и человек в плаще выглядел странно. Когда он подошел ближе, я узнал Б.Л. и окликнул его. Он улыбнулся, подошел и сел рядом. У меня вертелось на языке посоветовать ему снять плащ, но я не решился. Впрочем, он минут через десять сам снял его, как-то вдруг догадавшись, что в нем жарко. Мы просидели больше двух часов, разговаривая о разном, в той части сада, которая выходит к набережной <…>. Я сказал Б.Л., что до меня дошли его стихи из романа, и попытался сформулировать свое впечатление о них. Спросил о работе над романом. Вечером по старой привычке записал кое-что из этого разговора… <…>
– Когда делаешь большую работу и весь захвачен ею, она продолжает расти – и даже в часы отдыха, безделья и сна. Надо только уметь ввериться свободному течению, несущему тебя на своих волнах. Это тоже непросто. По рационалистическому недоверию ко всему бессознательному иногда, вместо того чтобы дать нести себя этому потоку, который сильнее тебя, начинаешь пытаться плыть против течения, тратить силы на ненужные и лишние движения…<…>
– Я вернулся к работе над романом, когда увидел, что не оправдываются наши радужные ожидания перемен, которые должна принести России война. Она промчалась как веянье ветра в запертом помещении. Ее беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали господство всего надуманного, искусственного, неорганичного природе человека и общества, что получило у нас такую власть, но все же пока победила инерция прошлого. Роман для меня – необходимейший внутренний выход. Нельзя сидеть сложа руки. Надо отвечать за свою жизнь и за то, что тебе дано. <…>
Маленькая девочка, играя, попадает мячиком прямо в Б.Л. в тот момент, когда он говорил особенно увлеченно. Он смущенно замолк. Я поднимаю мячик и бросаю ей обратно. Она со смехом убегает. После этого разговор переходит на разные пустяки. Я машинально смотрю на часы. Б.Л. ловит этот жест и начинает извиняться, что он меня «задержал». Мы встаем и идем к выходу из сада. Он несет на руке свой нелепый плащ.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 183–191)
Сперва расскажу о том, что помешало мне, или о том, что не совсем понятно мне, или о том, с чем я не вполне согласна. Во-первых – теснота страшная. В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их совершенно необходимой «кубатуры», необходимого пространства и простора, воздуха! И это не случайность, это не само написалось так (как иногда «оно» пишется само!). Это – умышленная творческая жестокость по отношению, во-первых, к тебе самому, ибо никто из известных мне современников не владеет так, как ты, именно этими самыми пространствами и просторами, именно этим чувством протяжения времени, а во-вторых, – по отношению к героям, которые буквально лбами сшибаются в этой тесноте. Ты с ними обращаешься, как с правонарушителями, нагромождая их на двойные нары, или как тот Людовик с тем епископом.
(А.С. Эфрон – Б.Л. Пастернаку, 28 ноября 1948 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 2. С. 20)
Ангел Аля, ты мне написала за всех и лучше всех. Вероятно, ты права, и как-нибудь в другой раз, когда я буду посвободнее, я тебе объясню, как это все получилось. Я подчинял себя и эту вещь обстановке, в которой она возникала, а не освобождал ее от нее, как это всегда бывает в искусстве. Я ссылаюсь на сумасшествие ее возникновения (наперекор окружающим условиям) не как на оправдание ее недостатков, а как на добровольно допущенное ее содержание, как на составную часть ее стиля, мне казалось, что вещи можно позволить быть не только изображением прошлого, но и несчастным отпечатком настоящего, загнанным, задыхающимся и стесненным. Если даже торопливость моя была непрямая, а выброски и усечения требовали дополнительного труда, может быть, я был не так не прав, полагая, что по тысяче разных причин современная душа (как и моя собственная) не выносит длинных вещей. Наверное, я перемудрил, но доля допущенного пересола, быть может, со временем рассосется и сгладится.
Не вступай в спор со мной по этому поводу – я с тобой соглашаюсь. Ты безумно проницательна и права, этими же недостатками отличалась проза Рильке, которого я боготворил.
(Б.Л. Пастернак – А.С. Эфрон, 2 декабря 1948 г.)
Наконец-то я достигла чтения твоего романа. Какое мое суждение о нем? Я в затрудненьи: какое мое суждение о жизни? Это – жизнь – в самом широком и великом значеньи. Твоя книга выше сужденья. К ней применимо то, что ты говоришь об истории как о второй вселенной. То, что дышит из нее, – огромно. Ее особенность какая-то особая (тавтология нечаянная), и она не в жанре и не сюжетоведении, тем менее в характерах. Мне недоступно ее определенье, и я хотела бы услышать, что скажут о ней люди. Это особый вариант книги Бытия. Твоя гениальность в ней очень глубока. Меня мороз по коже подирал в ее философских местах, я просто пугалась, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выраженья в искусстве или науке – и боишься этого до смерти, так как она должна жить вечной загадкой. Ты не можешь себе представить, что я за читатель: я читаю книгу, и тебя, и нашу с тобой кровь, и поэтому мое сужденье не похоже на человеческое, доступное. Этим нужно всем обладать, а не просто читать, как не читают женщину, а обладают ею. Поэтому такое чтение напрокат почти бессмысленно. Как реализм жанра и языка, меня это не интересует. Не это я ценю. В романе есть грандиозность иного сорта, почти непереносимая по масштабам, больше, чем идейная. Но, знаешь, последнее впечатление, когда закрываешь книгу, страшное для меня. Мне представляется, что ты боишься смерти, и что этим все объясняется – твоя страстная бессмертность, которую ты строишь как кровное свое дело. Я всецело с тобой в этом; но мне горестно, как человеку одной с тобой семьи – одних уже нет, а те далече – и тютчевского «на роковой стою очереди». Это такое чувство, словно при спуске в метро: стоишь на месте, а уже не вверху, а внизу…
(О.М. Фрейденберг – Б.Л. Пастернаку, 29 ноября 1948 г. // Пастернак Б.Л. Пожизненная привязанность: переписка с О.М. Фрейденберг. С. 314–315)
Вчера я окончила перечитывать первые части романа Пастернака.
– Ваш диагноз? – осведомилась Анна Андреевна.
– Кроме гениальных пейзажей, – сказала я, – которые детям в школах надо учить наизусть, наравне со стихами, многие страницы воистину ослепительны. Перечитывая, я соглашаюсь с собственным давним восхищением сороковых годов, когда я слушала первоначальные главы из уст автора и читала их по его просьбе сама. Замечателен девятьсот пятый год – по-видимому, девятьсот пятый, совпавший с юностью, всегда вдохновителен для Пастернака. А просторечье! Оно – концентрат, как в «Морском мятеже»! А мальчики – в сущности, братья – мальчики с нацеленными друг на друга дулами, «белые» и «красные» – в лесу! А «выстрелы Христовы» на улицах Москвы! А царь – удивление перед средоточием могущества в такой малости… Но вы правы: главные действующие лица неживые, они из картона, особенно картонен сам Живаго. И язык автора иногда скороговорочностью доведен до безобразия. Не до своеобразия, а до безобразия. Трудно бывает поверить, что это написано рукой Пастернака. «При поднятии на крыльцо изуродованный испустил дух». При поднятии! И это пишет автор «Августа»!
– В одной итальянской газете, – сказала Анна Андреевна, не слушая меня, – напечатана статья под заглавием: «Неудавшийся шедевр».
(Запись от 8 марта 1958 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 278–279)
Вот уже сутки я не ем, не сплю, не существую, а читаю роман. Сначала и до конца и опять сначала и вразбивку. Вряд ли я могу сказать о нем что-нибудь вразумительное. Главные чувства два: не хочу снова остаться без него, хочу читать и читать. Умоляю Вас позвонить мне, когда будете в городе, и позволить мне прочесть все написанное. Второе чувство: учишься понимать, за что уничтожают искусство. Оно и в самом деле оглушает с такой силой, что бок о бок с ним невозможно жить.
Многие стихи читаю в первый раз: «Свидание», «Гефсиманский сад», «Магдалина», «Дурные дни».
«Свидание» пронзительно, я переписала и реву над ним так же, как над «Дурными днями».
Вряд ли Вам могут быть нужны мои слова и оценки. Я прочла роман как письмо, адресованное мне, хочется носить его не расставаясь в сумочке, чтобы в любую минуту вынуть, убедиться, что оно существует, и перечесть самые любимые места.
(Л.К. Чуковская – Б.Л. Пастернаку, 28 августа 1952 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 2. С. 33)
Я давно уже не читал на русском языке что-либо русского, соответствующего адекватно литературе Толстого, Чехова и Достоевского. «Доктор Живаго» лежит безусловно в этом большом плане. И знаете что? Я могу следить за организацией, за композицией романа, обращать на нее внимание только тогда, когда у автора оказывается мало силы, чтобы увлечь меня своими ощущениями, мыслями, образами. Но когда мне хочется с автором, с его героями, спорить, когда их мысли я могу противопоставить свою, или, побежденный ими, согласиться, пойти за ними, или их дополнить – я говорю с его героями как с людьми у себя в комнате – что мне за дело до «архитектуры» романа? Она, вероятно, есть, как эти «внутренние своды» в «Анне Карениной», но я встречаюсь с писателем, как читатель, – лицом к лицу с писательскими мыслями и чувствами – без романа, забывая о художественной ткани произведения. Вот почему мне нет дела – роман ли «Доктор Живаго», или «Картины полувекового обихода», или еще что. Там очень много такого, высказанного Ларой, Веденяпиным, самим Живаго, о чем мне хочется думать, и все это живет во мне отдельно от романа, окруженное душевной тревогой, поднятой этими мыслями.
(В.Т. Шаламов – Б.Л. Пастернаку, 20 декабря 1953 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 2. С. 39)
Скажу вам прямо: я не сочувствовал его роману. Может быть, я был неправ, но меня глубоко задевала эта ожесточенная борьба с человеческой строгонаучной мыслью, с культурой именно в том смысле, которая ведется в романе с точки зрения религиозной. Повторяю: может быть я неправ, но таково мое было убеждение, когда Боря заставил меня прочесть всю рукопись. И я это ему высказал. Он был обижен ужасно – и с тех пор мы не видались. Когда я прочел в рукописи его, что «до Христа была природа, а только после него началась история…»[321] – то я был просто потрясен. Ведь Боря учился у Когена.
(Бобров С.П. – Ж.Л. Пастернак, январь 1967 г. // Пастернаковский сборник. Вып. 2. С. 206–207)
Я хотел много раз говорить с тобой о романе. У тебя великое видение мира. Оно прорезывает вещи как разрезальный нож страницы или как солнце горизонт утром. Узнавание мира влюбленное и правильное. В этом роман гениален и мог бы повернуть русскую прозу. Но философия романа, его гуманизм, противопоставленный Риму; командный пункт ни <нрзб>, гора Валаама, с которой он говорит, кажутся мне обыденскими. Спорность их сегодня не делает их новыми называниями. Страницы разрезываются по тексту. Мальчик, вырастая в поэта и уходя из старого дома, не приходит в новый. Он приходит в дом скучный. В том доме жить нельзя. Время угадано не так, как оно пойдет. Трагическое безжалостное, во многом не правое и перед ним оно не может быть исправлено так. Я отношусь к тебе, как к своему самому старшему современнику, но я с романом не согласен. Стихи распарывают его и уводят в высь.
(В.Б. Шкловский – Б.Л. Пастернаку, 2 октября 1955 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 2. С. 52)
Говоря кратко, роман меня разочаровал. Не поверив себе, я, перевернув последнюю страницу, стал снова читать его с самого начала. Выносить суждение об этой уже такой знаменитой книге было делом слишком серьезным и ответственным перед самим собой. Я прочитал его дважды и потом еще много раз перелистывал, просматривая отдельные главы и страницы, споря мысленно и с собой, и с Б.Л. Скажу больше – знакомство с романом было для меня драматичным и потому, что я очень любил Б.Л. как человека и художника, и еще потому, что мне не хотелось увеличивать ряды тех, кто бранил роман, не задумавшись над ним глубоко (а часто и вовсе не прочитав его). Я навсегда останусь бесконечно благодарным Б.Л. за все, что получил и продолжаю получать от его поэзии, но он сам где-то на страницах своей книги говорит, что главная беда времени – отсутствие у людей собственного мнения. И поэтому, исполняя завет Б.Л., я решаюсь сформулировать собственное мнение о его романе, каким бы оно ни было. <…> Все, что в этой книге от романа, – слабо: люди не говорят и не действуют без авторской подсказки. Все разговоры героев-интеллигентов – или наивная персонификация авторских размышлений, неуклюже замаскированных под диалог, или неискусная подделка. Все «народные» сцены по языку почти фальшивы: этого Б.Л. не слышит (эпизоды в вагоне, у партизан и др.). Романно-фабульные ходы тоже наивны, условны, натянуты, отдают сочиненностью или подражанием. Заметно влияние Достоевского, но у Достоевского его диалоги-споры – это серьезные идейные диспуты с диалектическим равенством спорящих сторон (как это превосходно показал в своей книге Бахтин), а в «Докторе Живаго» все действующие лица – это маленькие Пастернаки, только одни более густо, другие пожиже замешанные. Широкой и многосторонней картины времени нет, хотя она просится в произведение эпического рода. Это моралистическая (даже не философская) притча с иллюстрациями романического и описательного характера. Все, что говорится о природе, – прекрасно. И об искусстве. И о процессе сочинения стихов (без этих страниц в будущем не обойдется ни один исследователь поэзии Пастернака). И многие попутные мысли и рассуждения (в некоторых из них я встретился с уже слышанным ранее от Б. Л., – правда, большей частью иначе сформулированным). И отдельные психологические этюды, разбросанные там и тут по ходу действия. И, конечно, стихи. И еще кое-что. Но великого романа нет.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 217–219)
Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса и Достоевского, – эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности. Атмосфера вещи – мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным.
(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 13 октября 1946 г.)
Прошлогоднюю весну я провела за городом… и теперь нередко туда езжу. Но прошлой весной я впервые за много-много лет, может быть, первый раз после детства видела это поистине новое чудо[322]… Весна, природа, бытие — то, что почти ушло из нашей жизни, – была поистине новым чудом, непрерывным, непреходящим, и вот это-то, по-моему, и есть ты… Наверное, сказалось плоско, а думается и чувствуется – много, но о настоящем искусстве почти невозможно говорить – что к нему прибавишь? Тем более, что той и этой весной я все больше понимаю, что ты – не метафоричен, а буквален, точен, что твоя метафора – стирание «случайных черт»[323]… Это не поэзия о природе, о любви, а поэзия самой природы… И как музыка равно сама себе, так и ты… И, господи, как не поймут, что никакое звукоподражание дню не передает его звучания… но это предмет тяжелого и бесконечного недоумения… Я очень благодарна судьбе за то, что у меня есть твоя поэзия, что моя любовь к ней владеет новыми подтверждениями – Рождественской звездой, горящей свечой, Гамлетом….
(О. Берггольц – Б.Л. Пастернаку, 15 апреля 1947 г. // Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. С. 561–565)
Дорогой Борис Леонидович! Если бы меня спросили, что я слушала в субботу[324], я бы сказала – книгу о бессмертии. О страсти к бессмертию. О религиозном чувстве, уже освобожденном от веры в Бога. В книге описано наступление новой эры, когда земля жаждет нового гения. Все к этому готово. Каков он будет? Никто не знает. Не дано знать и автору. Но великий художник, он знает, как рождается гений.
Россия начала XX века заговорила в романе целым морем разных голосов. Их мысли – реминисценции, а их страсть – сокрушающая, новая. У всех кружилась голова от ощущения новизны и возможности все переделать. Не только возможности, но и необходимости, непреодолимости: «ноги сами знали, куда они идут». У всех было чувство высшей связи всего совершающегося, единственной неповторимой значительности своей жизни: у Лары – «выстрелы, вы тоже так думаете». Это – самая современная книга из всех, какие мы знаем. <…> Когда мы будем читать и перечитывать Ваш роман, мы долго будем вдумываться в каждого героя и по-разному понимать. Скольким людям этот роман будет сопутствовать, сколько новых мыслей и чувств он породит, сколько будет последователей, подражателей. Даже голова кружится, когда представишь себе будущую судьбу этой книги. А пока повторю только то, что я сказала Елизавете Яковлевне Эфрон[325]: «Это было так же, как если бы Вы услышали самого Лев Николаевича, впервые читающего “Войну и мир”».
(Э.Г. Герштейн – Б.Л. Пастернаку, 6–8 апреля 1947 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 2. С. 9)
Мы присутствовали при зарождении чего-то очень большого, может быть, – новой «Войны и мира».
(Чуковская Л.К. // Сергеева-Клятис А.Ю., Смолицкий В.Г. Москва Пастернака. М., 2009. С. 382)
Несобранность. Сырой материал. Но очень значительно, блестящие страницы, есть очень тонкие, трогательные места. Конечно, может вылиться в нечто от В<ойны> и М<ира>.
(Никитина Е.Ф. // Сергеева-Клятис А.Ю., Смолицкий В.Г. Москва Пастернака. С. 382)
Несомненно, идет по линии от Л. Толстого и А. Белого. Но, конечно, свое. Есть и от Джойса, но по-русски организованное. Стиль – проза, прошедшая через поэта. При чтении – нащупывает тональность фразы, поэтому начинает иногда фразу несколько раз. Читает не артистически, но авторски, блестяще. Читая, увлекается, где смешное – очень искренно громко смеется. Понижает голос до тихого чтения в лирично трогательных местах стихотворений из романа. Видимо рад, когда кто-нибудь невольно выражает похвалу или восторг…
(Кузько П.А. // Сергеева-Клятис А.Ю., Смолицкий В.Г. Москва Пастернака. С. 382)
Я все думаю о том, как Вы сейчас работаете, и вдруг все поняла. Вот почему я всегда говорила, что мне не хочется с Вами пить чай. Может быть иногда, прелесть близости заслоняет другое, более сложное и нужное понимание. И вот сейчас, за «прелестью» Вашей я поняла Ваше величие. Я упрекнула Вас за то, что Вы «помахнули» на романтизм. А вместе с тем я очень понимаю, что с высоты вашего «существования», которое только одно и определяет стиль Вашей работы сейчас, иначе и быть не должно. <…> С высот нашего 48 года только такой и может быть Ваша задача. Господи, теперь за всеми разговорами о том, как и что, за всей, как будто бы, Вашей мешкотней, какой огромной, строгой, величественной представляется Ваша работа. <…> Вы верите мне и понимаете, и все-таки можете ли Вы до конца понять, какой Вы и какая к Вам благодарность и какое счастье жить с Вами.
(М.К. Баранович – Б.Л. Пастернаку, 2 апреля 1948 г. // Переписка Б. Пастернака с М. Баранович. М., 1998. С. 60)
Когда я впервые читала «Живаго» и дошла до главы «Девочка из другого круга», я, как мне показалось, узнала тот взволнованный голос брата. Мне подумалось, что, вводя Лару как девушку другого круга, автор лишь в очень малой степени имел в виду ее происхождение. Он подразумевал здесь не столько разницу двух социальных кругов, сколько различие двух видов красоты. В красоте Лары лежала предопределенность ее будущего – ее судьбы. Я отметила авторское суждение о его героине: «Лара была самым чистым существом на свете». Словно теперь, годы спустя, он добавил слова, которые забыл сказать в тот весенний вечер 1917 года. Другой тип красоты не значит менее чистый. Читая дальше, я вспомнила еще и другое. Да, точно! Молодая девушка, полная жизни, ее трепетных сил, невинная, доверчивая и щедрая, неотразимо очаровательная, – молодая девушка под вуалью в отдельных кабинетах ресторанов – так, голосом, прерывистым от волнения, говорил мне брат в наше короткое свидание в Берлине в 1935 году о своей второй жене. Незачем говорить, что Лара не просто слепок своего прототипа, жены поэта Зины, некоторые черты других женщин, возможно близкого друга автора, вошли в ее образ. Толстой однажды сказал о главной героине «Войны и мира»: «Я взял Таню, перемешал ее с Соней и вышла Наташа». И Пруст: «…нет ни одного персонажа, под именем которого автор не мог бы подписать шестидесяти имен лиц, виденных им в жизни». И даже если образ героя представляется нам как нечто исключительное, мы вправе утверждать это относительно любого автора, ибо он в своем произведении «смешивает» характерные черты разных людей, меняя и комбинируя их. Бесспорно, Лара не жена поэта, как и соблазнитель Комаровский не кто-то из его знакомых, как и Юра – не сам автор, хотя, бесспорно, ему конгениален.
(Пастернак Ж.Л. Patior // Пастернак Ж.Л. Хождение по канату: мемуарная и философская проза, стихи. С. 490–491)
…Для меня эта рукопись – чаша пресвятых даров, и мне бы хотелось только в молчании преклониться и приложиться к ней. Я целодневно говорю с Вами – о широте охвата эпохи, о правде жизни, искусства, о каждой подслушанной мелочи – это все мое. О том, как изумительно, через людей, и почти явственны проступающие силы. В противоположность, например, Достоевским «Бесам», впрочем, может быть, и не в противоположность, страшно понятны и близки все и на всех, как клейма, как страшная печать, знак эпохи и страшных, прорвавшихся из-под спуда сил. Господи, как прекрасен Юра, со всей его скромностью, с его нищенством духа, с его свободой. Как понятно, что он безволен только потому, что быть самим собой и быть свободным и есть результат воли, сдерживаемой от каких бы то ни было проявлений внешних и от предоставления свободы всем и всему. К большинству страниц подходишь с таким трепетом, потому что это Вы вышли на паперть к толпе калек и все до нитки роздали. Я счастлива, я благодарю бога – я среди толпы калек и удостоена держать в руках так щедро, так широко отданную жизнь. <…> Любимый, любимый Борис Леонидович, простите мне все эти слова, которых Вы сами требовали. Я чуть было не умерла весной. Люди теперь уходят так быстро и незаметно, что не успеваешь оглянуться, а где-то в мечтах представляешь себе трогательное прощание. Так вот я всегда считала себя счастливейшим человеком в жизни, не было на свете ничего, в чем мне было бы отказано Богом. И одним из величайших его даров была жизнь рядом с Вами. Я благословляю свою каторжную цепь, свою машинку за то, что своими пальцами перебрала «житие доктора Живаго»[326].
(М.К. Баранович – Б.Л. Пастернаку, 8 сентября 1955 г. // Переписка Б. Пастернака с М. Баранович. С. 66–67)
У меня была одна новая большая привязанность[327], но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первою пожертвовать, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всею своею совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы «здесь» и «там» и пр. и пр. Тогда я писал первую книгу романа и переводил «Фауста» среди помех и препятствий, с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием, и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удается.