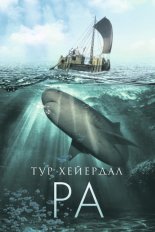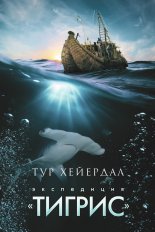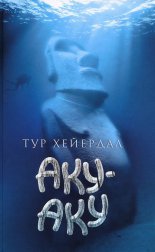Изумрудные зубки Степнова Ольга
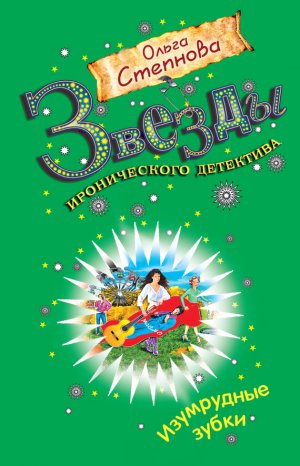
Горячий пар обжигал легкие.
Глеб снял с себя плащ, пиджак, ботинки, носки и галстук. Расстегнул ворот рубашки. Вещи он швырнул на пол.
Инга не пошутила. Мужик в зеленой шапчонке заломил ему руки и отвел назад, в сауну. Потом закрыл за ним дверь, выключил свет и через какое-то время эта обитая деревом могила стала наполняться горячим паром.
Инга никогда не шутила. Отчасти из-за этого ее качества он воспользовался тогда этим случаем – ссорой, и попытался навсегда вычеркнуть подругу детства из своей жизни.
Он всегда знал, что она сумасшедшая. И удивлялся, почему никто, кроме него об этом не догадывается. Или она была сумасшедшей только с ним, для него, в рамках той дурацкой игры, которую они затеяли а раннем детстве, будучи соседями по подъезду, а потом заигрались до семнадцати лет?.. Глебу уже надоела эта игра с какими-то идиотскими правилами, да и переехали они с мамой и бабушкой из этого дома, но Инга все звонила и приходила, и лезла со своей придуманной в детстве «страной», и тем, что он «принц», а она, соответственно – «принцесса», и что у них любовь по гроб жизни и всякая такая мура.
Нет, конечно, он воспользовался «правом первой ночи». Какой дурак им не воспользуется, особенно, если тебе только шестнадцать, прыщи на носу отравляют существование, телосложение как у Буратино, и настоящие женщины на тебя даже не смотрят? Воспользовавшись этим правом, он, конечно же, не имел в виду, что она будет первой и единственной женщиной в его жизни.
Зато это имела в виду она.
От Инги стало душно, невозможно, невыносимо жить. Она лезла во все щели, двери, окна его жизни, забивала легкие, уши, глаза, как забивает их сейчас этот горячий, удушливый жар.
Глеб снял рубашку и бросил ее в компанию к остальным шмоткам.
Конечно, он мечтал тогда избавиться от нее. И от дурацкой игры во вселенскую большую любовь.
Он намеренно опоздал тогда на свидание, потому что знал, она всерьез и надолго обидится. Шел моросящий, противный дождь, он сидел дома, пил глинтвейн, сваренный бабкой «от горла» и злорадствовал: она промокнет, устанет, уйдет, и может, наконец, отлипнет от него, как под действием пара отлипает жвачка, прицепившаяся к подошве ботинка.
Он приехал к заветной скамейке, только когда дождь кончился. Инга была в ярости. Она выкрикнула ему что-то обидное, вскочила в троллейбус и уехала. Он думал, все, расплевались, но она позвонила потом, нарвалась на бабку, и бабка, следуя «цэу», которое он дал, сказала, что он уехал к тетке в Алушту. Тетки в Алуште, разумеется, никакой не было, но ему казалось это изысканным и небанальным «уехать к тетке в Алушту».
Детская, глупая по сути история. Ну кто не избавлялся таким образом от надоевших девиц? Потом, правда, спустя некоторое время, когда у него был суровый пробел в женском вопросе, он звякнул все-таки Инге, но напоролся на ее маму и та сказала ему, что «для тебя она умерла».
Про могилу он, конечно, Инге наплел с перепугу. Кто ее знает, дуру, как она собирается ему отомстить. Она теперь другая, новая – бесстрастная и красивая как манекен в освещенной витрине бутика. Только все равно чокнутая, к доктору не ходи.
Откуда она взялась? Почему опять к нему прицепилась? Про какие камни и диск твердит длинноволосый урод в кожаных джинсах? Что за дрянью его обкололи, от которой почти не болит разбитая голова и под действием которой он в беспамятстве рассказал какую-то «правду»?
Глеб снял брюки и остался в одних трусах. Дышать было больно.
Никогда в жизни он не пойдет в сауну. Впрочем, он никогда и не ходил – не понимал, какое удовольствие потеть в тесной парилке большой толпой.
Прежде чем его повели сюда, длинноволосый урод снова спросил его: «Где камни?» Естественно, Глеб ответил: «Какие камни?» Тогда урод заорал: «Где диск?!» Само собой, Глеб спросил: «Какой еще диск?»
– Ну, тогда действительно в баню его! – приказал урод. – Пусть вспоминает!
Интересно, долго ли он выдержит этот жар? С самого детства считалось, что у него слабое сердце. С чего ради сделали такой вывод мама и бабушка, он не знал, но привык считать, что сердце у него действительно слабое.
Сознание поплыло, рана на голове размокла и, кажется, из нее снова стала сочиться кровь. Глебу стало жалко себя. Жалко, хоть плачь! Только слез никаких не было, вся влага выпарилась из организма.
И тут он вспомнил.
Несколько дней назад к нему в редакционном буфете за столик подсел Игнатьев. Особой симпатии между ними никогда не было, они не делились проблемами, только кивали равнодушно друг другу через стеклянную перегородку.
А тут вдруг Игнатьев подсел к нему с подносом, заставленным всякой калорийной дребеденью и пока ее ел, выплеснул на Глеба массу странной, ненужной, информации: и теща его задолбала, требует ежевечернего присутствия на скучных семейных чаепитиях, и собака-то, доберманша чистых кровей, сорвалась с поводка, два дня блудила, вчера вернулась домой и теперь ужас кого нарожает, и жена требует от него переезда в трехкомнатную квартиру, (а денег кто даст бедному журналисту?), и в школу нужно тащить очередной взнос на ремонт класса, туалетов и еще черт знает чего, а еще в машине бензонасос полетел, а еще Валька-секретарша ему на сегодняшний вечер отставку дала, потому что якобы муж у нее из командировки вернулся...
Глеб никогда никому в жизни не служил жилеткой, но тут вдруг словил кайф от того, что у белобрысого, накачанного, с виду благополучного Игнатьева столько мелких, раздражающих неприятностей, а у него, Глеба – ни тещи-зануды, ни суки-собаки, ни детей-спиногрызов, ни машины, у которой вечно что-то «летит»; а жена его никогда ничего не «требует», а любовницы никогда не дают «отставку», потому что у этих любовниц, как правило, нет мужей.
Короче, «если у вас нет собаки, ее не отравит сосед»...
Глеб слушал и слушал Игнатьева, несмотря на то, что давно допил свой кофе и съел десерт. Он слушал и наслаждался тем, что есть в мире обстоятельства, способные отравить жизнь таких крепких, накачанных парней с квадратными подбородками и огромными кулаками. Он вдруг понял, что это очень любопытно – выслушивать беды других людей и осознавать, что у тебя этих бед нет. Он заказал еще кофе и еще кусок торта с фруктами, и снова кивал, и цыкал, и качал головой.
Игнатьев вдруг прекратил излияния и без перехода спросил:
– Слушай, у тебя ювелир есть знакомый?
Глеб растерялся.
– Н-нет. Кажется, нет. Впрочем, я могу спросить у мамы, или у бабушки. – Глебу вдруг стало неудобно за то, что у него нет знакомого ювелира.
– Спроси, а? – заговорщицки подмигнул Игнатьев. – Тут такое дело, камни проверить надо – лажа, или что стоящее. – Он вытащил из кармана три крупных коричневатых камня, поиграл ими в руке и спрятал обратно. – Только, чтобы он не очень болтливый был, ювелир этот, – добавил Игнатьев.
На следующий день Глеб имел телефон «неболтливого» ювелира. Его дала приятельница мамаши – большая любительница дорогих украшений. Он позвонил ей, обрисовал проблему и она продиктовала ему телефон. Глеб забил номер в сотовый и чуть было не забыл про него, но в буфете к нему опять прицепился Игнатьев.
– Узнал? – шепотом спросил он.
– Узнал. – Глеб достал мобильный и хотел продиктовать телефон, но Игнатьев вдруг схватил его заговорщицки за руку и затараторил:
– Слушай, времени совсем нет! Теща дома ремонт затеяла, сын заболел ангиной, жена поедом ест, что дома мало бываю, а Овечкин по горло завалил работой. Может, сгоняешь к этому мастеру сам с камнями, пусть оценит. Если они что-то стоят, десять процентов себе заберешь, а?! – Игнатьев заискивающе заглянул Глебу в глаза.
– Дим, у меня тоже времени не так, чтобы очень... – Глеб растерялся. Не в его привычках было решать чужие проблемы, то тут маячили какие-то мифические десять процентов, а денег Глебу всегда не хватало.
– Тридцать, – щедро добавил Игнатьев. – Тридцать процентов твои! – Он быстро сунул Афанасьеву тяжелый бумажный сверток и умчался, словно его крапивой по пяткам хлестали, – не доев горку слипшихся пельменей и оставив нетронутым чай.
– Откуда камни-то? – попытался докричаться до Игнатьева Глеб, но того и след простыл.
У тарелки с пельменями Глеб заметил конверт с компьютерным диском. На конверте фломастером было нарисовано красное сердце, пронзенное красной стрелой. «Забыл», – решил Глеб и положил диск в карман.
До ювелира он так и не успел добраться. Телефон мастера долгое время был недоступен. Глеб сунул камни в ящик своего рабочего стола. Чтобы они не катались по ящику, он прилепил сверток на двусторонний скотч. Он совсем не задумывался над тем, что это были за камни, выглядели они невзрачно, и похоже, Игнатьев сильно преувеличил, предположив, что они могут что-то там стоить. Диск он Игнатьеву тоже забыл отдать. Так получилось, что на работе они пару дней почти не пересекались. Конечно, Глеб из любопытства попытался посмотреть, что на диске, но тот оказался запаролен. Потеряв к нему интерес, Глеб сунул диск в стол, в компанию к невзрачным камням.
– Вспомнил!! – заорал Глеб, подавился горячим воздухом и закашлялся. В темноте он нашел дорогу к двери, забарабанил по ее деревянной поверхности кулаками, ногами, даже всем телом забился, как истеричная барышня.
– Вспомнил!!!
Ключ в замке повернулся, дверь открылась, и Глеб вывалился в прохладный предбанник, хватая ртом воздух.
Перед ним стоял длинноволосый. Он был без своего льняного пиджака, только в изумрудного цвета рубашке. Помешались они тут все что ли на зеленом цвете?..
– Я вспомнил, – прошептал Глеб и упал на лавку перед небольшим деревянным столиком. – Представляете, я все вспомнил! Только... при чем тут Инга?!
– Где камни? Где диск? – Длинноволосый горой навис над Афанасьевым и от его рубашки перед глазами поплыли зеленые круги.
– Камни и диск в моем рабочем столе! В одном из ящиков, кажется, в верхнем...
Хлесткий удар в скулу не дал ему договорить.
– Это я уже слышал, фуфел! И проверил! Мои люди перерыли твой стол, там ничего нет!
– Есть! – заорал Глеб так, что голос сорвался. – Все там есть! И диск с дурацким сердцем, и камни, такие мерзкие, некрасивые, коричневые камни!
– Коричневые? – искренне удивился вдруг длинноволосый.
– Да!!! – Скула жутко болела. Разбитая голова не болела, а щека пылала огнем.
Если его еще раз ударят, он умрет.
Длинноволосый уставился на него с интересом.
– Скажи, а какого цвета на мне рубашка? – вдруг спросил он.
– Зеленая!
– Тьфу, фуфел! Так ты еще и дальтоник?!
– Я... да... ну есть вроде проблемы со зрением... А что, не зеленая? Красная, да? Пусть будет красная! Или синяя... – Что сказать, чтобы снова не разозлить его? – Не бейте, пожалуйста! – Глеб закрыл руками лицо.
Длинноволосый схватил его за шею, приподнял с лавки и сильным толчком в спину зашвырнул обратно в парилку.
– Зажарю! – заорал он. – Зажарю, мразь, до смерти!! Вспоминай, фуфел, где камни и диск!
Знали бы мама и бабушка!
Знали бы они, что их Глеб, Глебчонок, Глебуша, горит сейчас в преисподней, а черт в зеленой, нет, – в красной! – рубашке, подкладывает в топку дрова, чтобы пожарче растопить сковородку...
Если бы они знали, то...
Глеб где-то читал, что умирая, человек может испытывать сексуальное наслаждение.
...то подняли бы на ноги всю московскую милицию, и весь спецназ подняли бы, и куча вооруженных людей примчалась бы его спасать.
Его последней любовью будет женщина по имени Смерть.
...то они бы сами примчались сюда и зубами перегрызли бы горло и Инге, и длинноволосому, и шестерке в зеленой шапчонке.
Сознание мутилось, обрывки мыслей стучали в мозгу азбукой Морзе. Ему и жарко-то уже не было, ему было... никак. Он умирает, и это свершившийся факт. Эх, знал бы он, чем обернется детская игра в сказку!
...то они бы на руках вытащили его отсюда, выходили бы, вылечили, баюкали, не спали ночами, и желтый ночник горел бы над его кроватью, а он бы капризничал, требовал чего-нибудь вкусненького.
Интересно, когда начнется обещанное сексуальное наслаждение? Или врут все в книжонках? Если врут, дело – швах, умирать в муках ему не хотелось.
Он открыл глаза, хотя смысла делать это в кромешной тьме особого не было. Но он открыл и увидел наверху серый квадрат.
Раньше этого квадрата не было.
Вывод распаренный мозг сделал только один: там, наверху, окно! Маленькое окошко. Просто раньше за ним висела ночная кромешная тьма, а теперь там сереет осенний рассвет. Такой вывод сделал распаренный мозг и Глеб галантно сказал ему «спасибо». Теперь предстояло решить, как добраться до этого квадрата и насколько возможно в него пролезть.
Видимо – невозможно, раз его без опаски заперли в этой парилке. Он нащупал в темноте полку, встал на нее, окно оказалось на расстоянии вытянутой руки. Еще бы чуть-чуть продержаться, не потерять сознание, и он что-нибудь бы придумал.
Глеб начал шарить по стене руками, но зацепиться было не за что, только за крошечные выступы деревянных плашек, которыми была обита сауна. Тогда он как паук пополз вверх, цепляясь за них кончиками пальцев рук и ног. Нужно было подтянуться еще чуть-чуть, чтобы достать руками до этого серого квадрата, и он это сделал, несмотря на то, что всю жизнь пренебрегал физкультурой и в армии не служил.
Просто жить очень хотелось. Так хотелось, что он подтянулся на пальцах, достал до стекла и стал давить его наружу.
Это счастье, удача, везенье, что его не связали.
Очевидно, он производит впечатление задавленного, сломленного хлюпика, раз никто не счел нужным веревкой стянуть ему руки.
Стекло поддалось, с тихим треском вывалилось наружу, и спасительная струя воздуха ворвалась в парилку. Пар, найдя выход, радостно повалил из окошка на улицу.
Глеб еще чуть-чуть подтянулся и высунул голову из окошка. Получилось, что голова находилась в спасительной свежести, а тело в раскаленном аду. Он отдышался немножко и стал медленно протискиваться в отверстие.
Бабка когда-то говорила ему, что главное, это чтобы голова пролезла. Остальное пройдет, говорила она ему.
Или это только к животным относится?..
Нет, бабка это ему про себя говорила. Она выросла в какой-то деревне, и когда ее в возрасте четырех лет не выпускали гулять на улицу, она пролезала в дырку, вырубленную внизу забора для куриц.
Глеб продвигался медленно, сдирая кожу с плеч, рук, боков. В бедрах он напрочь застрял. Неужели у него зад шире плеч? Эта мысль неожиданно сильно его расстроила. В отчаянии он рванулся вперед, чувствуя, что трусы сдираются острыми краями окна. Абсолютно голый, Глеб полетел вниз, молясь, чтобы это был первый этаж. Он плюхнулся в колючий, влажный кустарник. Времени унять сердце и восстановить дыхание не было.
Он вскочил и помчался вперед. Перемахнул высокий забор, перебежал через проселочную дорогу, потом опять взлетел на забор, потом промчался через огород, потом вломился в редкий лесок, потом выскочил на лесную полянку, потом в два прыжка снова оказался в каком-то пролеске.
Он бежал еще долго, не веря, что баба по имени Смерть выпустила его из своих любвеобильных объятий.
Наконец, оказалось, что он несется вдоль какой-то дороги. Дорога была асфальтированная, и несмотря на ранний час, по ней время от времени проносились машины.
– Эй! – заорал Афанасьев, бросаясь под колеса автомобиля. – Эй! Помогите!
Но никто не торопился спасать Афанасьева. Завидев голого, окровавленного мужика, несущегося по дороге, водилы прибавляли газу и, виртуозно объезжая его, уносились прочь, скрываясь за светлеющим горизонтом.
Никто не торопился спасать Афанасьева! Это было всем открытиям – открытие.
Глеб остановился и заорал, как зверь, которому в брюхо попала пуля. Только теперь ему стало по-настоящему страшно.
Он все прошел, выжил, выкарабкался, но все равно сдохнет на этой дороге, потому что все просто боятся затормозить возле голого, измученного мужика и предложить ему помощь. Впрочем, он бы тоже ни за что не остановился.
Глеб проорался, спустил пар, и побрел в лес, не разбирая дороги.
Брел он долго и очнулся только тогда, когда оказался на участке возле какой-то дачи. Уже почти рассвело, сил совсем не осталось, из тела выветрился накопленный жар и теперь Глеба сильно трясло. Под ногами мешались крепкие кочаны капусты. Глеб споткнулся, упал, а встать у него не хватило сил. Сознание все-таки торопилось покинуть его и, чтобы этого не допустить, Афанасьев, приподнял голову и начал жевать сладкую, холодную, влажную капусту.
– Зинк! – вдруг заорал над ним пронзительный женский голос. – Зинк, гляди, кого я нашла!! Мужик в капусте! Голый, Зинк! Брюнет, красавчик! Ой, он мне капусту погрыз, Зинк! Это судьба, Зинк!!! Мне гадалка предсказала, что счастье свое я под ногами найду! Урра-а – а-а!!!
– Я продал картину!
Этими словами болотнинский Паша встретил ввалившуюся в квартиру троицу. Сычева с ног до головы осмотрела его и фыркнула:
– Красавец!
– Я продал картину! – не обращая внимания на ее слова, снова закричал Паша и запрыгал по коридору, хлопая себя по бокам руками.
– Ну, хорош! – опять прокомментировала свои первые впечатления Сычева.
– Какую картину? – не поняла Татьяна.
– Оранжевого кота, которого ты оставила во дворе!
– Не может быть, – равнодушно подала плечами Татьяна. – Во-первых, она никуда не годится, во-вторых, я даже ее не закончила.
– Спроси лучше, за сколько я ее продал!!
– За сколько? – без интереса спросила Татьяна, пристраивая объемные пакеты с одеждой в угол. Афанасьева аккуратно пристроила на них сумку с деньгами и документами, которую захватила из дома.
– За триста долларов! Три-ста! – Паша открыл кошелек и потряс им перед носом у Татьяны. – Вот! Двести твои, сто мои – за работу, но я их тебе возвращаю как долг за квартиру! Здорово? – Он довольно захохотал. – Я ж говорил, в столице возможностей – ого-го! Я ж говорил, что картину в Москве продать – это тебе не ведро смородины в Болотном спихнуть! Раз-два и готово! Я и пяти минут не простоял у киоска!! Вмиг улетела!
– Странно. – У Татьяны не было сил ни удивляться, ни радоваться. – Знакомься, – указала она на Сычеву и Афанасьеву. – Это мои подруги. Таня и... Таня. Они тоже тут будут жить.
– Пусть живут, коли рисовать умеют, – кивнул благодушно Паша. – Просто здорово все получится: вы картины малюете, а я продаю! Десять процентов мои, остальное – ваше! Всем хорошо, все довольны, все при деньгах и любимом деле. А?! Как?
Демонстративно заткнув уши руками, Сычева обошла квартиру – зашла в туалет, в ванну, на кухню, в кладовку, подергала за ручки запертые двери комнат.
– Жить здесь нельзя, – констатировала она. – Но придется.
– А че, хорошая хата! – не унимался Паша, следуя за ней по пятам. – Дешевая, с удобствами, с потолка не каплет, в щели не дует, а рисовать во дворе можно!
– Парню кляп в рот, в руки – отвертку, – распорядилась Сычева. – Пусть вскрывает одну из закрытых комнат. Разместиться всем в конуре, которую вешалка называет кладовкой, никак невозможно!
– Самозахват?!! – в ужасе прошептала Афанасьева. – Ой, девочки, как неудобно!
– Неудобно штабелями на полу спать, – вдруг сказал Паша, откуда-то притащил тоненькую отвертку и быстро вскрыл одну из дверей.
– Красавчик! – Сычева одобрительно ткнула его пальцем в живот. – Как зовут-то?!
– Паша. Павел Павлович Попелыхин, – дурашливо раскланялся Паша. – Гроза болотнинских бандитов, хулиганов, извращенцев, алкоголиков и прочих нестабильных антисоциальных личностей.
– Ой, девочки, неприлично-то как! – попятилась от открытой двери Афанасьева.
– Да не переживайте вы так насчет самозахвата! – горячо принялся убеждать ее Паша. – Веранде просто деньги потом отдадим и все дела! Она ведь чужих не пускает, только по рекомендации, так вот я скажу, что вы мои приятельницы-любовницы, она и слова не скажет! Десять тыщ и все дела! У нас в Болотном дороже хату снять, чем у Веранды в Москве...
– Кляп ему! – Сычева схватила подвернувшуюся под руку газету, скомкала ее и сунула Паше в рот. Он обиженно замычал.
Вскрытая комната оказалась вполне приличной: на окнах висели короткие занавески, на полу лежал потертый ковер, в центре стоял круглый стол, два кресла, у стены – большая кровать, напротив нее старенький телевизор, а на подоконнике даже притулился компьютер с обшарпанным монитором.
– Жаль, решеток на окнах нет, – сказала Сычева, отодвинув штору и осмотрев оконный проем.
– Зато здесь есть черный ход, и если что, можно удрать через кухню, – сказала Татьяна, присаживаясь на край широченной кровати.
– Танюха, у тебя пистолет с собой? – шепотом спросила Афанасьева.
– А как же! – Сычева достала из сумки оружие и положила его в центр стола.
– Ой, кажется, вы не умеете рисовать, – выплюнув ком газеты, растерянно пробормотал Паша. – Кажется, вы от кого-то скрываетесь и чего-то боитесь. Вот у нас в Болотном, Людка почтальонша, когда у нее муж напивался, всегда к мамке прибегала и в подпол пряталась, а мамка ружье брала, солью заряжала и...
Сычева угрожающе скомкала новый кусок газеты.
– Молчу! – заорал Паша. – Я в ваши дела не полезу и даже неразговорчивым стану, если вы компьютером мне позволите пользоваться.
– Ты что, в компьютере шаришь? – насторожилась Сычева.
– Лучше меня в Болотном никто не шарил, – гордо завил Паша.
– А диск распаролить можешь? – Сычева достала из сумки диск и протянула его Паше.
– Не знаю, не пробовал. Но нерешаемых проблем нет, особенно в таком городе, как Москва! Давайте свой диск, уж если я оранжевого кота продал за пять минут, то что мне какой-то там диск распаролить!
– Если распаролишь, я тебе картину нарисую, – благодушно пообещала ему Сычева и опять ткнула пальцем в живот.
– Не, лучше Таня пусть нарисует, – засмущался вдруг Паша. – Вон та Таня, – указал он на Татьяну.
– И она нарисует. Правда, вешалка?
– Ага, – кивнула Татьяна. – Намалюю пошлую, глупую, яркую, сказочную жар-птицу. Народ с руками ее оторвет.
– А ведь знаете, девочки, за Глеба, может быть еще выкуп потребуют, – прошептала Таня, когда они наконец улеглись спать. За окном уже маячил серый рассвет, а в комнате стоял нудный гул комаров. – Я слышала, что похитители иногда затаиваются на некоторое время и звонят только через пару недель. Представляете, они позвонят, а меня нет дома!
– Ерунда! – сонно отозвалась Сычева. – Его ж кормить надо все это время, а Глеб что попало не жрет. Он одни креветки лопает, да мидии с тортиками, накладно им это будет – затаиваться.
– А ты точно уверена, что... его кормить еще надо? – всхлипнув, спросила Таня.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну... он живой, как ты думаешь?
– А ты его мертвым видела?
– Нет.
– Ну, значит, и не должна сомневаться! Спи!
Они лежали втроем на одном матрасе, и укрывались одним одеялом. Кровать оказалась такой широкой, что Тани без труда разместились на ней. От хозяйского постельного белья пахло сыростью, плесенью, а старые пружины скрипели при малейшем движении.
– Господи, до чего я дожила! – вздохнула Сычева. – Лежу вместе с женой и любовницей своего любимого человека! А как все начиналось! Как начиналось! Знаете, как мы с Афанасьевым познакомились?!
– Откуда нам знать? – всхлипнула опять Таня. – Глеб не очень-то распространялся о своих приключениях, а я за ним не следила. Я на многое закрывала глаза, лишь бы он был со мной.
– Я вышла первый день на работу. Ну, чего мне стоило в эту газету попасть, отдельная душещипательная история – блат, знакомства, переговоры, рекомендации! И вот, наконец, свершилось, меня взяли в штат, и я должна была придти к главному, чтобы познакомиться лично. Он всегда со своими сотрудниками лично знакомился, наш Овечкин. Пришла я, а в приемной секретарши нет. Я воздуху в грудь набрала и толкнула дверь. Здравствуйте, говорю, Борис Борисыч! Увидела его и поняла – все, пропала. Сидит в редакторском кресле мужик, который с детства мне в снах снился – черный, как смоль, бородка узкая, глаза бесовские. Сидит этот Мефистофель, курит трубку и сквозь клубы дыма насмешливо щурится. Я девушка не сентиментальная, но тут чувствую, фанфары в душе заиграли. На руку его глянула, кольца обручального нет. Я на краешек стула присела. Он говорит, вы что, наш новый сотрудник? Ну да, вроде того, отвечаю. И давай ему все про себя рассказывать: где училась, где работала, что жизни себе без этой газеты не представляю и что работать хочу только под его чутким, внимательным руководством, что не замужем, детей нет, больничных в жизни никогда не брала и для любых командировок в любой момент готова. Он меня слушал, слушал, потом резко встал и говорит: «Это хорошо, что ты для командировок готова. Поедешь завтра со мной в Ярославль? Там экспериментальную школу для детей-инвалидов открывают, быстренько накропаем статейку».
Я от неожиданности со стула подскочила.
– С вами в Ярославль? Завтра?
– А чем тебя Ярославль не устраивает? Или я не подхожу?
Я чувствую, щеки краснеют, в висках стучит, голос срывается.
– Разве главный редактор в командировки ездит?
Он захохотал:
– Кто тебе сказал, что я главный? Запомните, девушка, первое правило успешного журналиста: не тот начальник, кто в кресле главного редактора сидит, а тот, кто чаще всех в буфет отлучается. Овечкин обедать пошел, а я тут с его позволения в тишине и покое трубку курю. Вы же видели эту чертову редакцию, там как в аквариуме, от чужих глаз не спрячешься. Так как, едем завтра в славный город Ярославль?
– Едем!
Я десять раз обругала себя за то, что так поспешно и восторженно это сказала, но повторила:
– Едем!
Вы не представляете, девки, как я была рада, что он не главный редактор, этот дьявол с трубкой! Что он такая же, как я, рабочая лошадка! Если вдруг срастется у нас с ним, никто не скажет, что Сычева карьеру через диван делает! Я даже не разозлилась на него за то, что он полчаса главного изображал и ни разу не перебил меня, пока я ему душу изливала, про себя рассказывала. Мы обменялись номерами мобильных. Он спросил:
– Зовут-то тебя как?
– Таня.
– О господи!
– Что?
– Если женщину зовут Таня, она нравится мне независимо от возраста, внешности, профессии и интеллекта. Впрочем, у тебя с этим все нормально. Раз уж ты мне все про себя рассказала, то знай, что меня зовут Глеб Афанасьев, я давно и безнадежно женат, но при этом абсолютно свободен. Жена уважает мою свободу и ни в чем не мешает мне. Я люблю комфорт, сильных, независимых женщин, хороший коньяк, дорогие яркие галстуки, а главное – я люблю независимость. Я ненавижу собак, детей, и то, что называется «обязательствами». Я не люблю долго ухаживать и делать подарки. В общем, больше всего на свете я люблю самого себя и не считаю это большим недостатком. Эгоизм делает человека красивым и неповторимым. Эгоизм сделал человека человеком, а меня – Глебом Афанасьевым. Короче, если тебя устраивает то, что ты теперь про меня знаешь, то поехали завтра в командировку, с Овечкиным я сейчас же договорюсь.
– Устраивает, – кивнула я. – Поедем.
Все, что он сказал, я поделила надвое. Все мужики кичатся своей независимостью, когда заводят романчик, все предупреждают, что «обязательства» не для них. Но каждая женщина абсолютно уверена, что именно на ней избранник сломает зубы, что именно от нее захочет стать зависимым и с удовольствием взвалит на себя бремя любых «обязательств». Только ей он будет делать подарки, полюбит только тех детей, которых она родит и только ту собаку, которую она приведет в их общий дом...
– Заткнись, Танюха! – сквозь слезы попросила Сычеву Таня, но та неслась со своими воспоминаниями, словно лыжник с горки.
– А потом был Ярославль. Я, девки, город совсем не помню. У нас такое закрутилось еще в поезде! Потом он пришел ко мне в гостиничный номер с коробкой конфет и бутылкой шампанского. Я засмеялась:
– А говорил, что не любишь делать подарки!
Он тоже захохотал:
– Ну, если для тебя это подарки, то я буду самым щедрым любовником в мире!
Мы не вылезали из номера сутки, забыли про школу, про детей-инвалидов, про статью, про газету, про...
– Заткнись! – Афанасьева стукнула кулаком по подушке.
– Мы, Танька, кстати, не только сексом с ним занимались. Мы о жизни с ним разговаривали. Он сказал, что у него замечательная жена: такая, какая ему и нужна – любящая, чуткая, понимающая, и, кстати, красивая. Глеб обещал меня с ней познакомить и заявил, что ни за какие коврижки не разведется с такой женой, потому что другую такую ду... Танька, я бы гордилась таким мужем! Все мужики гуляют, но не все при этом делают из жены культ.
– Знаете, девочки, я когда за Глеба замуж выходила, думала, вытащила счастливый билет. Я ведь до него даже ни с кем не встречалась! – Таня вытерла слезы руками и села, поджав к подбородку колени. Теперь она понеслась вниз по горе своих воспоминаний, как лыжник, который оттолкнулся и остановиться уже не может.
– Глеб был сыном приятельницы моей мамы. Наверное, я была полная дура, но почему-то искренне считала, что человек, с которым я могу связать свою судьбу, должен быть из окружения моей семьи.
У мамы был день рождения и она решила отпраздновать его на даче. Накрыла стол под открытым небом, позвала много гостей и среди них мать Глеба – Татьяну Сергеевну. Я весь день готовила, поэтому очень устала. Когда гости пришли и стали рассаживаться за стол, я пошла в дом, прилегла на диван и неожиданно заснула. Просыпаюсь, за окном песни орут. Моего отсутствия никто не заметил, даже мама! Обидно мне стало, грустно и одиноко. Как Золушка – работу по дому сделала, и на кухню проваливай. А веселиться мы без тебя будем. Присела я к окну открытому и стала на небо смотреть. Уже сумерки наступили, солнце зашло, жара спала. В воздухе такие ароматы стоят! Разнотравья, шашлыков, костра, вина... И тут я поняла, что к гостям мне совсем не хочется, что я наслаждаюсь своим одиночеством и мне нравится быть забытой всеми, несчастной Золушкой. Окно выходило на торец дома, а не на площадку, где сидели гости, поэтому я могла вволю наслаждаться своим одиночеством. Вдруг смотрю – дверь туалета, который находился недалеко от зарослей малины, как-то странно дергается, будто ее изнутри кто-то открыть пытается. Я сначала думала, почудилось мне, но дверь все сильнее и сильнее трясется, словно там истерика приключилась с кем-то.
Я через окно вылезла и пошла к туалету. Смотрю, а там вертушка, которая дверь снаружи закрывает, повернулась и заперла кого-то. Я ее повернула и дверь на себя дернула. А ее изнутри кто-то удерживает! Вот, думаю, что за черт там засел? Разозлилась, ка-ак дерну изо всех сил! Но дверь уже не держал никто. Я на грядку с морковкой улетела, на землю плюхнулась и сижу там с задранной юбкой. А на пороге уборной стоит черноволосый парень и улыбается.
– Вот мы и квиты, – говорит, – а то мне как-то несподручно одному дураком выглядеть. Уж не знаю, что за конструкция такая у этих удобств, что двери сами закрываются!
Я сижу на грядке, смотрю на него и чувствую, что разозлиться конкретно на этого парня совсем не могу! Таким он мне показался... героем моего романа. Я даже юбку одернуть забыла. Он руку мне протянул. Я думала, подняться мне хочет помочь и тоже ему руку подала, а он поцеловал ее и говорит:
– Глеб. Глеб Афанасьев. А вас, барышня-крестьянка, как зовут?
Мне бы, девочки, еще тогда задуматься, когда он мне руку поцеловал, вместо того, чтобы поднять! Но мозг уже отключился. Я встала сама и представилась:
– Таня.
– Так зовут мою бабушку, так зовут мою маму, и я совершенно уверен, что так будут звать и мою жену. Хотите быть моей третьей Таней? Выйдете за меня замуж?
Я, девочки, чуть в морковку опять не упала. Я решила – это судьба, и сказала:
– Да.
Именно о такой любви я и мечтала, девочки, – чтобы с первого взгляда, чтобы одна на всю жизнь! Это потом я узнала, что он сын приятельницы моей мамы, что они сговорились нас познакомить и поженить, что Глеб был в курсе их планов. А тогда... тогда я решила, что всякое в жизни бывает, что любовь свою и в сортире можно найти.
– И где теперь эта любовь? – вздохнула Сычева.
– Любовь на месте! – твердо сказала Таня. – Держит в тисках мое сердце. Вот только объект подзатерялся, но мы найдем его, правда, Танюха? Найдем! Ведь живой он, чует мое сердце, живой! Не может с ним ничего плохого случиться...
– Ну да, такая дрянь, как наш Глеб в воде не утонет, в огне не сгорит. Я вот думаю соседей ваших по подъезду хорошенечко опросить. То, что они не расскажут милиции, они вполне могут выболтать мне. А еще Попелыхин этот в лепешку теперь расшибется, но диск наш распаролит! Мне кажется, что разгадка исчезновения Глеба лежит где-то рядом, совсем на поверхности, достаточно сделать один только верный шаг!
– Тань!
– Что?
– Можно я тебя спрошу?
– Спроси, чего уж! Какие теперь между нами тайны? Спим в одной кровати, слезами одну подушку мочим. Спроси!
– Что ты думаешь о... Флеке?
Сычева тихонько засмеялась.
– Танька, если честно, то я о нем не думаю. Мы классно повеселились, а думать о нем будешь ты, если оно тебе надо. Эй, вешалка, ты чего там затихла? Теперь твоя очередь рассказывать, как ты познакомилась с Глебом!
Татьяна задышала поглубже, притворяясь, что спит.
Никогда, ни за что на свете она не расскажет, как познакомилась с Глебом. Слишком неоригинальна ее история, слишком многим Глеб говорил слова, которые она считала только «своими».
– Спит, – шепотом сказала Таня.