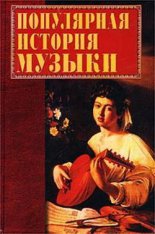Вернуть Онегина. Роман в трех частях Солин Александр

В начале сентября беспечный Сашка подал признаки жизни – позвонил родителям, о чем Иван Семенович тут же радостно ей сообщил: «Ну, слава богу, у него все в порядке! Просил передать тебе привет! Так и сказал – передавай привет всем, кого увидишь! Нет, к нам пока не собирается…»
Проглотив свое зачисление в массовку, она, тем не менее, воспрянула духом и принялась ждать телефонного звонка или, на худой конец, письма, которые по ее расчетам должны были последовать со дня на день. Однако время шло, и его ничем необъяснимое молчание превзошло, наконец, всякие приличия. Дело дошло до стиснутых зубов и дрожащих губ, и ко второй половине сентября ей окончательно стало ясно, что по какой-то причине он ее избегает. Собственно говоря, с учетом того, что он был здоров, а стало быть, стесняться умственной и физической неполноценности не имел оснований, причина его молчания была самая что ни на есть прозаичная: случилось то, чего она всегда боялась – он спутался с другой.
Улучив момент, Алла Сергеевна подкараулила его отца. После обычных фигур взаимной приязни и сетований на неторопливость почты она с нечеловеческим самообладанием и шутливым безразличием предположила невероятное: сдается ей, что предмет их родственного интереса завел себе в Москве девушку. Низенький и плотный Иван Семенович, ни лицом, ни статью не похожий на сына, глянул на нее недоуменно и пугливо и сказал, что ничего такого не знает, но лично он считает, что лучше ее, Аллы, его сыну не найти. Это неожиданное признание так тронуло Аллу Сергеевну, что вся ее нечеловеческая шутливость тут же испарилась, на глаза навернулись слезы, и она горячо поведала потенциальному свекру, что с июня не имеет от Сашки ни одной самой малой весточки. Иван Семенович удивился, задумался и обещал при первой же возможности упрекнуть сына в неподобающем поведении. И действительно, через несколько дней он сообщил, что говорил с сыном и что тот обещал обязательно, ну просто обязательно и в ближайшее же время ей написать. «Так и сказал – вот освободится немного и обязательно напишет!» – торопился успокоить ее Иван Семенович.
Но бесславно и безвестно минул сентябрь, и стало ясно, что следует готовиться к худшему. О том, что ее положение яснее ясного она поняла после того как ее на улице остановил его одноклассник и, пожирая глазами, захотел знать, как поживает Сашка. Смешав залежалые сведения с легкой выдумкой, она конечно, отбилась, но после представила, с какой догадливой жалостью и недоумением посмотрел бы на нее его приятель, признайся она, что не имеет от Сашки новостей вот уже три месяца! Придя домой, она заперлась в комнате и не на шутку расплакалась, и чем она дольше плакала, тем отчаяннее представлялась ей дальнейшая жизнь.
В постылой унылости дожила она до середины октября, когда однажды вечером, возвращаясь с работы, столкнулась во дворе с возбужденной подружкой, и та, глядя на нее с тем притворным сочувствием, с каким люди лживые радуются крушению чужого счастья, сообщила, что Сашка женился. Подруга была так себе – недалекая, завистливая, нечестная, и Алла Сергеевна, отшатнувшись, ей не поверила и потребовала назвать источник информации, на что подружка заявила, что об этом уже знают все, кроме нее, Алки. Возможно, подружка рассчитывала увидеть, как Алла Сергеевна забьется в истерике, но та с достоинством удалилась, уже зная, что сделает в следующие пять минут. И вот что она сделала: поднялась к себе на площадку и позвонила в Сашкину квартиру. Дверь открыла его мать, и едва Алла Сергеевна взглянула на ее торжествующее лицо, как сразу все поняла. Тем не менее, она недрогнувшим голосом попросила позвать Ивана Семеновича, и поскольку никакой угрозы она теперь не представляла, Иван Семенович был позван. Он суетливо вышел к ней на площадку и прикрыл за собой дверь.
«Это правда?» – сухо спросила Алла Сергеевна.
«Аллочка! – прикладывая короткие толстые руки к груди, забормотал несостоявшийся свекор. – Вот клянусь тебе, я ничего не знал! Он стервец, он просто стервец! Поверь, я сам в шоке!»
Тонкая звенящая струна, что связывала хвостатого змея с его хозяйкой, вдруг опасно натянулась и, издав жалобный, немузыкальный звук, лопнула. Под громкие крики разочарования змей был опрокинут и низвергнут с небес.
Но как же так? Не она ли спрашивала Сашку, сама не веря, что такое возможно:
«А если порвется?»
«Не боись, Алка, не порвется!» – ухмылялся Сашка, полагая, что их связывают самые толстые нитки, какие только существуют на свете.
Побледневшая Алла Сергеевна, ни слова не говоря, развернулась и ушла к себе.
Потом, несколько лет спустя она пыталась вспомнить, каким был тот несчастный осенний день, и выходило, что был он подстать ее гаснущей надежде – натужно-солнечный, блеклый и сиротливый, как голубенькая выцветшая косынка на выброс.
18
Когда-то в неправдоподобно далекие, девственно-непорочные годы отрочества ей пришлось быть свидетельницей злоключения, на которые так богаты небезобидные детские игры. Собственно, назвать их игры той поры детскими можно только глядя на них с высоты ее нынешних сорока с лишним лет: если ей тогда было тринадцать, то старшим подругам и того больше, а Сашке – все шестнадцать. В таком возрасте совместные игры во все времена уже попахивают половым влечением, им же вдохновляются и оживляются.
И вот что тогда случилось.
В то лето у мальчишек в ходу были самострелы – плоские подобия ружей, выструганные из куска вагонки и снабженные резиновой петлей и легкими деревянными стрелами. Направляемые желобком ствола и исполненные тугого метательного усердия, стрелы с тупым убедительным стуком впивались острым жестяным наконечником в деревянную мишень. Глядя на их глубокое звенящее проникновение, Алла Сергеевна испуганно ежилась, словно стрелы впивались не в терпеливую израненную мишень, а в ее тонкую гладкую кожу.
Молодые стрелки, красуясь перед девчонками, не забывали о предосторожностях, и все бы хорошо, если бы один из них, похваляясь, каких высот достиг его конструкторский гений, не выстрелил вверх. Толи он не угадал с направлением, толи вмешался ветер, только стрела, добравшись до небес, свалилась оттуда и устремилась в самую гущу увлеченного собой детского водоворота. Выбрав там двенадцатилетнюю девчонку с соседнего двора, она указующим перстом судьбы воткнулась ей в макушку.
Алла Сергеевна хорошо помнит застигнутую врасплох бедняжку, застывшую у всех на виду с растопыренными руками. Запомнились расходящиеся от нее круги детского оцепенения и глупое, жалкое, оторопевшее лицо, не успевшее заплакать только потому, что подоспевший Сашка подхватил стрелу и принялся успокаивать его хозяйку.
В падении с неба легкой стрелы, как в падении гусиного пера больше картинности, чем опасности. Рана оказалась пустяковой: лишь капля крови подтопила клочок шелковистых волос, перекочевав затем пятнышком на чей-то грязный платочек. Взрослых поблизости не оказалось, девочку быстро заболтали старшие подружки, и через несколько минут она уже купалась в лучах неожиданно свалившейся ей на голову славы. К ней подбегали, чтобы посмотреть на рану, и она охотно давала копаться у себя в волосах.
Приблизительно в таком же публичном, болезненном положение оказалась теперь и Алла Сергеевна, с той лишь разницей, что игра на этот раз была взрослая, стрела измены попала ей не в голову, а в самое сердце, и рядом не было никого, кто мог бы ее оттуда извлечь.
Новость с бикфордовым усердием разбегалась во все стороны и, добираясь до людей посвященных, вызывала у них сначала переполох, а затем чувства тех видов и калибров, которыми располагал на тот момент их душевный арсенал. Взрослые соседки единодушно и решительно приняли ее сторону. К ним с искренним вроде бы участием присоединились ее подружки, но поскольку чужих мыслей нам знать не дано, то полагаться в таком деле только на искренность было бы опрометчиво. Впрочем, чужая искренность волновала Аллу Сергеевну в ту пору меньше всего.
Нашлись и такие, кого это известие определенно обрадовало: шесть человек, в том числе мастер Федя и два Сашкиных одноклассника дали ей понять, что она может рассчитывать на них в любом виде. Остальные, возможно, пока стеснялись. Узнав, что она никуда не уезжает, обрадовалось фабричное начальство, и больше других секретарь комитета комсомола Коля Савицкий.
Ее мать, впав в затяжную ярость, публично и жестоко третировала Сашкину мать, неоднократно и громогласно скликая на голову ее сына– подонка и на весь ее сволочной род всевозможные напасти. Потрясая дома кулаком в сторону стенки, за которой через площадку находилась Сашкина квартира, она грозила: «Да мы тебе, Алка, жениха в сто раз лучше найдем! Не то, что этот поганый бл. дун!»
К слову сказать, через год Сашкины родители переехали в центр, в чем при желании можно было углядеть бегство от не бледнеющей гематомы околоточного общественного мнения. Однако думается, причиной тут было крепнущее служебное положение его отца, получившего, в конце концов, жилье, более подходящее его статусу. Впрочем, к тому времени Алла Сергеевна уже научилась избегать с ним встреч, какой бы виноватой дружелюбностью не сопровождались его приветствия.
Были в то несчастное для нее время две Аллы Сергеевны, совершенно друг на друга не похожие. Одна, как и раньше, спокойная, рассудительная и элегантная. Может, если только чуть бледнее, худее и немногословней прежней – ну, так подобные качества в союзе со скупой печалью карих глаз лишь добавляли прелести ее образу. Пусть порой недостаточно улыбчива, по-новому сосредоточенна и отвлеченно-задумчива – все же следы переживаний, по общему мнению, были далеки от разрушительных. К ней, как к той соседской девчонке, тоже подходили и пытались рассмотреть рану, и она подставляла любопытным бутафорскую капельку крови, которую так легко было смахнуть платочком участия.
Хуже обстояло дело с другой Аллой – той, что внутри.
Разорвавшаяся, словно граната новость образовала в ее оболочке брешь, через которую в нее проникло нечто длинношеее, длинноухое, длинноногое, длиннохвостое, долгорукое, долговязое, узкоглазое, криворогое, толстокожее, парнокопытное и бессердечное. Ворча и ворочаясь, оно никак не желало устроиться, успокоиться и уснуть.
Самой себе она казалась той ошарашенной бедняжкой из детства, что застыла у всех на виду с жалким, оторопевшим, поглупевшим лицом и растопыренными руками. Полтора месяца душевного беспамятства и мутного недоумения с застрявшими в горле рыданиями; растерянный мир вокруг нее, серые, затертые, как асфальт дни и несмолкающий стон: ее предали, бросили, опозорили на самом пороге жизни! До чего же ужасно чувствовать себя содержимым ящика, откуда тебя взяли, попользовались и вернули на место! Если бы она умела играть в шахматы, то непременно сравнила бы себя с пешкой, которую один из игроков, щурясь и усмехаясь, подталкивал крепким ухоженным ногтем к краю доски, но не в королевы, а чтобы вытолкнуть за пределы привычного, разлинованного мира.
Дни-близнецы следовали тоскливой чередой, и даже родимые пятна у них были в одних и тех же местах. Ночью она по-прежнему сжимала нежными пальчиками поющую, подрагивающую нить, ощущая тугое, звенящее, поднебесное напряжение. Утром она просыпалась – к ней возвращалась память, а с нею боль: это не он, это она была змеем и беспорядочно падала теперь на землю. Вернувшись после работы и избавившись от назойливого внимания матери, она уходила в свою комнату, садилась на диван и, скрестив руки на груди, смотрела перед собой опустошенным взглядом, время от времени принимаясь неслышно плакать. Иногда она пробовала заниматься своими любимыми дотоле выкройками, но они ее не увлекали, и она возвращалась на диван. Все, к чему прикасался ее взгляд, напоминало ей Сашку. Даже грязная посуда и особенно – мятая постель. Перед сном она обильно и не стесняясь плакала, а во сне нередко стонала и вздрагивала.
Пытаясь освободиться от невыносимых воспоминаний, она сгребла их в кучу, добавила туда свои прежние мечты – наивные и ненасытные и запалила костер ненависти. В конце концов, в нем сгорело, либо обуглилось все, что между ними было, и вместе с декабрьскими морозами на смену страданиям неожиданно пришла холодная ясная злость.
«Да пропади он пропадом! Да что я, не проживу без него? Прекрасно проживу!» – словно очнувшись, возмутилась она и начала новую жизнь.
Прежде всего она избавилась от кулона, сережек, духов, демисезонного пальто черной короткошерстной породы, костюма из тонкой, гладкой, светло-серой ткани и платья из джерси переливчатого, неуловимо-вишневого оттенка. Кроме того сплавила по дешевке три блузки из натурального шелка – белую, голубую и кремовую.
Она написала ему злое, обширное, как инфаркт письмо, но не отправила, а потом и вовсе разожгла им печку, куда бросила накопившуюся россыпь его рукописной лжи.
В довершение ко всему она стала отращивать волосы.
В Новый год она оказалась в одной компании с комсомольским секретарем Колей Савицким и, выпив лишнего, много танцевала с ним, опустив глаза и слишком тесно к нему прижимаясь. Воодушевленный, он после этого одолел ее настойчивым вниманием, и она, охотно откликаясь на его ухаживания, ходила с ним в кино, в гости, на мероприятия и даже к нему домой.
В феврале восемьдесят шестого, во время застенчивого и многозначительного чаепития у него на квартире она, прикрывшись ресницами, подставила ему пропитанные вишневым вареньем губы, а затем, уступая его близорукому умоляющему взгляду, легла с ним в постель, направив недрогнувшей рукой его неловкие усилия в нужное и вполне еще девственное русло. Дошло до того, что между первым и вторым приступом он признался, что давно и безнадежно в нее влюблен, а между вторым и третьим сделал ей предложение.
Их часто видели вместе, и всякий, кто был знаком с ее историей, удивлялся, как быстро и деловито она утешилась с другим. Но поскольку никому не дано знать чужих мыслей, то никто и не знал то, что знала она, а именно: что ее новый друг был для нее не более чем эпилятором прошлого и что случай с Сашкой был последним в ее жизни, когда кто-то решил ее судьбу за нее.
И верно: всё дальнейшее с тех пор вершилось только по ее воле и под ее диктовку.
19
В течение тех полутора месяцев, пока длились ее страдания, пока в горячечном мятеже чувств вызревала кристаллическая решетка ее будущей воли, ковались контуры еще не вполне ясных жизненных целей и набирало градус обжигающее дыхание призвания – именно тогда в первый раз обуяла ее потребность взглянуть на их роман в обратной финалу последовательности.
И дело тут не в поисках банального камня преткновения, о который споткнулся он или она, и чье имя она тогда безусловно желала знать, даже если это знание не могло уже ничего изменить. С самоистязательной покорностью она поначалу назначила им свои нескромные, неподобающие до свадьбы ласки – ее, так сказать, запасные полки, которые она, преждевременно бросив в бой, обрекла на истощение, отчего и потерпела поражение. Нельзя было так легкомысленно и расточительно дарить ему наслаждения в обмен на пустые обещания, терзалась она.
Кстати, камень преткновения оказался на редкость многолик и в разные годы ее жизни представал перед ней в разных обличиях. Всеми обнаруженными камнями можно было бы замостить небольшую площадку, где и гулять в одиночестве, пытаясь найти ответ на куда более сложный вопрос. Нет, не сиюминутный ответ из породы тех, какими полна таблица умножения и не заключение экспертизы по поводу подлинности любовного фарфора искала она в возносящихся с пола на пьедестал кусках разбитой драгоценной вазы, а того внезапного почтительного озарения перед лицом хранимой ею тайны, никаким другим способом, кроме изумленного «Ах!..» не выражаемого. Тайны, к которой она, даже узнав однажды истинную причину его ухода, не приблизилась за все время ни на шаг.
Возможно, бесплотное искомое пряталось в рое наводящих вопросов, которые хоть и допускали каждый по отдельности вразумительный ответ, но настоящее значение обретали лишь в их многозначительной комбинации. Так отдельные линии рисунка, сами по себе ничего не представляющие, в совокупности своей образуют некий доходчивый смысл.
Ну, например: были бы они вместе, если, скажем, вместо Горбачева избрали бы Романова или кого-то другого и отменили бы прописку и распределения; если бы она была дочерью начальника и учительницы, а он не лишенным способностей шалопаем с околицы; если бы она полюбила классическую музыку, а он увлекся бы моделированием одежды; если бы он каким-то образом прочитал запрещенные в то время «Доктор Живаго» и «Окаянные дни» и не посмотрел бы «Калигулу»; если бы их улица была освещена не больными желтухой лампами накаливания, а современным, как в центре города, лебединым отсветом дня; если бы цена на нефть была не 30 долларов за баррель, а 130; если бы благодаря своевременным мерам не сокращалось по всему миру поголовье (пожалье?) пчел и не погибали редкие виды бабочек; если бы современный уровень солнечной активности не был исключительно высоким, Венера не была озабочена Раком, а слабый Марс не искал повода восстать; если бы ее кожа, следуя утверждению, что чувственность женщины прямо пропорциональна количеству родинок, была бы подобна бело-коричневому звездному атласу; если бы она к тому времени была беременна, а он неопасно заболел и она бы за ним ухаживала; если бы, наконец, он был Ромео, а она Джульетта и они жили бы по разные стороны пространства и времени – так вот, если бы все это случилось – были бы они вместе?
Были бы они вместе??
Были бы они вместе???
Хорошо, спросим по-другому:
«Была ли изначально в их романе грубая, румяная, сочная, бурливая жизненная сила или только один пылающий мираж воображения, обманчивая игра света души и температуры сердца, чье воздействие на органы чувств прекращается, как только слабеет гипноз иллюзии? Отчего завяло жизнерадостное существо их любви, еще вчера такое живое и полнокровное? Была ли это инфекция или в непостижимых глубинах его Кощеевых тайн таился до поры до времени некий ген ранней смерти, который любит поражать все живое и полнокровное? А если так, то нужны ли усилия по его оживлению, и не разумней ли смириться с утратой?»
Или еще понятней: она хотела знать – даже не знать, потому что знать то, что выходит за пределы разума невозможно, а уловить исходящую из самых глубоких недр их отношений пульсацию того неутолимого, негаснущего, термоядерного абсолюта, благодаря которому все изменения, потрясения и крушения не способны отменить в них главного – взаимной предназначенности.
И вот если сформулировать вопрос таким образом, то станет ясно, что ответ на него можно искать всю жизнь.
Ну, а Савицкий… А что – Савицкий? Сейчас он директор той самой фабрики. Не забывает, звонит. Женат, но говорит, что по-прежнему любит только ее…
Да, она помнит тот февральский, окаймленный траурными тенями вечер. Они возвращались по скрипучему снегу с последнего сеанса кино, где смотрели «Зимний вечер в Гаграх», и он, часто поправляя сползающие очки в толстой оправе, вдохновенно расставлял на своих впечатлениях идеологически верные акценты. Она молчала – фильм ей понравился. Ее тронул финал, где герой, вместо того чтобы поправиться и под бравурные звуки музыки вернуться в наставники молодежи, умирает.
Тронула и возбудила грусть морской стихии – грузной, седой и мятежной, до которой сотни и сотни веков не могут докричаться чайки. Между прочим, она уже решила, что сегодня пригласит его к себе домой, и приглашение ее, на ночь глядя, будет выглядеть весьма прозрачным. Но когда она, прервав его, предложила поехать к ней, он остановился, развернулся и, взяв ее руки в свои, сказал загустевшим вдруг голосом: «Нет, давай лучше ко мне…»
И то верно – к нему гораздо ближе.
Потом был стеснительный чай с вишневым вареньем и с его суетливым, разгорающимся смущением – бестолковая, между нами говоря, артиллерийская подготовка, при которой его деликатные снаряды ложились далеко от цели. И так до тех пор, пока в первом часу ночи обоим не стало до смешного ясно, что деваться некуда, и остается заняться этим либо здесь, на диване, либо добраться до кровати. А поскольку с диваном у нее были связаны не самые лучшие воспоминания, она, подставив ему пропитанные вишневым вареньем губы, выбрала кровать.
В безжизненные дни и ночи постлюбовной ломки, что последовали за Сашкиной изменой, она часто и мучительно воображала себе, как он каждый вечер ложится с женой в постель и занимается тем, чем до этого занимался только с ней. «Что он при этом чувствует?» – спрашивала она себя. Неужели также ненасытен и одухотворен? Неужели шепчет в чужое ненавистное ухо те же слова, что шептал ей? Неужели также благодарно принимает чужие ласки и также доверчиво ищет покоя на чужой груди? Помнится, от этих вопросов ей делалось невыносимо больно, и она топила муку в слезах. И вот теперь пришел ее черед испытать то, что испытал он.
Она доброжелательно отнеслась к неумелым напряженным поцелуям нового любовника, и если и ощущала волнение, то вовсе не то, что следует из свободного любовного томления. Скорее это было волнение человека, не вполне уверенного в том, что минное поле, которое он собирается перейти, действительно разминировано. Уже признав за сапером Савицким недостаток опыта, она дала ему себя раздеть и добраться до ее обнаженного устройства. Снисходительно понаблюдав за его бестолковой подготовкой к разминированию, она решительно взялась за дело и недрогнувшей рукой направила его неловкие усилия в нужное и вполне еще девственное русло. Почему вполне девственное? Да потому что в нем кроме Сашки (да и то два раза в год) никто больше не купался!
Кое-что ее новый любовник уже знал, но не настолько, чтобы чувствовать себя уверенно, и когда он, заботливый мальчик, за несколько секунд до взрыва собрался ее покинуть, она удержала его и шепнула в самое ухо: «Можно, можно…». Зачем ему было знать, что при кажущейся стихийности ее порыва, она на самом деле все заранее спланировала, приурочив его аннексию к одному из своих бесплодных дней.
Возможно, она очаровала его умеренной стыдливостью и сдержанностью комментариев по поводу случившегося – так или иначе, между первым и вторым приступом он признался, что давно и безнадежно в нее влюблен, а когда во второй раз она снова удержала его в себе, он, кончив дело, сделал ей предложение.
«Не будем торопиться…» – отвечала ему Алла Сергеевна, сильно за полгода повзрослевшая.
«А если ребенок?» – наивно и озабочено спросил он.
«Не волнуйся…» – ответила она.
Испытывая в ту ночь не более чем придирчивое любопытство экзаменатора, сама она от удовольствий воздержалась.
После четвертого разминирования он свернулся калачиком и заснул, уткнувшись лбом в ее спину, а мослами – в ноги. Сама же она еще долго лежала с открытыми глазами, устраиваясь на старте новой жизни.
Вот и все, вот она и сожгла мосты. И совсем не страшно, и вовсе не больно, и даже весело. Никаких сюрпризов: что тот мужчина, что этот – все они в жизни и в постели ведут себя одинаково, всем им нужно одно и то же. Что ж, теперь она будет умней и бесчувственней, и им придется за это платить. И деньгами, и замужеством, и кое-чем другим. Конечно, она может выйти за Савицкого в любое время, но сначала нужно посмотреть, чего он стоит. Почему она выбрала его? Потому что он лучше других подходил для тех целей, которые она себе определила. Да, он некрасив, не статен, но головаст и цепок в делах. Как Сашкин отец. Интересно, что сейчас поделывает его слюнтяй-сын, у которого так и не хватило ни смелости, ни совести признать себя подлецом. Ни в устной, ни в письменной форме. Одно слово – подонок, а значит, туда ему и дорога…
Она провела с Колей Савицким ночь и еще четыре года и оставила его.
20
Будучи на четыре года ее старше, Колюня, как она его звала, закончил тот же институт, где училась она, и в этом была ее самая ранняя выгода – он много, охотно и терпеливо с ней занимался.
Был он ростом чуть пониже нее, с опушенным деликатной белобрысой растительностью телом – немного рыхлым, но теплым и приятным на ощупь. Его крутолобая, обреченная на раннюю лысину голова отличника, крепко и плотно сидевшая на полноватых плечах, соображала дай бог каждому.
Числился он в планово-экономическом отделе, откуда довольно успешно управлялся с фабричным комсомолом. Учтивый и начитанный не меньше Сашки, был он при необходимости напорист, убедителен и неотступен. Одно слово – яркий тип. Емкий и перспективный.
Своим обхождением с Алечкой – покладистым, бережным, предупредительным, Колюня был полной противоположностью позднего Сашки с его вальяжными, тигриными повадками. Он, как и все, знал ее историю, вернее, принимал за нее тот переливчатый, питаемый слухами ореол, который вроде нимба парит над нашими макушками, силой сияния помечая наш чин в строю святости. Он никогда не стремился знать подробности, да она ему их и не открыла бы, поскольку любовного значения он для нее не имел. Жил он с тихой вежливой матерью, и когда Алечке приспичивало, мать безропотно отправлялась ночевать к бабушке.
Помнится, поначалу, следуя наитию свободной от любви женщины, она вела себя с ним бесцеремонно и повелительно. Не дорожа и не интересуясь им, позволяла себе капризы и невнимание, опираясь на него, как на буек, за который ей предстояло плыть дальше. Куда? Скорее всего, на запад. Но не раньше, чем через три года, когда закончит институт.
Впрочем, он с его небогатым опытом телесных отношений был совершенно ею очарован и находил в ее обращении с ним восхитительную квинтэссенцию женской природы – непредсказуемость и независимость. Он обожал ее очаровательную, далекую от вздорности раздражительность, принимая ее за тот самый хрестоматийный каприз, когда женщина удивительно схожа с ребенком, который сам не понимает, зачем ему то, что он хочет.
На первых порах они сходились не более двух раз в неделю, чтобы его двумя-тремя (больше она не позволяла) короткими резиновыми приступами и ее вялым скоротечным соучастием поддержать на плаву их странный, неожиданный союз. Со временем он, однако, осмелел, научился ее ласкать, обнаружил долгоиграющую настырность, и она позволила доводить себя до убедительного состояния. Ее лишенное ответного чувства удовольствие не превосходило при этом животной степени и далеко отстояло от того, что она испытывала с Сашкой. Когда подходило время, она укладывалась, вытягивалась и, упорно избегая его ласкать, закрывала глаза, кожей чуя, чем и как он занимается.
Однажды, приблизительно через месяц после начала их связи Алла Сергеевна, устав от его робких кружений вокруг да около, взяла в ладони его заблудившуюся у нее на животе, почти прозревшую голову и, не церемонясь, как слепого котенка, окунула носом в блюдечко с маточным молочком. Он, совсем как котенок принюхался, попробовал и принялся лакать. Да так жадно, что она вынуждена была его осадить: «Колюня, Колюня, что ты делаешь! Больно же!..»
Завершив тем самым реконструкцию малой части приемов, которыми потчевал ее Сашка, она сочла их достаточными и от дальнейшего разнообразия отказалась, как и отказалась осквернять уста о другие его места, кроме губ, да и то не до дыма и пламени, а в ползатяжки, в полдыхания.
Что ее, однако, влекло к нему, так это их отношения за пределами постели. С ним было интересно. Был он не просто начитан, как тот же Сашка – в нем была глубина, и их вечерние разговоры становились для нее полноценными лекциями и семинарами, как если бы она посещала институт. Он был в профессиональном восторге от ее любознательности, и его эрудиция и плечо всегда находились в ее распоряжении, отчего ее первоначальная расчетливость довольно быстро спасовала перед набравшим силу дружеским к нему чувством, да так, что Алка-подруга стала ревновать его к Алке-любовнице.
Без свойственного обожанию преувеличения, он с прищуренной точностью оценил ее способности портнихи. «От тебя сейчас требуется закончить институт. Все остальное за тебя сделает жизнь» – говорил он. Из всех романтических надежд, которые словно зуд обуяли страну на пороге больших перемен, он подарил ей самую большую: «Если так пойдет и дальше, то скоро мы на фабрике будем иметь собственное модельное бюро и выпускать то, что захотим…»
О чем еще в то время могли мечтать жертвы окаменевшего, мшистого приказа Минлегпрома от 1973 года, предписывающего предприятиям производить то, что им спускали дома моделей?
Свое идеальное к ней отношение он подтверждал регулярными предложениями руки и сердца.
«Нет, Колюня, – уклонялась она, – пока не окончу институт, об этом не может быть и речи! И потом – в конце концов, мы с тобой и так живем, как муж и жена! Даже люди говорят…»
Люди и вправду говорили – говорили, бог знает что, в том числе спрашивали, когда свадьба. Она отвечала, что еще ничего не решено, и тогда ей глубокомысленно советовали с этим не тянуть. Однако если она перед кем-то и чувствовала себя виноватой, то только перед его матерью.
Галина Николаевна, необъяснимо светлая и терпимая женщина была, что называется, антиподом (антиподкой?) Сашкиной мамаши – особы, в сущности, злой и бессердечной. Если есть на свете интеллигентность в чистом виде, так это Колюнина мать. Неброское достоинство и страх обидеть собеседника – вот, пожалуй, два глубоких русла, что параллельно и полноводно питали ее личность. Если ее обижали, она тут же прятала голову в раковину и старалась отползти подальше. Конечно, она работала библиотекарем (старшим библиотекарем) в детской библиотеке – кем же еще. Муж бросил ее, когда Колюне было три года, и только одного этого обстоятельства было достаточно, чтобы Алла Сергеевна, знавшая, что никогда не выйдет замуж за ее сына, всячески заглаживала перед ней свою будущую вину. Ну, например, через три месяца сшила ей за свой счет выходное платье. Галина Николаевна, тронутая так глубоко, как только может быть тронута воплощенная интеллигентность, присоединилась к восхищению сына его будущей женой. А как иначе – спать с мужчиной и не думать о замужестве? Да что вы такое говорите – подобного, мягко говоря, легкомыслия невозможно даже себе представить!
Нет, в самом деле, и Колюня, и его мать были хорошими людьми, определенно хорошими и, бывая у них дома, она испытывала странный купаж чувств: было ей с ними легко и грустно. Так легко и так грустно, что иногда она ловила себя на мысли, а не перестать ли следовать за звуком далекой трубы и не выйти ли за Колюню замуж…
Среди прочего здесь уместно упомянуть вот что.
Первое: она попробовала курить, но быстро бросила из-за запаха прелых носков, который, помнится, оставляли после себя хахали матери и который неизвестно отчего преследовал при курении ее обоняние.
Второе: они собирались поехать летом на юг, и если бы не Чернобыль, обязательно бы поехали. Впрочем, нет худа без добра: они прекрасно провели отпуск у него на даче, в течение которого она чуть было не полюбила его. А вы бы могли устоять перед его хозяйской железобетонной основательностью и орлиной крылатой заботой о своей Алечке?
Но до этого был март, и объявившийся в городе Сашка.
Алла Сергеевна, как водится, узнала о его приезде последней и совершенно случайно – пришла после работы домой, чтобы взять кое-какие вещи, перед тем как идти ночевать к Колюне. Она поднялась на площадку, а там уже находился Сашка в подаренном ею пуловере, лицо которого и сам пуловер слились у нее поначалу в бледное мутное пятно – так поразило ее его наглое беззастенчивое явление. Кровь ударила ей в лицо, тяжестью налились ноги, и она, гордо задрав голову, плохо соображая и не отвечая на его «Привет!», попыталась проскользнуть мимо. И проскользнула бы, но он ухватил ее за руку и сказал:
«Алла, ну, подожди…»
«Что тебе нужно?» – не узнавая свой голос, отдернула она руку и остановилась, обратив к нему полыхающее лицо.
«Алла, я специально приехал, чтобы увидеть тебя…» – заторопился он.
«Ну, увидел? И что дальше?» – зло прошипела она, впервые ощутив запасы скопившейся в ней ненависти.
Этот подлец совсем не изменился – такой же гладкий и сытый. Может, только непривычно серьезные глаза. Или она их уже забыла? Она бы ушла, конечно бы ушла, но мучительное (гибельное? целебное?) любопытство отверженной женщины удерживало ее на месте.
«Алла, ну прости меня…» – глядел он на нее, не решаясь приблизиться.
Что? Простить тебя? Вот так просто: ты попросил – я простила? Да ты в своем уме?!.
«Ты что, Силаев, совсем там спятил в своей Москве?! – задохнулась она. – Ты… ты… ты поступил со мной, как последний предатель и теперь хочешь, чтобы я тебя простила?! Ты что, идиот?!» – прорвался нарыв ее праведного гнева.
Он побледнел и стал опускаться на колени. Опустился: «Ну прошу тебя, Аллочка, прости меня…»
Она ожидала чего угодно, но не этого и растерялась, но тут же опомнилась и отступила на шаг:
«Вставай, вставай, а то сейчас мамочка прибежит и отругает!» – поспешила обратиться она в язву.
«Аллочка, ну, прости…» – твердил он, воздев на нее умоляющие глаза и ожидая, возможно, что она кинется его поднимать.
«Не дури, вставай!» – взволнованно отвечала она, не трогаясь с места.
Он помедлил и встал, глядя куда-то вбок.
«Ну, и что у нас случилось?» – внезапно успокоившись, язвительно спросила она.
«Я совершил ужасную ошибку, и я это понял…» – сказал он негромко и покорно.
«И что дальше?»
«Просто я хочу, чтобы ты это знала…»
«А я давно это знаю, – неожиданно мирно ответила она. – Знаю, что лучше меня тебе никого не найти, и когда-нибудь ты это поймешь, но будет поздно, потому что я тебя больше не люблю, и ты мне противен…»
Она спокойно рассматривала его лицо, покрытое невидимой проказой измены, и не испытывала ни злобы, ни жалости.
«У тебя кто-то есть?» – глядя исподлобья, невыразительно спросил он.
«А тебе какое дело! – грубо ответила она и, помолчав, добавила: – Конечно, есть. Мир не без добрых людей. Подобрали брошенную собачонку. Вот сейчас возьму ночнушку, бельишко кое-какое и пойду к нему ночевать, – издевательски откровенничала она. – Ну, что смотришь? Может, хочешь знать, что мы с Колюней каждую ночь вытворяем?»
«Нет, не хочу…» – глухо ответил он, отвернулся и полез за сигаретами.
«Ну, тогда, прощайте, Александр Иванович, и, как говорится, успехов вам в вашей трудовой и личной жизни! – с противной вежливостью пропела она и направилась к себе, но у самой двери обернулась и добавила: – И советую тебе здесь не торчать. А то не дай бог увидит моя маманя – она не то, что я: уж она тебе выскажет все, что о тебе думает!»
В ту ночь она, бешеная всадница, извела Колюню истеричной ненасытностью, шокировав его утробными стонами и хриплым рычанием, чего с ней не случалось ни до, ни после.
«Можно, я поживу у тебя с недельку?» – спросила она его наутро.
«Алечка, да как ты можешь спрашивать! Да хоть всю жизнь!» – отвечал ошарашенный ночными скачками Колюня.
Когда она через неделю появилась дома, Сашка уже уехал, зато вместо него на нее налетела лучшая подруга Нинка: «Ты где была?»
Бестолково и сбивчиво она пять минут описывала события недели, из которых составилась феерическая картина демонстративной Сашкиной гульбы, больше подходящей какому-нибудь забулдыге с рабочего поселка, чем новоиспеченному столичному инженеру.
«Не про-сы-хал! – вытаращив глаза, захлебывалась довольная подруга. – Сам в хлам и мужиков всех наших споил!»
«Только о тебе и говорил, а один раз даже заплакал! Ну, в смысле, глаза мокрые стали… – тараторила подруга. – И самое главное – вот тебе его адрес, – протянула она Алле Сергеевне бумажку. – Напиши ему!»
«Чего, чего?!» – с презрительным недоумением отшатнулась Алла Сергеевна, до этого с равнодушной кривой усмешкой внимавшая бурливому повествованию подруги.
«Просил написать и сообщить, если захочешь, чтобы он к тебе вернулся!» – жарко дышала ей в лицо подруга.
Алла Сергеевна, не меняя выражения, взяла мятую половину листка, на котором, презирая клетки, разлегся Сашкин адрес, и не глядя на него, разорвала: «Считай, что написала…»
«Ну, и дура!» – обиделась подруга.
Нет, не дура, а победительница. Она видела его – поверженного, кающегося, униженного и знает теперь, что он будет по ней тосковать всегда. Он вошел в ее жизнь между прочим и также из нее вышел, и его междупрочимость и есть его истинная ценность и судьба. Ах, как хорошо и верно она ему сказала: «Знаю, что лучше меня тебе никого не найти…» Звучит, как заклинание, как пророчество, как проклятие! Вот и пусть теперь всю жизнь мается!
Она глубоко вздохнула, и некий невидимый груз упал с ее придавленных плеч, отчего они расправились, подобно парусу.
21
Следующие три года ее жизни протекали для нее негромким и благочестивым образом. Иначе говоря, случившиеся за это время события не выходили за рамки цветастой обыденности, и для того чтобы обнаружить в них нечто значимое, пришлось бы напрячь авторское зрение.
Вот вечная забота и головная боль прилежного романиста – искать в заурядном событии источник высоковольтного напряжения, а не находя, пропускать его и стыдливо скрывать словесными шорами временнУю дыру в сюжете, как бухгалтер скрывает липовыми документами материальную дыру в бюджете. В простейшем случае это выглядело бы следующим образом: «Минуло три года», а в случае крупного литературного мошенничества приблизительно так: «Минула целая вечность». При очевидной разнице масштабов есть все же в том и другом случае некий общий ахающий нюанс, и тот, у кого хватило бы воображения представить себе жизненную массу, что с необыкновенной плотностью уместилась в нескольких словах, понял бы, что имел в виду анонимный автор фразы «В начале было слово…». Разве не хотел он этим сказать, что в слове заключен целый мир, и нужен лишь творец, чтобы его оттуда извлечь? И разве не то же самое говорят сторонники «Большого взрыва» в отношении противоположного полюса разума – неодушевленной материи?
С другой стороны, если покопаться в жизненной биомассе, то быстро обнаружится, что есть события, массой равные звездам, то есть, способные искривлять наш жизненный путь и замедлять время, а есть все остальные – невидимые, ничтожные, не массивные, неспособные искривлять, замедлять и становиться памятью. Словом, те, что принято называть звездной пылью, хотя есть люди, утверждающие, что звездная пыль массой своей превосходит все звезды вместе взятые. Как бы то ни было, но всеобщая совокупность яркого и незаметного и есть, собственно говоря, галактика нашей жизни. У одних она темнее и легче, у другие светлее и массивнее. Или наоборот.
И в этом смысле уместно спросить: обладала ли достаточной гравитацией ее первая беременность, которую она нагуляла в их июльский отпуск восемьдесят шестого года? И то сказать: до каких пор можно было безнаказанно обманывать природу!
Известно, что жажда удовольствия у некоторых чувственных женщин превосходит страх аборта. Тем более удивительно, как с ней, благоразумной, случилась такая неприятность и случилась, между прочим, по ее же вине. Притом что бедный аккуратный Колюня не уставал блюсти заведенный ею порядок, подвела ее собственная, неоднократно подтвержденная вера в бесплодные дни, которыми она порой, как острой приправой перебивала пресный резиновый вкус его неутомимого Сизифа.
Господи, да как, скажите, ей, двадцатиоднолетней самке, полуобнаженной днем и обнаженной ночью, было уберечься! Ей, распаленной солнцем, возбужденной греховной, первородной свежестью воды и вкрадчивыми эфирами трав! Ей, наливающейся живительными ягодными соками и целебными мятно-смородиновыми с душицей и чабрецом отварами; ей, впитывающей босыми ступнями плодородную силу земли и затихающей, глядя на закат, в крепких и нежных объятиях с запахом горячей, омытой, обветренной кожи!
Ну как, скажите, не потерять голову от сияющего призыва обольстительной звездной бездны, как удержаться на ее краю, когда невидимые ночные колдуны властно подталкивают тебя туда – возбужденную, распаленную, налившуюся, впитавшую, признательную – и ты падаешь и возвращаешься, падаешь и возвращаешься, а потом засыпаешь, обессиленная, голая и жаркая! Как сохранить благоразумие в ленивой неге утренних пробуждений, когда просыпающиеся руки сами тянутся навстречу друг другу, чтобы замкнуть искрящуюся цепь эволюции! Возможно ли противиться тому, что называется жаждой жизни?
Ни о чем не подозревая, Алла Сергеевна весело и деятельно принялась после отпуска за работу. Не тревожимая подозрительными признаками, она пережила сухой жаркий август, и когда пришло время болеть, приболела, но вместо привычного весеннего полноводья обнаружила у себя скудные, болезненного вида и цвета выделения. На пятый день задержки она приступила к активным дружеским консультациям, и поначалу слабовыраженная и нехарактерная картина ее немощи говорила в пользу ложного испуга, но когда на десятый день ее пришла поздравить сама тошнота, а еще через пару дней проснулась грудь, то вопрос «откуда берутся дети» из плоскости теоретической перешел в практическую.
«Где, когда, как?!» – кричала Алечка в радостное лицо Колюни.
«Откуда же я знаю!» – глупо улыбаясь, разводил тот руками.
«Ты что, нарочно это сделал?! – злилась Алла Сергеевна и замахивалась на него локтем: – Ух-х, убила бы!..»
Уж как ни радовались Колюня с матерью, как ни умилялись, но она, ничего им не сказав, пошла и сделала аборт – беременность в ее расчеты не входила. Перед этим она несколько ночей подряд предавалась отчаянному, беспорядочному, смешанному со злостью и болезненным упоением спариванию, не заботясь уже о стерильности и чувствуя себя поврежденным утилизатором мужского вожделения, этаким спермосборником накануне ремонта. Распустившему слюни Колюне было позволено совершать обширные и своенравные набеги, и после его половецких плясок она, закрыв глаза и не спеша освобождать от него свои угодья, лежала на спине и прислушивалась, как внутри нее стихает гул возбужденного соучастия.
К ее жизненным впечатлениям добавилось посещение женской консультации – заведения особого, специфического, снабжающего своих посетительниц строгим и отстраненным выражением лица, так что, взглянув на них, легко догадаться, в каком месте на самом деле прячется и в чем заключается у женщин их Кощеева тайна. Помнит, как впервые после Сашки и Колюни в ее сокровенных складках копался чужой бесцеремонный мужчина, а другой мужчина в больнице, нагнав на нее страху, проникал в нее щипцами и пытал до нестерпимой боли, до животного крика. После пытки она сказала себе, что больше сюда не попадет, а поскольку полнеть от противозачаточных таблеток не собиралась, то впредь, до очередной потери собственной бдительности посадила Колюню на строгую резиновую диету.
Все то время, что она носила в себе Колюнин подарок, она испытывала совершенно новое удивление. Умиляясь порой подробностям плодоношения, которое в ней открылось, она, тем не менее, обходила стороной даже тень намерения оставить ребенка. Да, в ней жил ее ребенок, но этот ребенок был ей не нужен, потому что, как оказалось, материнское чувство было у нее далеко не на первом месте.
Конечно, аборт можно было сохранить в тайне, но она не стала об этом заботиться, а напротив, с некой рубиконовой усладой сообщила о нем своей лучшей подруге Нинке, с которой во время своих приездов любил откровенничать пьяный Сашка.
Вырвавшись из поля притяжения светила по имени случайная беременность, Алла Сергеевна ушла в учебный отпуск и углубилась в звездную пыль. Строго говоря, неправильно считать те дни безликими – все они давали поводы, пусть даже малые, для удивления. Это теперь они превратились в тусклую, скупо позвякивающую цепочку непонятной пробы, а тогда она проживала их, словно фонды осваивала – планомерно, энергично, продуктивно и с видом на конечную цель.
То было замечательное время: в ней подспудно готовилось весеннее пробуждение – крепли знания, зрели творческие дерзания, расцветали возможности. С таким репетитором, как Колюня диплом практически был у нее в кармане, но и во всем прочем он ее старательно опекал. Например, осенью ввел в состав комитета комсомола и поручил ей направление, которое называлось научно-техническим творчеством молодежи. Дело это было темное и малопонятное, но она взялась за него и создала общественный кружок молодых любительниц кройки и шитья – прообраз будущего конструкторского бюро, которое в скором времени заработает на фабрике, но только уже без нее.
Конечно, в ту далекую от цифрового зазеркалья пору она в своих представлениях об одежде, как о стыдливой библейской принадлежности и моде, как о ее дьявольском искушении была еще далека от поздней сговорчивости и терпимости – только-только осваивалась техника впечатления, постигалась технология гармонии, усваивались традиции, проживалась новизна, обсуждались парадоксы совместимости. Все заимствованное, пришлое, чужое.
Еще не скоро ей, снисходительной законодательнице, станут близки человеческие слабости, и она поймет, что на свете недопустимо мало красивых женщин, и лишь немногие некрасивые женщины пытаются спорить с природой, остальные же живут, не обращая на себя внимания и ожидая некрасивого принца на некрасивом коне, который сделает их счастливой, как они полагают, на всю жизнь. Не скоро откроется ей, что одеваться красиво – еще не значит выглядеть красиво, и если одеваться ярко, то не до такой степени, чтобы вас путали со шлюхой: пусть лучше все небогатое, но добротное – и кошелек, и шляпка, и пальчики, и жесты, чем богатое, но вульгарное. Придет время, и она узнает, что женщине можно навязать то, что ей совсем не идет, но модно, и убедить, что белые лосины, черное пальто, красный шарф и рыжие волосы – это круто. Но все это придет к ней постепенно и нескоро, а пока дата следовала за датой, праздник за праздником, и она вместе с ними следовала за Колюней с мероприятия на мероприятие, с торжественного собрания в буфет, с дней рождения на свадьбы. Подруги выходили замуж, одна собиралась уже рожать, только Алла Сергеевна никуда, кажется, не спешила.
22
В марте восемьдесят седьмого, когда партийные и комсомольские функционеры вовсю меняли политические посты на должности директоров предприятий, Колюню взяли в райком комсомола на должность заворготдела, а в октябре выбрали вторым секретарем. От этого их совместный отпуск не сложился, и они провели лето, кочуя между квартирами и выезжая по выходным на дачу.
Перед этим в апреле в городе объявился Сашка, но поскольку родители его к тому времени перебрались в центр, то она избежала неприятной необходимости проживать с ним бок о бок. В этот раз он привез с собой главную новость – свою беременную жену. Ее тут же разглядели, оценили и доложили Алле Сергеевне: «Алка, ты бы видела это пузатое московское чучело! Ужас, до чего страшна! И что он в ней только нашел?»
Слова эти отозвались в ней благостной музыкой, но вслед им настоятельное и неустранимое желание самой увидеть соперницу и насладиться унизительным выбором изменника одолело ее. И тогда она сделал то, чего никак от себя не ожидала, а именно: поехала в центр, облюбовала во дворе Сашкиного дома (кстати, совсем недалеко от Колюниного) наблюдательный пункт и, не особо заботясь о конспирации, провела там два часа, прежде чем увидела выходящего из подъезда Сашку, который открыл с надсадным скрипом дверь и выпустил жену. Ну да, жену, кого же еще – брюхатую, развалистую девицу в том характерном беззащитном положении, каким женщины подтверждают необратимость своих жизнерадостных планов. Алла Сергеевна вдруг ясно вообразила, как однажды московская девица объявила ему, что у них будет ребенок, а он в ответ обрадовался, засуетился и засюсюкал, как это с ним случалось при приступе нежности. Запоздалая капля яда вытекла из пустой емкости, когда-то полной ненависти, и отравила прозрачный светлый день. Испытав краткое тошное затмение, она жадным ревнивым взглядом припала к сопернице.
Что и говорить – зла провинция на язык: жена предателя оказалась вполне приличной невысокой девушкой. Тем более что судить о качествах соперницы, находящейся в таком невыгодном положении, можно только предвзято. И все же чучела Алла Сергеевна не увидела. Некоторое время она с колючей усмешкой наблюдала за воркующей парочкой, а затем вышла из кустов и, не скрываясь, удалилась на виду опешившего Сашки, унося с собой именно тот вывод, за которым сюда пришла: Сашкина жена ей в подметки не годится.
Как она и предполагала, на следующий день вечером он появился у них во дворе. Вокруг него быстро собрались друзья. Она стояла за занавеской и как когда-то прислушивалась через открытую форточку к беспорядочным репликам, легко распутывая клубок густых, давно уже мужских голосов и выделяя из него Сашкин – притворно и вызывающе восклицательный, явно обращенный к ней. Подождав полчаса, она собрала вещи, спустилась во двор и, кивнув на ходу компании, направилась на остановку автобуса, чтобы ехать к Колюне. Не прошла она и ста метров, как услышала за собой догоняющие ее шаги, и Сашка, поравнявшись и заглянув ей в лицо, сказал с бессовестной беспечностью: «Привет!»
Она покосилась на него и не ответила.
Он чересчур оживленно спросил: «Ты куда? Можно мне с тобой?»
Она пожала на ходу плечами: «Не думаю, что нам по пути…»
Они молча дошли до остановки и стали ждать автобуса, не глядя друг на друга.
Сашка прокашлялся: «Тебе очень идут длинные волосы…»
Она промолчала. Сашка снова прокашлялся и пошел ва-банк: «Я тебя вчера видел…»
«А я и не пряталась! – легко и стремительно повернулась она к нему. – Я возвращалась от жениха и шла через твой двор, вот ты и попался мне на пути. Заодно узнала, на кого ты меня променял…»
«Между прочим, я приехал только для того, чтобы увидеть тебя…» – сказал Сашка.
«И на всякий случай обрюхатил перед этим жену…» – гадко улыбнулась она.
«Но ведь ты мне так и не написала, чтобы я возвращался…» – угрюмо возразил он.
«Ах, значит, это я виновата, что твоя жена в положении! Странно, а я до сих пор считала, что в этом виноваты мужчины!»
«Алла, я всегда хотел быть только с тобой!» – рванулся к ней Сашкин голос.
Она вскинула на него яростный взгляд, подыскивая слова-нокауты, но он опередил ее и торопливо проговорил: «Если хочешь, я вернусь к тебе хоть завтра!..»
«И… что, бросишь ради меня беременную жену?» – не поверила неприятно изумленная Алла Сергеевна.
«Да, разойдусь. Ради тебя» – также торопливо подтвердил Сашка.
Алла Сергеевна некоторое время смотрела на него, широко раскрыв глаза, а затем проговорила упавшим голосом: «Ты… ты знаешь кто ты…» И не договорив, круто развернулась и устремилась обратно. Он кинулся за ней и схватил за руку: «Алла!..»
Она вырвала руку, резко обернулась к нему и, прищурившись, процедила: «От-ва-ли, пока не врезала при всех!»
Он застыл на месте, а она быстрым шагом, почти бегом кинулась домой. Там она закрылась в своей комнате и впервые за полтора года расплакалась – горько, протяжно, несдержанно, подбирая платочком слезы и шумно шмыгая носиком. Плакала на груди у высшей справедливости – ни о чем и обо всем сразу, как плачут только на Руси: нафантазировав с три короба, а затем ни за что не желая с ними тремя расставаться. До языческого исступления, до цыганского самозабвения, до вселенской тоски. Плакала над треугольником, в котором не оказалось счастливых углов, а тот четвертый уголок, что скоро проклюнется, тоже будет обделен…
На следующий день она укрылась у Колюни и полторы недели дарила ему повышенное внимание: была с ним ласкова и на кухне, и на прогулке, и особенно в постели, где теряя сознание от его верноподданнических усилий, бормотала ему неслыханные слова: «Колюнчик, Колюсик, Колюшечка…». Как будто воздавала ими должное за прежнюю свою небрежность или заслонялась от кого-то третьего.
Когда она, наконец, появилась дома, на нее, как и в прошлый раз налетела подруга Нинка: «Алка, дура ты бессердечная! Сколько же можно мужика мучить! На, читай!» – и сунула ей в руку сложенный пополам листок.
Алла Сергеевна, с трудом поборов желание тут же его порвать, развернула и прочитала: «Не хочешь услышать меня – услышь Пушкина. Никогда не думал, что окажусь в таком положении!»
- «Предвижу все: вас оскорбит
- Печальной тайны объясненье.
- Какое горькое презренье
- Ваш гордый взгляд изобразит!»
И далее ровная лесенка строчек на два листа в клеточку.
«Что это?» – искренне удивилась Алла Сергеевна.
«Что, что! Стихи! Тебе! Велел передать!» – суетилась возбужденная подруга.
«Да пошел он!» – приготовилась разорвать листок Алла Сергеевна.
«Алка, дура, что ты делаешь! – вцепилась в ее руки подруга. – Стой, кому говорю! Не хочешь – отдай мне!»
«Да ради бога!»
И Алла Сергеевна, ослабив хватку, позволила подруге выхватить у нее письмо.
Несколько дней после этого она носила в себе нудное раздражение, оскорбляя им всеобщее обновление и не желая замечать свежие юные стрелки травы, что повинуясь призыву солнечной мелодии, тянулись из земли, как змеи из мешка факира, ни голые темные кроны деревьев, тронутые легкой зеленой тенью, как слабым светом небо на заре, ни мятное дыхание южных фруктовых ветров, ни смущенные игрой новых жизненных сил лица прохожих. Сашкино появление неожиданно стронуло с места лавину, уже достигшую, как ей казалось, подножия неприкаянности, а на самом деле застрявшую непонятно на какой высоте. При всей сумбурности и рыхлости лавины в ее начинке легко обнаруживались три слоя риторических вопросов: как он мог променять ее, красивую, любящую, верную, на невзрачную коротконогую замухрышку; почему после того, как несколько лет носил на руках, бросил ее и забыл, а теперь вспомнил и хочет вернуться; можно ли ему верить, даже если он раскаивается таким оригинальным поэтическим образом?
Съехав за несколько дней до очередного уровня прозрения и подмяв под себя слабые эдельвейсы жалости, лавина застряла на новом рубеже, так и не добравшись, судя по запасам раздражения, до подножья.
И то сказать: взобравшись на сияющую вершину любви, не все способны на ней удержаться – нервное напряжение, знаете ли, изнурительные порывы страсти, эмоциональное кислородное голодание, головокружение от обожания, необходимость поддерживать возвышенную форму и прочие нагрузки заставляют многих, очень многих в поисках комфорта спускаться ниже. И первыми туда, как правило, устремляются мужчины.
23
Спокойно и сосредоточенно заполняя закрома памяти зерном и плевелами, разделять которые – забота времени, добралась она до восемьдесят восьмого года, вошла в него и завьюжила дальше.
А между тем страна… Да, да, именно – а между тем. Сторонясь модной бессвязности и не испытывая нужды в косноязычных потоках рефлексии, повторим с упрямством швейной машинки: а между тем, а между тем, а между тем, тем самым воздавая хвалу дружелюбным союзным словечкам, таким же цепким и услужливым, как крючочки, скрепляющие концы бюстгальтера героини. Они словно мягкие крепкие стежки ее бирюзово-палевого комплекта, состоящего из мешковатого, трапециевидного пиджака и коротенькой юбчонки: романтичного наряда восьмидесятых, подтверждающего, как и все прочие ее наряды, что роман этот не более чем коллекция устаревшей одежды, в которую автор тщится облачить почившее время. Вот послушайте, как он шьется.
Прежде всего, карандашом или любым другим подручным средством обводят неожиданно сгустившиеся воздушные линии замысла. Набросав эскиз и запечатлев контуры очередной фантазии, приступают к снятию мерок. Можно воспользоваться таблицей типовых мерок, то есть тем, что было написано до нас, или самостоятельно обмерить фигуру приглянувшейся персоны. Иначе говоря, взять за образец потертый манекен или живую неохваченную реальность. К вашему сведению: при желании прикрыть нечто неодушевленное и прямоугольное достаточно замерить его длину, ширину, высоту и грубыми суровыми нитками-фразами настрочить незамысловатый чехол.
Следует быть внимательным при снятии мерок обхватов. Если ленту приложить туго, то на передний план выступят соблазнительные формы, и тогда неизвестно, хватит ли у автора сил справиться с формулой 90-60-90. Лучше дать зазор и добавить свободу, тем самым избавив авансцену от одержимой смазливости. И вот уже герой, не задумываясь, бросает героиню, чего он в ее облегающем состоянии никогда бы не сделал, а поверженная героиня быстро встает на ноги и ложится в постель с другим. Что поделаешь – таков свободный покрой ее модного пиджака.
Пометим себе, что лиф – пространство между линией плеча и линией талии – есть первая половина романа, а длина спины до талии, подтвержденная контрольной меркой переда, есть его длина. Почему от линии плеча вниз, а не от края юбки вверх, спросите вы? Потому что мужская любовь, а с ней и роман, всегда спускается от сияющей вершины к предгорьям. Вспомните:
«Начав с губ, он лихорадочными поцелуями запятнал ее лицо, но этого ему оказалось мало, и он спустился на голые загорелые плечи. Не удержавшись на гладких крутых перекатах, он соскользнул с них и зацепился за полукруглый вырез, из которого проступали предгорья ее полушарий. Обстоятельно обследовав их, он продолжил схождение, касаясь губами ее платья с таким благоговением, как будто это были покровы святой девы. Опустившись на колени, он запустил руки ей под подол и, обхватив бедра, прижался лицом к животу…»
Некоторые полагают, что точное соответствие одежды фигуре важнее, чем ее соответствие моде. Этим они хотят сказать, что когда события, миновав линию талии, двинутся через перевалы ягодиц в пол, надо следовать не гильотинированной юбчонке героини, а длине ее стройных обворожительных ног. Мы еще вернемся к этому замечанию.
Данные обмеров сводят в таблицу. При этом можно пользоваться карандашом или шариковой ручкой, делая пометки на тех случайных бумажных носителях, что попадут под руку.
Теперь базовое лекало. Пометим себе, что линии середины переда и спинки являются сюжетными линиями героя и героини (при этом кто из них перед, а кто спинка – решать нам), а их вертикально-горизонтальная совокупность с линиями плеч, груди, талии, бедер и низа юбки есть композиция романа.
Имейте также в виду, что все горизонтальные линии по-своему заманчивы и гостеприимны, и задерживаться на каждой из них следует ровно столько, сколько требуется, чтобы не нарушался ритм повествования.
После построения чертежа базового лекала следует внести в него изменения согласно выбранному фасону (чему). Разумеется, вы можете сделать это согласно выбранного фасона (чего), но тогда согласно современным тонкогубым правилам вы из прилежного портняжки тут же превратитесь в небрежного литератора.
Поскольку речь идет о широкоплечем, просторном, сужающемся книзу ансамбле, следует увеличить длину линии плечевого среза и, соответственно, ширину спинки и переда, переместить линию проймы и уменьшить раствор вытачек по линии талии переда и в боковых срезах. Вытачки по линии талии спинки останутся без изменений. Это будет означать, что наше повествование, размашистое вначале, постепенно будет сужаться, чтобы оборваться, едва прикрыв бедра героини. Впрочем, возможно, к концу повествования она захочет скрыть свои обнаженные и все еще привлекательные ноги, и тогда мы вынуждены будем последовать ее капризу.
Следует также решить, нужны ли легкому роману длинные рукава отступлений, тяжелые подкладки реминисценций и потайные карманы скрытого смысла, и если да, то скроить их.
Далее переходят к примерке. На шероховатую, импульсивную, первородную словесную ткань переводят обе части базового лекала, контуры обводят с запасом на швы, отсекают лишнее, а затем сметывают плечевые и боковые срезы, оставляя середину спинки несметанной: макет готов. Его надевают на тело романа швами наружу и скалывают по линии середины спинки. После этого макет редактируют – с помощью всесильных вытачек избавляются от смысловых натяжек, сюжетной слабины, чувствительных излишков, риторических морщин и словесных заломов. Важно, чтобы макет покрывал фигуру без складок и в то же время не стеснял движений. После того как подгонка закончена, исправления и уточнения переносят на базовое лекало.
Далее кроим юбку, то есть, ту часть романа, что располагается от линии талии до оборки эпилога. Собственно говоря, базовое лекало уже включает в себя самую существенную и роковую ее часть – ту, что заключена между линиями талии и бедер. Остается лишь определить ее длину, и каким будет продолжение – прямым, суженным или расширенным книзу, с боковыми швами или без них, с вытачками или фалдами и складками. Кроме того обратим ваше внимание на достаточно сложный крой ее переднего полотнища: следует каким-то противоречивым образом совместить изначальную облегающую невинность героини с выпуклым простором ее последующей беременности.